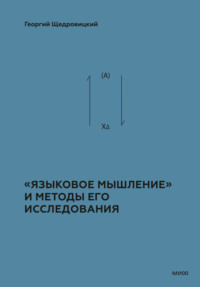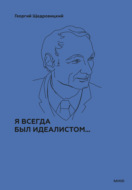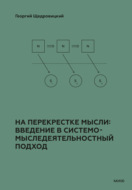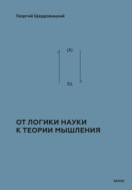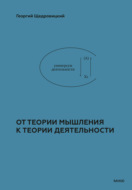Kitabı oxu: «Теоретико-мыслительный подход. Книга 2: «Языковое мышление» и методы его исследования»
Издано при поддержке Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»

Редактор-составитель А. В. Русаков
Щедровицкий, Георгий Петрович
Учение Георгия Щедровицкого: в 10 т. / Г. П. Щедровицкий. – Москва: МИФ, 2024 —.
ISBN 978-5-00214-693-2
Том 2. Теоретико-мыслительный подход. Книга 4: «Языковое мышление» и методы его исследования. – 2025.
ISBN 978-5-00250-114-4
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Текст, составление. Некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 2025
© Примечания редактора, указатель имен, предметный указатель. А. В. Русаков, 2025
© Оформление. ООО «МИФ», 2025
* * *
Предисловие к многотомному изданию «Учение Георгия Щедровицкого»
Перед вами главный проект моей жизни – издание Учения Г. П. Щедровицкого. Ничего более существенного и полезного для людей я сделать не в силах.
Идея издания появилась с момента смерти Георгия Петровича в 1994 году. Появились отдельные книги. Их вышло около двадцати. Но это не было целым. А целое замысливалось то в хронологическом подходе, то в тематическом, собирались деньги, работы начинались и останавливались, при этом публикация Учения становилась, на мой взгляд, все более актуальной задачей.
В начале 2021 года я понял совершенно отчетливо, что человек не вечен и, если не начать, все может расползтись и исчезнуть. Единственным утешением могла оказаться только та работа по архиву Георгия Петровича, которая была проделана в последние годы. Этот архив собран, оцифрован и с ним удобно работать1.
В этот раз составители предложили вместо хронологии и тематической логики логику подхода. И мне, после некоторых размышлений, эта идея показалась правильной. То ли потому, что я являюсь адептом СМД-подхода (системомыследеятельностного), то ли потому, что, будучи управленцем, понимаю, что главное, что подлежит трансляции в нашей среде, – это подход, то есть набор способов, инструментов интеллектуальной работы, которые позволяют нам мыслить мир, деятельность и мыследеятельность, участниками которой мы являемся.
Несмотря на политический флер, который в последнее время окружает Учение, когда разным как бы методологам приписывают серьезное политическое влияние на происходящее в России, я должен сказать, что «методологи» не оказали никакого, повторяю, никакого влияния на политические реалии.
При распространении Учение может кардинально поменять картину мира и, следовательно, мир как таковой. Но этот процесс займет как минимум сотню, а то и две сотни лет (хотя сетевые эффекты могут ускорять такие процессы).
Это не означает, что адепты Учения асоциальны. Нет, как люди они могут действовать: как управленцы – управлять, как образовыватели – учить, растить людей, способных меняться.
Люди живут лишь мгновенье, большинству попытка присоединиться к Великому и в нем существовать не нужна, ибо последствия зачастую несопоставимы с жизнью.
Жизнь апостолов, проповедников христианства – тому подтверждение. Только одному из них удалось умереть своей смертью – остальные были уничтожены людьми с предельной жестокостью. Но никто из них, несмотря на отсутствие интернета в то время, не исчез.
Это сравнение может показаться вычурным, но для меня оно житейское: если у тебя появилась идеология, то есть набор идей, которые после критического осмысления ты себе присвоил, превратив в подход, то они тобой движут, и ничего с этим не поделаешь.
Подход – это не концепции, это идеи и инструменты, реализуемые в живом мышлении, деятельности, коммуникации, мыследеятельности. Отдельные конкретные концепции могут быть ошибочными или неполными, а подход будет оставаться актуальным. Посмотрите на историю философии – там беспрерывно ошибались всю ее историю, но это, к счастью, не мешает человечеству философствовать.
Методология – это Учение, оно предполагает человека в деятельности, то есть человека, который постоянно практикует это Учение. А как только перестает практиковать, Учение исчезает.
Самое трудное – передать читателю Учение как подход. Поэтому мы решили, что предисловие должно состоять из живого текста тех, кто работал и продолжает работать в школе Щедровицкого, использует и развивает это Учение. Они ответили на вопрос: «Зачем это Учение нужно и что я делаю с ним?»
А. Г. Реус
Полный текст предисловия по ссылке: clck.ru/3AsXuY

Предисловие редактора
В этой книге впервые публикуется диссертация Г. П. Щедровицкого на соискание степени кандидата философских наук – по копии оригинала, хранящегося в отделе диссертаций Российской государственной библиотеки. Диссертация была защищена автором в июне 1964 года на кафедре философии Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.
В 1953 году, после защиты диплома, совет кафедры логики МГУ рекомендовал Г. П. Щедровицкого в аспирантуру. Однако руководство кафедры в лице зав. кафедры В. И. Черкесова сделало все возможное и невозможное, чтобы «завалить» соискателя на вступительных экзаменах в аспирантуру. Подробно сам Г. П. Щедровицкий описал это в своих воспоминаниях2.
Как пишет биограф Г. П. Щедровицкого и исследователь истории Московского методологического кружка А. А. Пископпель: «Формально (как окончивший [учебу в университете] с отличием) Г. П. получает распределение в аспирантуру, но его студенческая биография к тому времени была настолько “подмочена” (своей неуемной активностью и бескомпромиссностью он настроил против себя почти всю факультетскую профессуру), что поступить в аспирантуру он смог бы только после ухода с кафедры логики всех (или почти всех) преподавателей. Его тщетно уговаривали поступать в аспирантуру плехановского института, но он стоял на своем и в результате оказался “ни с чем” – школьным учителем»3.
Тем не менее, не будучи аспирантом и не имея научного руководителя, в 1956 году Щедровицкий начинает работу над диссертацией. В результате в 1960 году им была подготовлена рукопись объемом более 900 машинописных страниц. В 1962 году он делает попытку защитить диссертацию в Институте философии Академии наук СССР, но в таком объеме ее там не приняли.
В 2006 году Фонд им. Г. П. Щедровицкого опубликовал сохранившиеся материалы к этой, так называемой «большой» рукописи диссертации под авторским названием «О методе исследования мышления»4.
Для защиты в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова в 1964 году автор сократил эту рукопись до 559 машинописных страниц; были исключены главы: «Основные проблемы “системности” теории», «Основные идеи восхождения от абстрактного к конкретному», «Проблемы “нисхождения” при исследовании чувственно-множественного целого», «Особенности нисхождения и восхождения при исследования “органических” объектов»5, существенно сокращен и переработан раздел «Опыт анализа отдельного текста, содержащего решение математической задачи»6, а ряд материалов был вынесен в приложения.
В состав шести приложений к диссертации вошли результаты исследований Г. П. Щедровицкого, начиная с 1953 года7:
I. Анализ строения понятия «скорость механического движения».
II. Применение идеи «слоев» знания для решения проблем типологической классификации языков.
III. Применение «конфигуратора» в методологических исследованиях.
IV. Задачи логики в системе педагогических исследований.
V. Анализ процессов решения простых арифметических задач.
VI. Сравнительный анализ арифметического и алгебраического способов решения простых задач.
Часть этих материалов в более развернутом виде была опубликована автором еще до защиты8, часть в последующие годы (в доработанном виде). Все эти работы, включая материалы, удаленные автором из текта «большой» рукописи, будут опубликованы в данном издании в других книгах.
Основной текст диссертации публикуется в точном соответствии с рукописью, которая была защищена автором. В разделе «Цитированная литература» приводится полный список использованных автором источников. Библиографические описания списка уточнены, исправлены и дополнены в соответствии с принятыми в современных научных изданиях стандартами, а также в соответствии с задачами цитирования. Список собственных работ автора по теме диссертации также приводится полностью – с необходимыми уточнениями.
Помимо основного текста диссертации в книге публикуется автореферат диссертации – по оригиналу, хранящемуся в Российской государственной библиотеке. В текст автореферата внесены уточнения и исправления по рукописи автореферата, представленной автором ученому совету Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (арх. № 0904).
По возможности цитаты сверены и исправлены по указанным автором источникам, но не всегда это было возможно (что оговорено в постраничных примечаниях редактора).
Все схемы пронумерованы редактором. Повторяющиеся в тексте диссертации схемы удалены (ссылки на схемы даются в соответствии со сплошной нумерацией).
Также редактором введен в обозначение пунктов текста диссертации знак «§», и все ссылки автора на эти пункты унифицированы как ссылки на «параграфы», а в оглавлении текста названия глав и подглав дополнены указанием на входящие в них параграфы.
Редакторские вставки в тексте диссертации заключены в квадратные скобки.
Текст диссертации дополняют примечания редактора, именной и предметный указатели.
А. В. Русаков
«Языковое мышление» и методы его исследования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
Сейчас в науке все больше выдвигается на передний план задача специального изучения мышления. Четыре группы практических и теоретических проблем играют особенно важную роль в этом движении.
Первая относится к методологии научного исследования. Все большее число ученых в настоящее время осознает связь своих специальных наук с теорией знания и мыслительной деятельности. В XIX в. об этом говорили лишь немногие, а сейчас эту мысль выдвигает и обосновывает уже довольно широкий круг ведущих ученых – физиков, химиков, биологов, геологов, лингвистов, математиков. «Наш мозг с трудом привыкает к новым формам мышления. Мы можем научиться пользоваться ими, только выработав новый адекватный язык. Эта задача стоит сейчас перед философами и физиками, и они обязаны разрешить ее совместными усилиями для облегчения эволюции человеческого рода». Эти слова принадлежат видному французскому физику П. Ланжевену9. Не менее категорично формулируют подобные же требования А. Эйнштейн, С. И. Вавилов, П. Дирак, Н. Бор, А. Н. Несмеянов.
Изменение взглядов ученых на роль теории знания не является случайным: оно отражает объективные изменения в характере самих наук. Если первоначально предметом исследования были отдельные объекты и явления, рассматривавшиеся с разных, но не связанных между собой сторон, то теперь основным предметом изучения повсеместно становятся связи между этими сторонами и системы связей. С переходом к таким предметам изучения неизмеримо усложнилась «техника», или «технология», самой исследовательской работы. А знания о ней почти совсем не выросли, не развились.
Слабое развитие теории науки снижает общую культуру научно-теоретического мышления и, более того, в ряде случаев вообще не дает возможности решить проблемы. Каждое крупное научное открытие есть вместе с тем шаг в развитии «техники» мышления, усовершенствование его способов. Но эта внутренняя сторона научного прогресса часто умирает вместе с исследователем, а человечеству пока достается лишь «внешний» продукт его работы.
Так общий ход развития науки все настойчивее ставит задачу: выделить и выразить в обобщенных правилах сокровенную сторону мышления, его приемы и способы, его «технологию».
Вторая группа явлений, делающих крайне необходимой специальную разработку теории мышления, связана с организацией и хранением уже накопленных знаний. Темпы развития науки нарастают. Объем знаний быстро увеличивается. Растет дифференциация и специализация. Все чаще начинают повторяться в разных местах одни и те же исследования. Человечество уже приблизилось к такому моменту, когда оно не сможет полностью «переваривать» и использовать накопленные знания. Чтобы этого не случилось, надо непрерывно вести работу по классификации знаний, по отсеиванию ненужных знаний, надо непрерывно обобщать и, образно говоря, «уплотнять» их. Для этого, в свою очередь, нужно знать строение всех существующих видов знания, законы их развития и обобщения.
Подобную же задачу – исследовать строение научных знаний и операций мышления – ставит процесс обучения. Уже давно мы говорим о перегрузке школьников, а объем знаний, который им необходимо усвоить, непрерывно растет и будет расти в связи с возрастающей механизацией и автоматизацией производства. Где же выход? Решение проблемы может заключаться только в изменении характера учебного процесса, в предельной его рационализации. Ребенок должен усвоить максимум обобщенного знания в минимальные сроки, а педагог должен организовать такое усвоение. Но для этого он, прежде всего, должен знать, что усваивает ребенок, что представляют собой знания и мыслительные операции, каково их строение. Только в этом случае он сможет эффективно и быстро учить детей. Это – третья группа явлений, делающих неизбежным интенсивное развитие науки о мышлении.
Четвертый круг проблем ставится задачей автоматизации некоторых процессов умственного труда. Анализ показывает, что основные затруднения здесь возникают не столько из-за технических моментов, сколько из-за того, что мы не знаем природы, строения тех процессов, которые хотим автоматизировать. Например, тезис, что некоторые процессы мышления надо передать машине, получил сравнительно широкое признание среди математиков и инженеров. Однако при этом нередко смешивают мышление с физиологическими процессами в мозгу. Это облегчает рассуждения, но нисколько не продвигает техническое моделирование мышления. Таким образом, и здесь мы приходим к необходимости специального изучения мышления, в частности мыслительных процессов.
Таковы факторы, определяющие необходимость специального развития науки о мышлении, превращения ее в производственно-значимую науку. Не будет, по-видимому, преувеличением, если мы скажем, что уже в ближайшие десятилетия мышление станет одним из важнейших предметов научного исследования и технического моделирования10.
Но до сих пор именно этот предмет – как особое и целостное образование – меньше всего изучался и разрабатывался. К мышлению подходили с разных сторон, но ни одно из представлений, созданных в частных науках, не могло и не может удовлетворить те запросы и требования, которые выдвигаются в настоящее время практикой. Необходимо совершенно новое расчленение объекта, выделение новых сторон и переосмысление уже известных. В этой связи с особенной остротой встает вопрос об исходных понятиях и принципах, на основе которых может быть построена новая теория.
Эти соображения определили тему диссертационной работы. В ней выясняются причины и обстоятельства, в силу которых понятия традиционной (то есть формальной и математической) логики не могут лечь в основу общей теории мышления, и сделана попытка наметить систему новых логических понятий, дающих такое основание.
Работа состоит из введения, трех глав и шести приложений11. Во введении характеризуются практические и теоретические задачи, сделавшие необходимым подобное исследование, и определяются основные методологические проблемы, которые предстоит решить при построении общей теории мышления.
Первая глава работы, называющаяся «“Языковое мышление” как особый предмет исследования. Первые схемы», посвящена исходным расчленениям мышления и выделению тех его сторон, которые могут быть предметом логического анализа. В основу всех рассуждений положена гипотеза о двухплоскостном строении любой единички мышления. Суть ее состоит в предположении, что мышление есть всегда движение одновременно в двух плоскостях – обозначаемого и обозначающего.
Это предположение подтверждается уже некоторыми общими представлениями: когда какой-либо человек строит свое рассуждение, то он основывается на «усмотрении» определенных элементов и связей в объективной действительности и одновременно выражает их в определенной последовательности знаков. Точно так же понимание языковых рассуждений другого человека невозможно без «мысленного обращения» к области действительности и своеобразной «реконструкции» тех элементов и связей в этой области, которые обозначены в соответствующих языковых выражениях.
Специальный анализ показывает, что аналогичное положение существует и в тех случаях, когда мы имеем дело, казалось бы, с чисто словесными, знаковыми рассуждениями12. Поэтому, исследуя мышление, логик, психолог, лингвист должны представлять его в двухплоскостных схемах вида13:
 (1)
(1)
Эта схема изображает тот факт, что в процессах человеческой познавательной деятельности одни объекты и действия с ними (на схеме они даны справа) по определенным законам замещают другие объекты и действия (изображенные на схеме слева).
При описании этой схемы и изображаемых ею единиц мышления употребляются понятия «формы» и «содержания», но не в их традиционном, формально-логическом смысле, а в том понимании, которое было выработано К. Марксом при анализе структуры производственных отношений буржуазного общества14. Согласно этому пониманию, замещаемый элемент подобной структуры (на схеме – находящийся слева) может быть определен как содержание, а замещающий элемент (правый на схеме) – как форма, или знаковая форма. Тогда схема принимает вид:
 (2)
(2)
Произведенное изменение смысла понятий формы и содержания мышления обосновывается в специальном разделе работы анализом истории развития этих понятий в философии и логике.
На основе двухплоскостного изображения мышления, представленного в схемах (1) и (2), рассматриваются существовавшие в истории науки попытки определить природу содержания мышления и значений знаковых выражений; дается классификация возможных точек зрения и описываются те трудности, с которыми каждая из них сталкивалась. После критического анализа вводится ряд новых понятий, определяющих исследование языка и мышления с точки зрения двухплоскостной схемы. Это – понятия «знака», «содержания мышления» и др.
Вопрос о том, что представляет собой «обозначающее» в языковых выражениях (или, иначе, их знаковая форма), фактически почти не вызывал споров: большинство исследователей соглашалось с тем, что это звуки, движения, графические значки, иногда просто предметы. Но значительные разногласия возникали в вопросе, что такое знак. Часто знак отождествляют с обозначающим или со знаковой формой15. Такое понимание исключает функциональный подход к исследованию знака и порождает целый ряд трудностей в объяснении природы языка и мышления (в частности, синонимы в русле такого понимания должны рассматриваться как тождественные знаки). Иногда знаком называют всю структуру (2), включая в него и содержание. Это противоречит обычному пониманию отношения между знаком и обозначаемым и с необходимостью приводит к ненаучным идеалистическим выводам, пример которых дали В. Шуппе и Н. Лосский. Остается третье возможное понимание, которое мы и принимаем – знак есть образование вида:
 (3)
(3)
(Как правило, у каждого знака целый ряд таких «значений», но мы оставляем это сейчас в стороне, ибо важно подчеркнуть сам принцип структурного изображения знака.)
Здесь трудным для понимания кажется отождествление значения знака со связью между обозначающим (знаковой формой) и обозначаемым (содержанием). Эта трудность исчезает, как только мы примем во внимание, что всякий знак, если брать его по материалу, есть просто природное явление – звук, движение, графический значок, и в нем как таковом нет ничего, что делало бы его знаком. Эти природные явления становятся знаками, включаясь в известных ситуациях в определенную деятельность человека, и остаются знаками, поскольку они вновь могут быть включены в такую же, строго фиксированную, общественно-закрепленную деятельность, то есть поскольку они потенциально «остаются» внутри нее. Но тогда значение знака – собственно, и создающее его специфику как знака, создающее его знаковое «лицо» – есть не что иное, как то, что определяется деятельностью, способом использования природных явлений, образующих материал знака, в определенных общественных ситуациях. Изображение значений знаков в виде черточек связи является тогда лишь особым, весьма условным способом обозначения той деятельности, которая эти значения создает16, и, чтобы раскрыть суть и природу значений, необходимо, следовательно, проанализировать природу и суть этой деятельности17.
Самым важным здесь является вопрос, что представляет собой «содержание» мышления. Чтобы выделить и исследовать основные типы структур знания, мы должны прежде всего выделить и исследовать основные типы содержания мысленных знаний, а затем уже рассмотреть, как и в каких знаковых формах они выражаются, то есть, другими словами, мы должны вывести основные типы знаковых форм и структур знания из основных типов содержания. Но это не так-то просто сделать, и трудность заключается, прежде всего, в том, что содержание, или «обозначаемое», языковых выражений никогда не бывает дано исследователю языкового мышления само по себе, как таковое. Оно всегда дано или, как говорят, проявляется в определенной знаковой форме. (Кстати, это и есть та основная характеристика языкового мышления, которая позволяет применить к нему категорию «форма – содержание».) Хотя мыслящий человек, как мы уже говорили, исходит из «усмотрения» определенного положения дел в действительности, но то, что он «усмотрел» и выделил в качестве содержания своего знания, выражается всегда в определенной знаковой форме, и само это «усмотрение» и выделение невозможны без соответствующего одновременно происходящего выражения. Но это значит, что логик и психолог, если они хотят вывести типы знаковых форм и структур знания из типов содержания, должны предварительно, исходя из знаковых форм, фиксированных на «поверхности», выявить, реконструировать само это содержание и его типы. Таким образом, исследование строения языкового мышления предполагает сложное двуединое движение – сначала от формы к содержанию и затем обратно, от содержания к форме.
Приемы такого (специфически диалектического) исследования впервые были разработаны Гегелем и Марксом. Формальная логика не смогла выработать этих приемов. Поэтому, имея дело все время с мышлением, она так и не выделила того предмета исследования, который отражает специфические существенные стороны его, и вынуждена была в ходе своего развития, по сути дела, сменить задачи, а затем и предмет изучения.
В работе показывается, что структуры типа (1) или (2) являются теми минимальными образованиями, которые дают возможность выделить специфические стороны мышления. Но они еще не могут дать представления о мышлении в целом и выделяют лишь одну часть, а именно ту, которая может быть предметом логического анализа. Эта часть, в противоположность мышлению как целому, являющемуся предметом также еще психологического и лингвистического анализа, получает условное название «языкового мышления». С анализа «языкового мышления» надо начинать, чтобы потом постепенно двигаться к другим сторонам мышления18.
Вторая глава работы, называющаяся «Принцип параллелизма формы и содержания мышления в традиционных логических исследованиях и его следствия», посвящена анализу тех принципов, понятий и методов, с помощью которых традиционная логика выделяла и развертывала свой предмет изучения. В ней показано, что понять историю развития логики можно только на основе четкого различения объекта и предмета науки. Объект науки логики – мышление. Но оно не является непосредственно данным объектом, и поэтому к нему не может быть непосредственно приложен эмпирический анализ. Исследователю в качестве объекта дан лишь материал знаковой формы мышления, а само оно в целом, чтобы стать предметом исследования, должно быть еще каким-то образом восстановлено, воспроизведено на основе этого материала. В зависимости от способа восстановления получаются различные модели мышления. Одни из них больше соответствуют действительному объекту, другие – меньше. Ход развития науки определяется динамикой взаимоотношения между предметом изучения, представленным в модели, и его интерпретациями на объективную действительность.
Традиционная логика, начиная с Аристотеля и до наших дней, выделяла свой предмет изучения, руководствуясь принципом параллелизма формы и содержания мышления. В работе показывается, какие проблемы и затруднения заставили принять этот принцип. Суть его состоит в предположении, что 1) каждому элементу знаковой формы соответствует строго определенный субстанциальный, гипостазированный элемент содержания и 2) способ связи элементов содержания в более сложные комплексы в точности соответствует способу связи элементов знаковой формы. Благодаря этому структура области содержания, восстанавливаемая в соответствии с этим принципом, оказывается в точности такой же, как и структура области знаковой формы. Но тогда становится ненужным при описании строения сложных языковых рассуждений рассматривать две области – содержание и форму; достаточно описать одну – область знаковой формы, чтобы тем самым описать и другую19. В обосновании этого тезиса и состоит основное значение «принципа параллелизма». Он дает теоретическое, казалось бы, оправдание эмпирически сложившейся практике логического исследования, при которой сложные языковые выражения и рассуждения анализировались и описывались только со стороны структур их знаковой формы и это описание производилось независимо от исследования структур области содержания. При этом, конечно, исследователь не может сделать ни одного шага без ссылки на «смысл» анализируемых выражений. Но этот «смысл» ясен исследователю, как всякому мыслящему человеку, и понимание его не связано с исследованием природы и строения самого «смысла». Таким образом, принцип параллелизма оправдывает традиционно сложившийся способ исследования строения сложных языковых рассуждений, основанный 1) на понимании «смысла» языковых рассуждений в целом и их элементов и 2) на отвлечении от исследования природы и строения этого смысла.
Поскольку принцип параллелизма формы и содержания мышления обосновывает отделение исследования строения сложных языковых выражений от исследования природы содержания этих выражений и их элементов, постольку он является исходным теоретическим принципом всей формальной логики. Более того, именно этот принцип есть то, что делает вообще возможным существование формальной логики как особой науки, он определяет ее предмет и метод20.
В работе показано, что принцип параллелизма лежит в основе всех понятий формальной логики, именно он обусловливает и предопределяет, с одной стороны, ее продуктивные возможности, а с другой – ее принципиальную ограниченность и важнейшие затруднения в исследовании мышления.
Первое из них – методологическое – заключается в принципиальном расхождении между действительным строением объекта исследования, мышления, и строением его модели, созданной в формальной логике на основе принципа параллелизма. Мышление имеет двухплоскостную структуру. Ни одна из его частей – ни плоскость содержания, ни плоскость знаковой формы, – взятые отдельно, не сохраняют свойств мышления как такового, как целого. В соответствии с этим «передать», или, иначе, воспроизвести, специфические свойства мышления можно также только в двухплоскостных изображениях. А модель мышления, созданная в формальной логике, напротив, есть принципиально одноплоскостное образование, выражаемое «линейными» схемами и формулами. И это обстоятельство создает для формальной логики парадоксальное положение.
Действительно, пусть объектом изучения является языковое мышление, структура которого имеет вид (2).
Эта структура может рассматриваться в нескольких различных направлениях:
1) как целое и в то же время как элемент еще более сложного целого – с точки зрения его «внешних» связей и обусловленных ими свойств-функций;
2) как целое, изолированное от всяких внешних связей, со стороны атрибутивных свойств, обусловленных его внутренним строением и составом элементов;
3) как внутренне расчлененное целое, но взятое со стороны одного элемента, именно – знаковой формы;
4) как внутренне расчлененное целое, но взятое только со стороны объективного содержания как элемента этого целого.
Каждое из этих направлений исследования будет давать нам особое знание о структуре языкового мышления, каждое из них необходимо для общего знания об этой структуре в целом, и каждое особым специфическим образом, соответствующим его действительному месту в этой структуре, должно соединяться с другими в этом общем знании. Но дело в том – и именно здесь заложено основание рассматриваемого парадокса, – что способ объединения и группировки этих свойств, выделенных различными путями, определяется нашим пониманием структуры мышления, то есть той моделью мышления, которая существует и которая выражается в принятых способах изображения. Но модель, принятая в формальной логике, является одноплоскостным образованием, больше всего отвечающим структуре знаковой формы, и все свойства, выделяемые в языковом мышлении различными путями и, по существу, в разных «предметах» исследования (вся структура в целом, различные ее элементы и т. д.), должны объединяться и группироваться в соответствии со структурными возможностями этой одноплоскостной – по сути дела частичной – модели.
Это порождало массу ошибок в объяснении эмпирически выявляемых свойств мышления и в конце концов привело к полному отказу от эмпирических исследований в логике21.
Другим важным следствием принципа параллелизма является то, что знаковая форма мышления рассматривается в формальной логике всегда как независимая от содержания. Наиболее четко и последовательно эта позиция выражается в положении о всеобщей применимости формул логики. Его можно найти в подавляющем большинстве логических работ. В античной и средневековой логике, в период Возрождения и в XVII в. это положение фиксировало одну из сторон логического понимания мышления; у Канта и после него оно стало не просто одним из принципов теории, но принципом, характеризующим специфику всего «формально-логического», определяющим область и возможные направления развития формальной логики22.