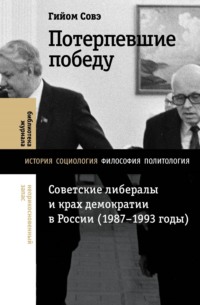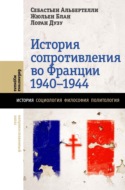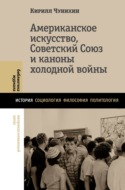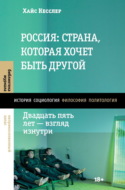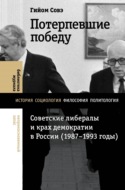Kitabı oxu: «Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы)»
УДК [329.12: 321.7](091)(47+57)«1987/1993»
ББК 63.3(2)64-412
С56
Редактор серии А. Куманьков
Перевод с французского А. Герцик (введение, гл. 1–5), Г. Совэ (гл. 6–7, заключение)
Гийом Совэ
Потерпевшие победу: Советские либералы и крах демократии в России (1987—1993 годы) / Гийом Совэ. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).
Эпоха перестройки и окончания холодной войны была временем взлета либеральной интеллигенции, оказавшейся в этот период на авансцене политического театра. Почему этот подъем был столь непродолжительным, а падение – столь драматичным? Книга Гийома Совэ показывает парадоксальную и трагическую судьбу интеллектуалов, которые, поддерживая концентрацию власти в руках просвещенного реформатора, способствовали подрыву собственного политического проекта. Автор исследует сложную систему взаимоотношений между интеллигентами и властью на излете советского проекта, а также реконструирует систему ценностей, в рамках которой действовали главные акторы перестройки и демократических реформ. В центре внимания оказываются полемика внутри либеральных кругов, их взаимоотношения с националистами и коммунистами, принципиальные решения и компромиссы, на которые приходилось идти сторонникам демократии, и другие важнейшие аспекты политического становления современной России. Гийом Совэ – политолог, преподаватель Университета Монреаля.
На обложке: академик Андрей Сахаров и председатель Совета группы Борис Ельцин по окончании заседания Межрегиональной депутатской группы на II Съезде народных депутатов. © Игорь Зарембо / РИА Новости
ISBN 978-5-4448-2819-9
Subir la victoire. Essor et chute de l’intelligentsia libérale en Russie (1987–1993)
Édition Originale © Presses de l’Université de Montréal.
© А. Герцик, перевод с французского предисловия, гл. 1—6, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Введение
В конце 1980‑х годов Россия оказалась в эпицентре ударной волны, которая перевернула историю страны и изменила облик мира1. Михаил Горбачев, генеральный секретарь Коммунистической партии, начал обширную программу реформ, известную как перестройка, которая ознаменовала переход к демократии и рынку, дала свободу странам-сателлитам социалистического лагеря и положила конец холодной войне. Горбачев невольно открыл ящик Пандоры, из которого появились все противоречия Советского государства: экономическая отсталость в сравнении с капиталистическим Западом, сепаратистские движения, волна протестов против привилегий номенклатуры и т. д. В результате ожесточенной политической борьбы СССР был окончательно распущен в декабре 1991 года, к большому удивлению многих советских граждан и иностранных правительств. На руинах социальной империи, которая считалась незыблемой, возникла новая Россия, нащупывающая свой путь в сообщество капиталистических демократий.
Одним из наиболее примечательных эпизодов этого бурного периода стал впечатляющий взлет советской либеральной интеллигенции в общественной жизни России, за которым последовало ее стремительное падение после перестройки. Нам следует в полной мере оценить значимость этого явления, исключительного как с политической, так и с интеллектуальной точки зрения. Открытость публичной сферы, постепенно ставшая реальностью после десятилетий жестокой цензуры, пробудила море надежд и жажду новых идей. Горбачев призывал интеллигенцию высказывать свое мнение и открыто обсудить проблемы, с которыми сталкивается страна, чтобы поддержать путь реформ и ослабить позиции тех, кто им сопротивлялся. Это было начало золотой эры для советских интеллектуалов, которые стали любимцами газет, журналов и телевизионных программ. Французский литературовед Жорж Нива, давний и тонкий знаток российского общества и русской культуры, свидетельствует: «Интеллигенция нашла в перестройке свой идеальный режим <…> телеэкраны и толстые журналы боролись за [ее] расположение. Это было время, когда каждый день я узнавал на экране своих друзей из московской интеллигенции»2. Начиная с 1987 года основным бенефициаром этой медийной манны становится так называемая либеральная интеллигенция, поскольку ее представители отстаивают видение социализма, которое включает в себя многие либеральные идеи: представительную демократию, права человека, верховенство закона, рыночную экономику и т. д.3 Многие из советских либеральных интеллектуалов, чья известность раньше не выходила за пределы узкого круга посвященных, внезапно стали знаменитыми: их статьи регулярно появлялись в крупнейших национальных СМИ, их приглашали выступать на конференциях по всей стране и за рубежом. Их влияние на общественное мнение в то время было таким, о котором их западные коллеги могли только мечтать. Чтобы проиллюстрировать это, приведем обычную сцену времен перестройки: ранним зимним утром десятки советских людей регулярно выстраивались под снегом в очередь перед газетными киосками в надежде получить в руки свежий номер «Нового мира» или «Знамени», аскетично оформленных черно-белых интеллектуальных журналов, в которых мелким шрифтом на некачественной бумаге печатались многостраничные статьи. Чем можно объяснить такое интеллектуальное рвение? Причина проста: эти журналы предлагают ранее запрещенные литературные тексты и полемические статьи, которые раздвигают все мыслимые и немыслимые границы дозволенного после долгих лет замалчивания. От Калининграда до Владивостока обсуждаются преступления Сталина, демократизация, а вскоре и преступления Ленина и Коммунистической партии. В условиях советской власти либеральная интеллигенция привлекла на свою сторону широкие слои городского и образованного населения, которое оказалось политически активным. На самом деле роль этих интеллектуалов не ограничивалась сферой идей. Как только весной 1989 года состоялись первые полудемократические выборы, некоторые из этих интеллектуалов включились в новую политическую деятельность. Известность в средствах массовой информации, которую они приобрели в предыдущие годы, позволила им возглавить демократическое движение, чье противостояние Коммунистической партии имело оглушительный успех. Это движение организовало крупнейшие в истории страны демонстрации и привело к власти Бориса Ельцина, ставшего главным архитектором распада СССР и первым президентом постсоветской России.
Потерпевшие победу
Для многих либеральных интеллектуалов победа над коммунизмом имеет очень горький привкус, поскольку их безоговорочная поддержка Ельцина создала условия для их собственной маргинализации. Поощряя концентрацию власти в руках президента, они вскоре оказались отодвинутыми на второй план вместе со всеми теми, кто мог бы сформировать систему сдержек и противовесов, и потом беспомощно наблюдали, как в Чечне разгорается кровопролитная война. Лариса Богораз, ветеран диссидентского движения против советского режима, так выразила свое сожаление: «Это полностью наша вина. Мы испытывали такое глубокое отвращение к советскому режиму, что считали, что он должен быть уничтожен любой ценой. Поэтому мы поддержали Ельцина, приведя его к мысли, что он может делать все, что захочет»4. В то же время либеральная интеллигенция была в значительной степени дискредитирована связью со все более авторитарным режимом Ельцина и экономическими реформами, которые ввергли большую часть населения в нищету. Резкое падение либеральной интеллигенции в начале 1990‑х годов, столь же стремительное, как и ее подъем во время перестройки, совершенно непропорциональны неизбежному консервативному откату, который следует за любой революцией. В ряде других стран Восточной Европы, таких как Польша и Литва, либералы проиграли выборы, но через несколько лет вернулись к власти. В России же падение либеральной интеллигенции было более сокрушительным и долгим. В течение десяти послеперестроечных лет поддержка либеральных партий на выборах снизилась до ничтожного уровня, в то время как националистические и консервативные идеи приобрели огромную популярность. Относительная свобода 1990‑х годов и сохраняющееся влияние некоторых либеральных экономистов на правительство не должны заслонять тот факт, что либеральная интеллигенция в целом была дискредитирована, и это сделало ее достижения очень хрупкими на фоне плана президента Владимира Путина по восстановлению государственной власти с 2000 года. От грандиозного взлета в 1987 году до стремительного падения после принятия суперпрезидентской конституции в 1993 году – такова странная судьба советских либеральных интеллектуалов, чей успех в борьбе с Коммунистической партией был достигнут ценой собственного падения, выраженного в знаменитой фразе одного из них: «Мы потерпели победу»5.
От триумфализма к разочарованию
Сегодня иногда кажется, что эти события относятся к давно ушедшему миру. Однако перестройка – это совсем недавнее событие, о чем свидетельствует тот факт, что большинство писавших о ней являются либо ее участниками, либо непосредственными наблюдателями. В отсутствие успокаивающего эффекта времени тон и выводы этих анализов весьма неоднозначны и быстро меняются с 1991 года, по мере того как перспектива перехода России к демократии становится все менее правдоподобной.
Что касается интерпретации взлета и падения либеральной интеллигенции, то мы выделяем две основные историографические тенденции: с одной стороны, триумфализм, который одобряет обращение этих интеллектуалов к западным либеральным идеям как знак их прогрессизма, а с другой стороны, разочарование, которое осуждает их ошибки и ослепление6.
Триумфалистские интерпретации объединяет небывалый энтузиазм по отношению к либеральной интеллигенции, чью независимость от советских догм они прославляют. Отказ от священных символов марксизма-ленинизма трактуется как знак обращения к идеям противоположного лагеря времен холодной войны – западных либеральных демократий. Первые работы, содержащие такую трактовку, появились уже в начале перестройки7. В ответ скептикам, рассматривавшим реформы как очередную пропагандистскую кампанию, в этих работах перестройка приветствовалась как высвободившееся наконец-то стремление растущей части советского населения, пользующейся преимуществами урбанизации и высшего образования, к индивидуальной свободе и демократии. Таким образом, появление демократических и либеральных идеалов у советских людей интерпретируется как результат модернизации, аналогичной той, что уже произошла в западных странах. Эта модернизационная интерпретация питает предположение о сходстве: кажется само собой разумеющимся, что демократическое движение в СССР «стремится к изменениям в направлении либеральной или социал-демократии, в том смысле, в котором эти термины обычно понимаются на Западе»8 или что его можно назвать либеральным «в классическом европейском смысле»9. Советские либеральные интеллектуалы были любимцами западных коллег, которые узнавали в них себя и поощряли распространение их идей за пределами СССР, что привело к публикации обширной литературы, переведенной на английский, французский, испанский, немецкий и японский языки. Возникшая лубочная картинка перестройки представила либеральную интеллигенцию как знаменосца современного прогрессивного мышления, сравнимого с западным либерализмом.
Этот триумфалистский взгляд был настолько глубоко укоренен в коллективном воображении, что остался неизменным в произведениях некоторых авторов, несмотря на многие горькие разочарования 1990‑х, когда самые оптимистичные прогнозы либеральной интеллигенции не воплотились в конкретные действия и разрыв между провозглашаемыми принципами и реальной политикой тех, кто называл себя «демократами», стал слишком очевидным10. Однако после прихода к власти Владимира Путина большинство сторонников этой трактовки по крайней мере сочли необходимым объяснить, почему западные либеральные идеи, несмотря на их первоначальный триумф во время перестройки, были отодвинуты на второй план или отброшены. К наиболее распространенным объяснениям относятся моральное разложение советского населения, определенные российские культурные атавизмы или структурные факторы, связанные с трудностями одновременного перехода к демократии, рынку и национальному государству11. Во всех случаях предполагаемые причины взлета и падения либеральной интеллигенции носят в основном экзогенный характер и не подрывают основное предположение о ее сходстве с западным либерализмом.
В 1990‑х годах, когда в России начался экономический спад, а режим все больше и больше проявлял свой недемократический характер, оптимистическое представление о либеральной интеллигенции как авангарде западной современности становится предметом нарастающего скептицизма. Некоторые разочарованные исследователи, среди которых немало бывших сторонников российских демократов, резко критикуют интеллигенцию, обвиняя ее в том, что она увековечила определенные черты, которые, как считалось, должны были исчезнуть вместе с советской идеологией: авторитаризм, нетерпимость, патернализм и коррупция. Не отрицая важности структурных факторов, препятствующих установлению демократии в России, такая точка зрения настаивает на причинах неудачи, которые являются эндогенными для либеральной интеллигенции. Мы отмечаем два варианта этих трактовок разочарования: тезис о негативности и тезис о перевернутых понятиях.
C одной стороны, тезис о негативности утверждает, что либеральная интеллигенция не предлагала никаких идеалов или политического проекта кроме неприятия коммунизма. Похоже, что борьба против существующей системы была мотивирована лишь своего рода моральным протестом, расплывчатым и невнятным. Под видом обращения к западным либеральным идеям произошел лишь отказ от советской идеологии или даже от идеологии вообще. Оглядываясь назад, многие либеральные интеллектуалы охотно демонстрируют скептическую позицию по отношению к перестройке, чтобы дистанцироваться от ее идеалов, которые сегодня в России в значительной степени вышли из моды12. Тезис о негативности отстаивается также некоторыми исследователями, которые осуждают неспособность либеральных интеллектуалов предложить новое позитивное видение мира, которое могло бы закрепить роль демократических политических партий, в результате этот провал спровоцировал расцвет ностальгии по идеализированному советскому прошлому13. Наиболее развернутый аргумент в пользу тезиса о негативности можно найти в работах историка Тимура Атнашева, опирающегося на свою неопубликованную кандидатскую диссертацию о трансформации политического дискурса перестройки14. Обращаясь к тексту историка Джона Покока о «макиавеллистском моменте», который ознаменовал рождение современной политической мысли на Западе15, Атнашев описывает конец перестройки как «антимакиавеллистский» момент, характеризующийся отказом от легитимности человеческой деятельности в пользу слепой веры в естественную и позитивную по своей сути эволюцию истории16. По мнению Атнашева, эта «субъективная некомпетентность» помогает объяснить мирную смену режима, а также слабость возникшего политического общества, по сути консервативного в своем недоверии к любому сознательному и добровольному проекту политической трансформации.
С другой стороны, тезис о перевернутых понятиях является прямым ответом на главный постулат триумфалистской интерпретации, а именно отказ от официального марксизма-ленинизма и обращение советских интеллектуалов к западным либеральным идеалам. Сторонники этого тезиса утверждают, что между двумя полюсами на самом деле больше преемственности, чем различий. Таким образом, либеральная интеллигенция якобы унаследовала от советской идеологии волюнтаристский и непримиримый политический максимализм, который запрещает ей идти на компромиссы, необходимые для практики демократии, и оправдывает все эксцессы власти во имя необходимой модернизации. Так, позицию либеральных реформаторов стали называть «рыночным большевизмом»17 или «ленинским либерализмом»18 – терминами, передающими образ просвещенной, мессианской элиты, унаследовавшей политическую культуру советских предшественников и взявшей на себя ответственность за навязывание прогресса отсталому большинству19. По мнению политолога Александра Лукина, который сформулировал наиболее детальную версию тезиса о перевернутых понятиях20, политическая культура российских демократов по существу перенимает советскую идеологию, признаки которой она меняет на противоположные: империалистический Запад становится «цивилизованным миром», а социалистический лагерь – империалистическим «тоталитарным миром»; СССР уже не опережает капиталистический мир, а отстает от него; истинная демократия носит либеральный характер, а советская – лишь маску классового господства и т. д. Этот долг перед советской идеологией, заключает Лукин, объясняет, почему российские демократы оказались неспособны основать либеральную демократию или хотя бы государство в рабочем состоянии.
В современной России вера в то, что позднесоветские либералы якобы проявили революционное высокомерие, широко распространена во всем политическом спектре, в том числе и среди либералов. Для многих из них это предположение служит еще одной иллюстрацией присущего русской интеллигенции радикализма и опасностей, связанных с мобилизацией масс, если она не сдерживается просвещенным лидером21. Этот общепринятый «исторический урок» эпохи перестройки во многом способствовал формированию характерных для современной России антиреволюционных настроений, которые вращаются вокруг идеи, что «даже плохой порядок лучше, чем его разрушение»22. Подобные настроения впоследствии целенаправленно культивировались режимом Владимира Путина, чтобы противостоять призраку «цветных революций»23.
Выйти из холодной войны
В атмосфере разочарования 1990‑х годов сформировались новые подходы, окончательно развенчавшие гипотезу о том, что глобальное распространение либеральных идей равнозначно всеобщему внедрению либерализма. В этом заключается их преимущество, однако у них есть и слабая сторона. Речь идет о склонности объяснять политическую деятельность либеральной интеллигенции структурной предопределенностью идеологического характера, неважно «негативной» или «большевистской». Для того чтобы уточнить наше понимание политической и интеллектуальной жизни в период перестройки, мы считаем необходимым выйти за пределы интерпретационных рамок холодной войны, которые в России, как и в других странах, обращаются к политической мысли второй половины XX века через призму бинарных идеологических противопоставлений. Эти интерпретационные схемы, очевидно, присущи триумфалистскому видению преобразований, но также и тезису об инверсии, согласно которому несоответствие западному либерализму показывает бессознательную привязанность к противоположной идеологии. Тезис о негативности выходит за рамки бинарной альтернативы, но остается зависимым от ее концепций: там, где политическая мысль не оформлена в виде четкой политической доктрины или полноценной идеологии (по примеру марксизма-ленинизма и либерализма), есть только аполитичность и прагматизм.
Конечно, интерпретационные рамки холодной войны имеют под собой основание; они соответствуют духу поляризации своего времени. Однако их недостаточность очевидна, когда речь идет об анализе пограничных случаев. Как правило, это относится к перестройке, ознаменовавшей временной предел холодной войны и представившей собой поворотный момент, когда советский опыт становится одновременно слишком похожим на западный, чтобы изучать его как исключительный, но все еще слишком отличается от западного, чтобы можно было напрямую применять к нему модели, принятые на Западе. В научных работах о советском обществе эта неопределенность вызывает явные методологические затруднения. Самый подробный анализ осторожно останавливается на начале перестройки, как будто она внезапно положила конец советской специфике24. И наоборот: как мы уже видели, исследователи, рассматривающие перестройку с точки зрения якобы универсальных процессов, таких как модернизация, переход к демократии или создание партийной системы, склонны объяснять поведение ее протагонистов с помощью устоявшихся идеологических категорий, которые, как выясняется, неуклюже вписываются в реальность российской политики.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.