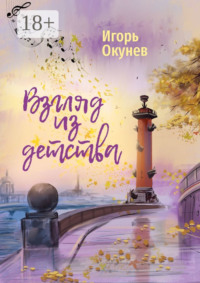Kitabı oxu: «Взгляд из детства. Этюды»
Редактор Инна Харитонова
Корректор Екатерина Фёдорова
Иллюстратор Марина Шатуленко
Дизайнер обложки Вера Филатова
Верстка Светлана Иванова
© Игорь Окунев, 2024
© Марина Шатуленко, иллюстрации, 2024
© Вера Филатова, дизайн обложки, 2024
ISBN 978-5-0051-0783-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Нынче у большинства людей короткое дыхание: живут сегодняшним днем, не оглядываясь на прошлое, не заглядывая в будущее. Рассказы Игоря Окунева поражают сочетанием детской искренности, захваченностью чувствами и серьезностью самоанализа, соседством патетического отношения к жизни и иронии. Его образы неожиданны и самобытны, хотя современная тривиальность лексикона оказывается необходимой краской для нынешних героев и ситуаций. Но в целом побеждает интонация глубокого, страстного и напряженного размышления о законах жизни и человеческой души. Отсюда, очевидно, приверженность к афоризмам и символическим образам, которая особенно рельефна в «Разлуке» и «Кровавом воскресенье». И это не библейское всеведение, а плод человечности, способности остро слышать биение человеческого сердца и даже в толпе различать лица. Игорь Окунев, при все восторженности юноши, только входящего в жизнь, пишет не идиллии, а драмы, смягченные то иронией, то надеждой на теплоту, чистоту как основу жизни. Правда, добрым свидетелем происходящего чаще оказывается детская игрушка («Плюшевый мишка»), правда, увлечения оборачиваются обманами, и подползают горькие мысли о подполье, куда люди прячут грехи и разочарования. И все-таки побеждает в сборнике уверенность в том, что мир прекрасен, а жизнь полна чудес. Это не прекраснодушие ребенка, а святость пророка. Дай бог, чтобы эта вера сохранилась в авторе и передавалась его читателям, чтобы люди поняли, что любовь – это не владеть, а дарить.
В. Г. Маранцман,
доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии
образования
апрель 2006
⠀
⠀
Отзыв выдающегося русского литератора, создателя научной школы методики преподавания литературы Владимира Георгиевича Маранцмана дорогого стоит. Многие авторы мечтали бы получить от него отзыв, подобный приведенному здесь отклику на рассказы Игоря Окунева, – ведь Владимир Георгиевич обладал незыблемым авторитетом в области русской литературы. Этот авторитет основывался не только на высоких научных званиях и должностях профессора В. Г. Маранцмана, но и на его личном поэтическом творчестве, вершиной которого стал блистательный перевод на русский язык великой поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия».
Отзыв написан Владимиром Георгиевичем в год издания перевода поэмы Данте и меньше чем за год до его трагического ухода из жизни. Поразительно, как внимательно, трогательно и деликатно отнесся выдающийся ученый и поэт в год максимального жизненного напряжения к первому литературному шагу юного автора, студента филфака СПбГУ. Его отзыв сам по себе литературный шедевр. Краткий анализ рассказов Игоря Окунева сопровождается такой образной полифонией, таким глубоким проникновением в замысел, не всегда очевидный даже самому автору, что читателю хочется еще раз перечитать рассказы, посмотреть на них с высоты сказанного Владимиром Георгиевичем.
Лучше, чем Владимир Георгиевич, не скажешь. Хочу лишь добавить, что каждый вдумчивый читатель найдет в прозе Игоря Окунева свое, личное, непредвиденное. Это на самом деле очень современная проза, не теряющая, однако, связи с традициями классической русской литературы. Современность видения окружающего мира и исторических событий обеспечивается как свойственной симфонической музыке стертостью и неоднозначностью переходов, так и резкими перепадами настроения.
Рассказы в книге выстроены в ретроспективном порядке и отражают переломные моменты в жизни и творчестве автора: 22 года, 19, 16 и 14 лет. Их связывают в единую линию повествования сквозные сюжеты: любовь, свобода, вера, Петербург, плюшевые игрушки… Постепенно теряя литературную искусность, рассказы становятся все более непосредственными и ранимыми. Мы как бы снимаем слой за слоем пласты накопленной боли с души писателя, которые часто принимаются нами позже за мудрость и опыт. И наконец, встречаемся с тем самым чистым и восторженным детским взглядом, вынесенным в заглавие книги, обращенным к нам из прошлого.
Со времени написания представленных в этой книге рассказов и отзыва о них прошло уже более десяти лет. Автор «Взгляда из детства» давно с детством расстался, окончил СПбГУ и аспирантуру МГИМО, получил первое признание как ученый в области политической географии и возглавил профильный исследовательский центр в МГИМО. Но литературный дар, о котором ему постоянно напоминают сочиненные в юношеские годы рассказы, не исчезает. Не сомневаюсь, что этот дар Провидения еще пробьется у Игоря Окунева сквозь оболочку научных проблем и сиюминутных жизненных забот и даст новые талантливые всходы. Желаю ему успеха и удачи на этом пути!
Ю. Б. Окунев, писатель
май 2020
От автора
Если бы меня спросили, зачем Господь создал человечество, я бы предположил, что ради того, чтобы послушать Пятую симфонию Чайковского. Для этого нужно было сотворить противоречивых и страдающих людей и дать им тысячи лет скитаний и поисков, которые привели бы к появлению нравственности, культуры и классической музыки, вершиной которой стали симфонии Петра Ильича. Не исключаю, что закат художественной и, в частности, музыкальной традиции, да и вообще все разрушительные события в XX веке, связаны с тем, что после Пятой симфонии потомки Адама перестали быть интересны Творцу.
В Пятой симфонии человечество сумело окончательно убедить Создателя в том, что творчество способно побороть смерть, а значит, человек может разомкнуть оковы бытия, в которые высшая сила его заточила. Когда я слушаю, как в конце произведения вступают фанфары, мне всякий раз кажется, что эта музыка мощью торжества духа над естеством сейчас поднимет из могил мертвых. Но всякий раз, переживая этот грандиозный финал, я задавался вопросом, как можно было после такого написать Шестую симфонию, в которой, как известно, смерть побеждает и добродетель, и любовь, и созидание? В которой нет финала: музыка, как и человеческая жизнь, обрывается случайно, на полуслове, на полузвуке… Я благодарен судьбе за то, что она дала мне ответ на этот вопрос…
В один из самых сложных моментов на моем пути, когда случилось так, что коварная сила пробовала отнять у меня мое творческое предназначение, я отправился в Московскую филармонию. В тот день в программе концерта стояли Пятая и Шестая симфонии Чайковского, вернее, как я узнал, уже сидя в первом ряду партера, вначале Шестая, а потом Пятая. На такую дерзость решилась гастролировавшая японская дирижер, поскольку давать эти произведения в одном концерте считается неправильным – они требуют от исполнителей и слушателей столько эмоциональных сил, что можно истечь кровью вместо того, чтобы получить эстетическое наслаждение.
Первое отделение закончилось мрачным и беспросветным финалом Шестой симфонии, которое очень гармонировало с моим тогдашним настроем: неодолимость рока была почти осязаема. Опустошенный, я вышел из зала и присел на скамейку в фойе. Я помнил Шестую и Пятую симфонии наизусть еще с детства, когда, запершись в комнате, по-ребячески пытался дирижировать под их исполнение на магнитофоне. Я знал, что меня ждет в финале Пятой симфонии величественная музыка сокрушительной победы света над тьмой. Но я твердо заверил себя, что ничто, даже великолепный финал Пятой симфонии не может растопить отчаяние, в котором я находился, и развеять мрак, которым Чайковский закончил свою последнюю симфонию, после исполнения которой вскоре умер. Я вернулся в зал и услышал первые ноты Пятой симфонии, те самые – из гулкой пещеры гробового финала Шестой…
А потом случилось чудо: выйдя в самом начале из ада финала Шестой симфонии, музыка Пятой прошла сквозь чистилище человеческих тревог и сомнений и вознеслась в рай. Когда слезы проступили на моих глазах при звуках возвращающих с того света финальных фанфар, я понял, что Чайковский написал Шестую симфонию именно как предисловие к Пятой. Потому что без Шестой невозможно понять всю бесконечную неодолимость смерти, а без Пятой – что человек все равно способен ее победить.
Я вышел обескровленным, но уже победителем в своей судьбе. Я не знал тогда, да и не знаю сейчас, как именно сломить рок, но я знаю точно, что победить его возможно – верой и творчеством.
Именно тогда я и решил непременно издать этот сборник своих отроческих рассказов. Не потому, что претендую на какое-то признание, но потому, что мне важно, чтобы этот слепок моего скромного юношеского творческого огня лег пусть на самую дальнюю полку в книжном шкафу.
Ну а жизнь уже имеет смысл, если ты хоть раз слушал Шестую и Пятую симфонии Чайковского.
Игорь Окунев,
июнь 2020

Ни слова о любви
– 1 —
Иногда вдруг, и как же беспощадны и одухотворены эти мгновения, сердце забьется ритмом прошлой любви: окутает тебя той аурой, воскресит ту муку счастьем, опьянит соприкосновенностью с блаженством и также неожиданно оборвет чудное воспоминание. Но растаявший сон оживет тут же, оживет дымчатыми полутонами и едва уловимыми прикосновениями, которые, родившись в погрезившихся ласках, застынут на тебе. И бейся тогда душа в клетке тела, рвись неровным дыханием, колоти по венам кровью – ничто уж не поможет. Вся пустота мира обнаружится перед тобой, вся бессмысленность каждого твоего вздоха закричит истошно. Стрелки на часах собьются и вонзятся стрелой в то время, единственное время, когда оно имело смысл, единственное время, которое существовало. Лед запылает пламенем, благодать обернется страданием, и противочувствие этого мира разорвет тебя.
Беги тогда, беги не оглядываясь, беги, как бежит больной амоком, до потери пульса, истязая ноги, задыхаясь и умирая, беги что есть мочи. Так, чтобы душа вновь зачерствела и покрылась наростом суетности и пустомыслия. Беги, потому что еще один глоток прошлого – дуновение забытого поцелуя или обрывок последней оброненной тогда фразы – ты уже не стерпишь.
Прошлого нет, настоящее гибнет тут же, гибнет безвозвратно и непременно. Там, в прошлом, нет ничего – ни твоей утраченной духовной полноты, ни осмысленности твоего естества. Попробовать вернуть прошлое – значит умереть в настоящем. Здесь и сейчас у тебя есть любовь, любовь, которая единственная может вернуть тебе жизнь, потому что в мертвой пустоте твоего бытия есть одна надежда: если твое сердце разорвано на части, стучит в такт ее шагам, когда она уходила, а ты оставался ее вечно ждать, если оно еще способно в агонии безумства оживить для тебя мгновение счастья, значит, оно еще способно полюбить и у тебя еще есть повод жить.
– 2 —
Я существую потому, что меня кто-то ждет. Потому что где-то далеко я отражаюсь в чьем-то сердце. Наши сердца еще боятся любить, они просто ждут друг друга. Просыпаясь, гуляя, размышляя о чем-то, я неотступно ищу в своем сердце твое отражение. И поймав, боюсь потерять, как ребенок боится потерять солнечного зайчика. И каждый раз, когда мой поезд набирает ход или самолет взмывает в воздух, мне кажется, что в этот момент я мчусь к тебе. Мое сердце, укутавшись в теплые воспоминания, сжимается калачиком и боится стучать. Единственное, что дает тогда мне силы идти дальше и дальше, это надежда на то, что где бы я ни был – на другом континенте или лишь в миллиметре от твоих губ, – ты будешь ждать меня. Будешь ждать меня так же, как жду тебя я, отмеряя секунды, весь превращаясь в одно бесконечное ожидание. Ожидание, обращающее суету в смысл, порок в добродетель, бренность в вечность.
Я брожу по далекому краю, но знаю, твоя тень всегда рядом со мной, я люблю рассказывать ей о том, что вижу, делиться мыслями, спорить с ней. Ты знаешь, твоя тень бывает довольно вздорной, она позволяет себе не во всем со мной соглашаться! Тогда я ищу новые аргументы, начинаю объяснять сначала, приводить новые примеры. Пока не было раза, чтобы я ее не переубедил, все же твоя тень ведет себя разумнее, чем ты. Я люблю смотреть на новые вещи так, как, мне кажется, на них смотрела бы ты. С каждым мгновением я все больше растворяюсь в твоем отражении в моем сердце, и ты знаешь, наверное, именно это люди и называют счастьем.
Но как часто, когда я закрываю глаза, мрак сознания, заржавевшего в вековечном бесчувствии, безжалостно напоминает мне, сколь беспомощна моя игра в миражи. Невосполнимая пустота заполняет мне душу тогда, и мое безволие – вместо того чтобы наперекор всему, все бросив, тут же полететь к тебе, – уничтожает меня. В эти страшные минуты меня останавливает лишь то, – поверь, лишь это, иначе я бы таки все бросил, – насколько бесконечно мы все еще далеки друг от друга. И тогда я понимаю, что твое ожидание меня, пожалуй, мой единственный маяк в жизни, и я готов двигаться в его сторону сколь угодно долго, даже если путь будет длиннее моих дней.
– 3 —
Мы разобьем друг другу сердца нежно… Чтобы не потерять ни одного осколка, ни одной частицы нашего несчастья и не оцарапать ими руки, мы просто возьмем сердца в пуховые рукавицы и нежно расколем пополам. Мы расстанемся легко… Еще до того, как зардеет последнее утро, раньше, чем губы в последний раз растворятся друг в друге, прежде, чем последние объятия освободят нас.
Мы простимся нежно… Просто, льстиво пообещав друг другу следующее свидание, направимся в противоположные стороны, в разные миры, где свидание будет невозможно, так и не поняв, что, даже двигаясь в разные стороны, любящие сердца, в силу шарообразности планеты, обязательно должны встретиться. Встретиться во взаимном воспоминании друг о друге.
Мы позабудем друг друга легко… Наша любовь переживет себя лишь в призрачных отражениях: изгибах решетки парка, напоминавших наши улыбки, когда мы смотрели на них, в бьющейся в беспечном порыве о набережную волне, отважности которой мы посвятили нашу первую ласку, в одной ноте, застывшей в тишине ресторана над нашим столиком, когда мы так и не сказали друг другу то, ради чего пришли в этот мир.
Мы больше не взглянем в глаза друг другу нежно… Мы больше не пророним друг для друга ни фразы, ни слова, ни звука. Мы бесповоротно потеряем себя в другом, но не сможем вновь найти самих себя даже в себе.
Мы проживем наши жизни легко… И не найдем в жизни и одного из миллиардов мгновений, отведенных нам, чтобы подумать друг о друге, но будем хранить теплоту наших сердец столетиями.
Мы уйдем из этой жизни легко… Потому что проживем ее напрасно.
– 4 —
Сегодня в метро шел дождь. Накрапывал задумчиво, тоскливо, беспросветно. Люди суетливо протискивались в вагоны, спасаясь от сырости перронов, а капли стучали по окнам и затем лениво и вальяжно тянулись вниз по стеклу. Лишь изредка из-за проемов тоннеля выглядывало солнце, да и то, похоже, только для того, чтобы, потешив жителей надеждой на улучшение погоды, тут же их беспардонно обмануть.
Да, но, впрочем, сегодня в метро было безлюдно. Пустые скамейки стройно покачивались в такт движению поезда, освещение мелко дрожало, двери на каждой остановке с воодушевлением открывались, ища того, кто нарушит их одиночество, и вскоре сходились вновь, скрипя от разочарования. С силой хлопали они одна по другой, будто вымещая злобу за приевшуюся осиротелость, будто кляня судьбу за свое извечное соседство.
Порой тебя неожиданно захватывает в плен ощущение, что вокруг все застыло в ожидании кого-то. Ступени эскалатора, встречая каждого нового посетителя, будто начинают быстрее двигаться, надеясь, что ты и есть тот, кого они давно ждут. Начищенные до блеска лампы слишком строги для приветливости, но все же благодушно провожают тебя взглядом, мимоходом задавая себе вопрос, а не тот ли ты, кого они давно ждут. Поезда, врываясь в тоннель, протяжно гудят, словно просят отозваться, нет ли среди пассажиров того, кого они долго ждут. Но кто этот некто, кого вечно не хватает в метро?
Правда, иногда, когда ход времени затеряется в гуле метро, когда легкий озноб состава, пытающегося совладать с рельсами, сольется с твоим, ты вдруг выскочишь из тоннеля прямо в некий чудный край. Сколько не всматривайся в него, ты не поймешь, чем он тебе знаком. В том краю люди добывают надежду. Они бурят ее на горных рудниках и на морском дне, вымывают ее в реках, рубят в лесах, выискивают среди песчинок пустынь. И если случаем в том краю ты найдешь и свою крошку надежды, то твое пробуждение в поезде не будет болезненным. Ты поймешь, и откуда в вагоне вновь очутились все эти люди, и кого метро с таким упорством давно ждет. А главное, на перронах вновь будет сиять солнце.
Солнце, которое ты принесешь в метро из твоего сердца.
Санкт-Петербург – Фрибур – Женева – Москва
август 2007 – сентябрь 2008
Свобода
симфония в прозе
⠀
Con moto1.
Мрак то густел, то вновь внезапно распылялся, то собирался хлопьями, то расщеплялся миллионами мелких точек, то тяжелел, становясь неповоротливым, то наполнялся легкостью невесомости, то четкой линией обводил силуэты отдаленных предметов, то, уподобляясь кисти импрессиониста, размывал очертания, то глянцевыми отблесками отражался от поверхностей, то ровной серой пленкой застилал комнату. Отчужденность была почти осязаема, в безбрежной тишине окружающей пустоты были недосказанность и недопонимание, при которых, казалось, твоя внутренняя осиротелость сливалась с фатальной пустынностью всего вокруг.
Русский царь, владыка полумира, самодержец и повелитель, Божиею поспешествующею милостию, Александр Второй в одиночестве отмеривал тяжелые шаги в своем кабинете в Зимнем дворце. За окнами уже давно потемнело, но работать, похоже, предстояло всю ночь. Император преднамеренно попросил оставить его одного для принятия окончательного решения.
Наверное, только в этом разрыве времени и пространства могло появиться это движение изнутри, из самого ядра естества, из комка спрессованных годами слез и улыбок, обид и прощений, радостей и страданий, движение, собирающее все силы, всю последнюю волю, движение сокрушительной мощи и неколебимого упорства, будто страшимое неминуемостью близкой смерти, движение, устремленное в ясную цель – прочь. Прочь от всего, что есть, от всего, что было и что может быть; прочь от себя нынешнего, себя, каким ты был и каким мог бы стать. Туда – где ничего и никогда не может быть – за горизонт грез и мечтаний. В путь, длиною в бесконечность, в страну, расположенную ближе всех других, – в надежду…
Этот острый осколок воспоминания о былом счастье, зашитый в нашем сердце, – надежда – не он ли успешнее других сокращает наши дни? Вновь и вновь режем им мы сердце, вновь царапаем душу до боли, до крика, до самозабвения. Не он ли лишь послевкусие эдемова яблока, навеки застывшее на губах и отравляющее все прочее, что мы едим? Чтобы сделать человека вечно несчастным, не пришлось ни лишать его благ жизни, ни наказывать его, достаточно было заронить куда-то в самый дальний уголок его разума одну пустейшую мысль: что может – нет, должно – быть лучше.
На рабочем столе в кожаной папке лежал проект Конституции Российского государства. Император, пожалуй, сейчас скорее из привычки, нежели по необходимости, обмакнул перо в чернильницу и принялся в очередной раз перечитывать текст.
Это движение в самоочищение, через самоистязательство, прочь от извечной бессмысленности бытия, движение, губящее нас, – не оно ли и есть смысл этого бытия? Движение, распарывающее душу, но освобождающее из нее щепотки прекрасного. Обогащение, одухотворение, постигаемое человеком, когда душе становится тесно в теле, когда стремление любить и созидать наполняет грудь воздухом, когда слезы счастья подкатывают, когда он вдруг ощущает себя способным на величие, – не ради этого ли и только ради этого стоит жить? Этот жуткий обмен долгих лет пустоты и однообразия на глоток счастья, на мгновение открытия, внутреннего постижения – не он ли самая высшая благодать на свете? Не являются ли эти крохотные надежды нашей жизни частью той великой Надежды на спасение, оставленной нам небесами и столетиями ведущей род людской из дикости в свет?
Как недолговечно и хрупко блаженство, как тонка его ткань. Но любить один миг – разве может быть что-то богаче и дольше этого мига? Мига зеленых лугов и запрокинутой за речку радуги, мига шепота ветра и прикосновений его ласковых рук, мига убегающего ручья и величия водопада, мига радости зверька, играющего солнечным лучиком, и парящих косяков птиц, мига полуслучайного лобзания и полувоздушного поцелуя… И может ли любовь длиться дольше мига? Дольше промежутка времени между двумя ударами сердца? Между двумя вздохами?
Бесстрашное сердце, труби в горн, греми фанфарами, рви литавры, зови на беспощадную борьбу с обыденностью, пустотой и обездоленностью! Иду с судьбой на бой! Пусть сегодняшнее пламя горит ярче, чем когда-либо, пусть отливает алым языки до самого неба, пусть зачернит дымом облака! Пусть в топке сгорит вся жизнь, весь я, лишь только бы вырваться прочь из этого страшного мрака, хоронящего раньше, чем окаменеют стрелки на часах моего времени.
Император отложил текст, встал и подошел к окну, смотревшему на все еще застланную льдом Неву. Нет, дело было не в тексте, не в необходимости очередной вычитки и правки, тут нужно было понять что-то иное, подумать о чем-то другом…
⠀
⠀
Tempo di marcia2.
«Свобода! Равенство! Братство!» – ведь эти слова были когда-то произнесены впервые. Шепотом. Чтобы потом набрать звучание и громогласным грохотом захватить в плен самую просвещенную нацию Европы. «Liberté! Égalité! Fraternité!»3 – они бешено затрясли Францию, как в лихорадке. «Vive la république!»4 – выжгло из сознания мораль и человечность.
«В Париже нет хлеба!» – так началась Великая Революция! И Великая Трагедия! Все великое ищет свое первоначало в ничтожном. «Если у них нет хлеба, – изумилась французская королева, – пусть едят пирожные». Что ж, цена за версальскую близорукость и надменность была выплачена сполна. Le pain!5 И понеслось!
Вперед, сыны отчизны! Мы рождены, чтобы своей жизнью принести жертву во славу нашей великой родины и освободить ее от ржавых оков короля! Настал час нашей славы! Час всех без родства и знатства! Час униженных и оскорбленных! Час ничтожных жизнью, но не ничтожных духом! На борьбу с ненавистной тиранией! Против кровавого режима несправедливости! Не дадим ей распустить свои кровавые штандарты против Революции, не дадим растерзать наших сыновей и братьев! Allons enfants de la Patrie! Le jour de gloire est arrivé!6 Вперед!
Что алчет орда этих спрутов? Изменников и королей! Что может только она ждать? Кому уготованы эти путы? Эти плети и виселицы? Какие могут тут быть сомнения? Нам, французы! Нам и только нам! Путы и плети, которые они столько времени плели, виселицы, чьи тени покрыли города! Свобода отныне! Прочь их ярмо! Не дадим же вновь нас поработить! К войне – против строя виселиц и висельников! Pour qui ces ignobles entraves? Français, pour nous!7 Пора!
Как так?! Когорты иностранцев несут приговор нашим судам! Как так?! Их беспощадные орды несут смерть нашим сынам! Смерть интервентам! Смерть всем, кто с ними заодно! Смерть врагам Революции! Смерть врагам Франции! Смерть! Да здравствует Революция! Или мы вновь пойдем под ярмо? Вновь станем рабами воли деспота?
Нет! Дрожите, тираны! Дрожите, их слуги! Дрожите, отбросы! Дрожите, враги! Все злые потуги получат свое! Всем станет по заслугам! Мы все падем, пусть, но мы не перестанем ненавидеть вас! Пусть сгинем мы, но не вернемся под оковы! Всяк, кто рожден этой землей, да не оскудеет жажда твоя! Жажда биться с врагами твоими! Жажда крови их! Tremblez, tyrans! Vos projets parricides vont enfin recevoir leurs prix!8 Дрожите!
Французы, народ милосердный, щадите врагов, против воли пришедших к вам! Но нет жалости к тиранам кровожадным! Нет и к их пособникам! К этой стае хищных зверей! К ним будь беспощаден, народ! Взрезай сей гнойник! Выкорчевывай с кровью! Чтобы навеки освободить Францию от всей этой заразы!
Отчизна! Пусть святая любовь к тебе поведет нас на смертный бой! Веди нас, поддерживай нас! Сражайся в наших рядах! Свобода, тебе – жизни наши, весь наш пыл, вся отвага и вера! Сражайся в наших рядах! Сражайся вместе со своими защитниками! До конца! Пока не взовьется наше знамя. Пока не взойдет солнце нашей победы. Liberté! Combats avec tes défenseurs!9 Вперед! Мы дело, начатое предками, должны завершить! Жизнь отдать иль отомстить!
К оружию, друзья! Все в строй! Пора, пора! Смыть гнилую кровь с наших полей! Побатальонно! Formez vos bataillons!10 Марш! Вперед! Aux armes citoyens! Marchons!11
Восстанем, друзья, и против еще одной заразы! Против суеверий, церемоний и мифов! Мифов, нас порабощающих! Мифов, оправдывающих тиранию! В огонь власть ряс и крестов! В печь церковников и церковь! Одна религия теперь мила – свобода, равенство, братство! Нет больше места произволу церковной морали! Очистить храмы и осквернить их! Под нож служителей культа – врагов нации! На разграбление Нотр-Дам! Святую Женевьеву, спасительницу Парижа, выволочить из гроба, разрубить на куски, растерзать – и в Сену! Пора, друзья, пора!
Святая кровь? Помазанника божьего? Нет помазанников, нет веры! Но если это кровь святая – то пусть окропит собою землю свободной Франции! Пусть прольется в угоду Революции! Смерть королю! Смерть роялистам! Под лезвие гильотины! Ведь ваш закон – запрещено все, что мешает наслаждению? Ну так наслаждайтесь теперь своей кровью! И дайте нам поглазеть на вашу голову! Одну, без тела, извольте! Ваше ничтожное Величество! Vive la république!
Изменники – в Лионе! Роялистская сволочь! К ружью! На площади их расстрелять, из пушек! Нет, нету в жилах сострадания к врагам Революции! Одна слепая ненависть! Звериный оскал и бешеная слюна! Под нож, под нож! Чтоб не просыхала доска, на которую им класть свои головы! И в общую могилу всех! И короля, и чернь! Liberté! Égalité! Fraternité!
Заговор! Заговоры всюду! Кровью смывать должны мы их! Их кровью! Вчерашние вожди, сегодняшние предатели – Верньо, Дантон, Демулен, Сен-Жюст, Кутон, Робеспьер – в строй – formez vos bataillons! – на плаху! Поочередно! Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель революционного трибунала, ты вынес две с половиной тысячи смертных обвинений, произнеси и еще одно – себе! Марш, марш!
Нет братству – только смерть! Нет равенству в одном лишь – в смерти! Свобода – лезвию ножа! Один король – палач, один трон – эшафот, один закон – гильотина! Казни теперь десятками каждый день, смерть должна стать обыденной! Рядом с плахой – статуя свободы! Обильно окропленная кровью! Республика! Свобода! Демократия! Управляемые ножом гильотины! Вперед, сыны отчизны! Наш час настал! К оружию, друзья! Вперед! Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons!
Grave12.
Много страшного приходилось видеть роду людскому, дьявольского и звериного, но, пожалуй, одна из самых ужасных картин предстала перед московской знатью и челядью августовским днем 1614 года: за Серпуховскими воротами повесили Ивашку-воренка, сына Тушинского вора, самозваного царя Лжедмитрия II. Наследнику престола было три года от роду. Так начала править на Руси династия бояр Романовых.
Но лишенная Бога толпа не увидела в этом событии несоразмерной жестокости. Вот уже полстолетия, как на русской земле реками текла кровь. Она сделалась столь привычной, что затопила собой хрупкую грань между добром и злом, и люди, вконец озверев, перестали замечать разницу между первым и вторым. Но где нашел себе исток этот рдяный поток, из какого закоулка истории, подобно разбойнику, вынырнул он?
…Современники наши восхваляют и стремятся установить такой порядок, когда рабы властвуют помимо государя. Сама природа человека такова, что грешные люди неспособны к добру без принуждения, и поэтому подданным надлежит находиться в полной государской воле, а где они государской воли над собой не имеют, тут как пьяные шатаются и никакого добра не мыслят. Корень зла всякого народоправства в том, что там особо каждый о своем печется. Неизбежные при этом смуты и раздоры способна прекратить только неограниченная царская власть, но если царю не повинуются подданные, они никогда не оставят междоусобных браней. Самодержец руководствуется непосредственно провидением, человеческие советы могут лишь замутить ясность Божественного откровения. Посему образцы народоправства подлежат решительному осмеянию и принижению… (Иоанн IV Грозный)
В чем почва этого слепого подобострастия к необузданному самодержавию, что за кара нашла на наше племя, что мы стали вековыми лизоблюдами своих палачей? Столетиями вырезали от сердца русского разнузданностью княжеского властолюбия, параноидальными буйствами, обезумевшей алчностью, оголтелой великодержавностью, кровавой опричниной – все самое лучшее: честь, вольнодумие, искренность. Топором отрубала русская история от нас лучших, порядочных и чистых. Столетия за столетиями, оставив в итоге от русского сердца крохотный обрубок – весь сжавшийся окаменелым страхом. Это безрассудный трепет переродился ничтожеством духа и мысли, непрестанной покорностью, безверием и умаленностью политических притязаний. Подобно перед лицом неминуемой смерти в агонии ужаса вдруг проникаешься дружелюбием, сочувствием и сопричастностью делу твоего убийцы.
Allegro molto vivace13.
Одно гнетет, испепеляя каждую мысль, каждое чувство, каждое движение – предрешенность и неотвратимость последнего аккорда жизни. Все – ничто, на перепутье вечного и бесконечного ты, твое неиссякаемое богатство – всего лишь пыль, ненужная и пустая. Кромешная мгла, бездыханная и бесприютная. Одно томит, давя в висках, выкручивая душу, – смерть.
Страшно… Как быть? Куда деться? Как ее встретить? Стоя, в приподнятом духе, бодро и изящно, как опоздавшую любовницу? Чтобы хоть как-то скрыть эту холодную оторопь, стискивающую скулы, орошающую ледяными каплями лоб? Или нет, запереть все засовы, заколотить ставни, спрятаться в самый дальний подвал. Или еще, бежать без оглядки, остервенело, чтобы встретить свой грозный час незаметно, в физическом изнеможении, но оставив в погоне боль души, тлеющей на медленном огне страха. Страшно…
…Небывалыми приготовлениями была полна в тот день Златоглавая. Все куда-то неслось, все спешило, все не успевало и должно было по обычаю свершиться лишь в последний момент. Листья должны быть зелеными, солнце ярким, небо чистым, глаза подданных преданными, речи отточенными, слезы радости искренними, восторг сокрушительным. Все репетировало, готовилось, предвкушало. На русский трон соизволила согласиться взойти сама хозяйка жизни – ее величество Смерть.