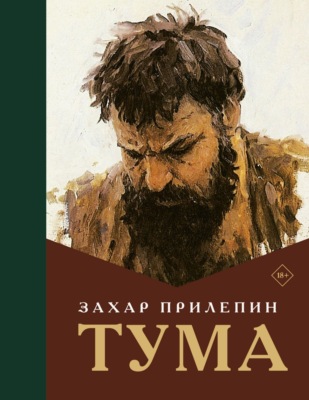Kitabı oxu: «Хроника событий местного значения (дни «совка»)»
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба.
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
Б. Пастернак
Когда я был маленьким
Я родился в 1937 году, памятном многими событиями. Мои родители жили тогда в Ленинграде, но решили родить первенца на Украине, недалеко от Кременчуга, где жила бабушка Ханна, мама моей мамы.
В семейном альбоме есть моя первая фотография, крепкого малыша, выглядящего несколько испуганным. Испуг, возможно, объясняется тем, что родители забыли взять справку о моем рождении. Позже это уже было невозможно – архив города, где я родился, пропал в войну. Так что реально я появился, а формально меня не было.
Эту историческую ошибку объясняют обстоятельства того времени.
Мои родители создали семью в период строительства социализма в стране, где не очень заботились о жизни одного человека, имея в виду, что светлое будущее ждет всех. Эпохальное переустройство общества могло обойтись без лишних формальностей с регистрацией не очень заметного гражданина. В то время важно было его социальное происхождение, а с этим у меня проблем не было.
Родители моего папы приехали в Москву из деревни Колесные Горки, где родились, выросли, поженились. Фамилия Шараповы – не редкая в подмосковных местах, там есть несколько старых деревень Шарапово. Мои дедушка и бабушка по линии папы работали на одном из заводов. Семья, в которой к этому времени родились три дочки и сын Миша, мой будущий папа, ютилась в коммунальной квартире московского района Кунцево.
В период НЭПа дедушка Николай Васильевич поднялся в заработках изготовлением домашней мебели. Это привело к потере им классового самосознания, и после полного установления в стране социализма он огорчился, спился и умер. А бабушка Ефросинья Ивановна работала в разных социальных комитетах, даже сидела в президиуме какого-то собрания с М. И. Калининым и уже в возрасте окончила рабфак.
О жизни моей московской родни я знаю по рассказам мамы. Старшая сестра папы – Клава работала на заводе, средняя, Нина, – медсестрой, а младшая, Катя, – корреспондентом газеты. Нина погибла в войну, а Катя после эвакуации осталась жить в Свердловске.
Бабушку Фросю я видел один раз, после войны. Она с дочкой Клавой жила в коммунальной квартире, выглядела бодрой, в разговоре была немногословна, в ней чувствовалась доброта и внимание к людям.
Родня по линии мамы ведет свое начало от еврейских колонистов в Херсонской губернии, где многие занимались ремеслом и торговлей. Семья мамы имела необычную для евреев фамилию Простаковы и жила огородом, молочным хозяйством, извозом. До 1929 года у них была лошадь и две коровы. Это позволило прокормиться, вырастить шесть дочерей и двух сыновей при жизни в «мазанке» с соломенной крышей и земляным полом.
Большую часть работ по хозяйству и дому делала бабушка Ханна. У дедушки Иосифа, как говорил мне дядя Миша, младший брат мамы, «руки росли не из того места», он был очень доверчивый, беззаботный и веселый человек.
Может поэтому фамилия у него была – Простаков.
После коллективизации и в благодатных местах Херсонщины начался голод. Старший сын Простаковых, Павел, ослабленный недоеданием, замерз в осенней степи, куда пошел искать сбежавшую корову. Дедушка Иосиф очень переживал эту потерю, заболел и умер.
Жизнь становилась все более тяжелой, в колхоз забрали лошадь и корову. К счастью уже устроилась семейная жизнь старших дочерей. Роза вышла замуж за Гришу, зарабатывавшего сапожным делом, Соня – за Захара, пристроившегося торговать арбузами, Этель – за Наума, парикмахера. Больше всех повезло красивой, умной Доре, она уехала в Харьков и вышла замуж за Семена Ильича, заведовавшего магазином «Торгсин». Общими усилиями сестры смогли помочь бабушке Ханне переехать в Семеновку, казачью станицу, где были несколько лучшие условия жизни при, как потом оказалось, худших отношениях между людьми. А младшая из сестер Простаковых, моя мама, стала комсомолкой, по рабочему набору поехала в город Крюков, там поступила в техникум, познакомилась с папой и вышла за него замуж. Хотя он был из семьи во многом другого образа жизни, этому никто не противился.
С такой родословной я позже мог указывать в анкетах: «происхожу из рабочих и крестьян», это советской властью приветствовалось. При работе моих родителей правильнее было бы писать: «происхожу из народной интеллигенции», но это определение сословия нашего общества появилось значительно позже.
После моего рождения мы вернулись в Ленинград, где жили в узкой комнате, образованной делением ранее большой квартиры. Из этого периода нашей жизни помню долгий подъем по лестнице на третий этаж дома, громкие крики старьевщиков в колодце двора и прогулки с мамой в недалеко расположенном парке.
Меня, как ребенка из семьи рабочих и крестьян, приняли в детский сад, поверив тем данным о рождении, которые указала мама. Папа и мама работали на заводе, мы собирались вместе лишь вечером. Меня укладывали спать на сундуке, к его крышке папа прибил доску, чтобы я не упал на пол. Помню, как родители долго сидели за столом, и мама нараспев читала стихи, в них я узнал одно слово, его слышал в рассказах о бабушке Ханне. Позже и при других обстоятельствах, я вспомнил это слово, когда мы с мамой пели:
Каховка, Каховка – родная винтовка,
Горячая пуля – лети,
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка —
Этапы большого пути…
А тогда я видел папу, смотревшего на маму влюбленными глазами и поцеловавшего ее в щеку. Мне почему-то стало страшно за них.
Вечерами мы выходили гулять на ближнюю от дома часть Невского проспекта. Мне нравилось смотреть на загадочно освещенные внутри троллейбусы, они подъезжали к остановкам и сами открывали двери. На угловом доме светилась реклама фильма «Дети капитана Гранта».
В Ленинград перебрался и мой дядя Миша. Некоторое время он жил у нас. Всем стало теснее, а мне – веселее. Дядя Миша быстро «пошел в гору», он был мастер по кройке обуви, а спрос на красивые вещи тогда уже стал проявляться у многих. В родне его считали удачливым, с ним могла сравниться лишь харьковская тетя Дора.
Помню нашу общую поездку в Семеновку, яблоневый сад и большое поле подсолнухов, открывающееся в окне комнаты, где мы жили. На фото, сделанном тогда, мы последний раз вместе с бабушкой Ханной.
До начала страшной войны оставалось совсем немного времени.
* * *
Первым свидетельством о войне стало появление на улице огромного баллона, его за веревки несли люди в зеленой форме.
– Что это? – спросил я у мамы.
– Аэростат, – сказала она грустно.
По тону ее голоса я понял, что спрашивать больше ни о чем не нужно. Вначале изменений в распорядке нашей жизни не чувствовалось. Но вскоре на некоторых домах появились громкоговорители, из них слышалась нервная речь, останавливаясь, ее слушали прохожие.
Помню, как мы провожали на войну дядю Мишу. Его жена и дети уже уехали в эвакуацию, последнее время он часто приходил к нам.
В помещении вокзала на украшенной портретами и знаменами сцене пели и плясали люди в военной форме. Не чувствовалось страха или опасности, было даже весело.
На железнодорожных путях стоял длинный состав. Попрощавшись, дядя побежал к нему. За спиной у него болтался вещевой мешок.
– А папа тоже уедет? – спросил я маму.
– У папы «броня», он нужен на заводе, – ответила она.
Слово «броня» звучало грозно и надежно.
На улицах появилось все больше военных и приезжих людей, они с озабочеными лицами несли в руках чемоданы и тюки.
В тот вечер мама и папа долго говорили, поглядывая в мою сторону. Потом мама взяла чемодан и начала укладывать в него мои вещи.
– Мы поедем к бабушке? – обрадовался я.
– Нет, – ответила мама, – ты уезжаешь на лето с детским садиком. Так нужно, мы с папой приедем к тебе позже.
В садике нам сказали, что на лето нас отвезут в загородный лагерь, там будут спортивные занятия и самодеятельность.
Помню солнечное утро, поезд, толпу родителей на платформе. Среди них, грустно улыбаясь, стояла мама. Папа задержался на работе, его я увидел, когда поезд тронулся. Он и мама смотрели вслед поезду, пока не скрылись из виду. Я почувствовал тревогу от такого расставания.
Когда все разместились в вагоне, объявили, что к обеду приедем на место, где устроимся.
За окнами проносились дома, потом – постройки пригорода, и начался лес. Вокруг мирно разговаривали пассажиры, в конце вагона слышалась песня.
Вдруг поезд начал тормозить и остановился. Мимо быстро прошел кондуктор. За окнами слышались громкие голоса людей.
Через какое-то время поезд тронулся, ехал медленно и остановился опять. Нам сказали, что нужно выходить.
На платформе стояли люди, им что-то объяснял человек в военной форме. Было слышны его слова:
– Немцы перерезали железную дорогу!
Все пошли к большому деревянному дому с красной вывеской. Мне опять с тревогой вспомнились оставшиеся в городе родители. Какие-то люди принесли бидоны с кашей и чаем, нас покормили. Затем появились автобусы, ребят в них разместили по группам.
Машины поехали по лесной дороге. Иногда они останавливались, и водители собирались для короткого разговора, часто поглядывая на небо и к чему-то прислушиваясь. Через некоторое время автобусы въехали на большую поляну, где было много людей в военной форме. Они лежали и сидели на земле, многие были перевязаны бинтами.
Автобусы так близко подъезжали к ним, что казалось – можем наехать. Но никто из этих людей даже не пошевелился.
Наш водитель сказал подошедшей к нему воспитательнице:
– Эти вышли из боя. За Лугой – мясорубка.
У меня были плохие воспоминания о мясорубке. Дома я не раз видел, как мама опускала в ее воронку куски мяса, лук, булку, а приятно пахнущие струйки фарша тянулись в миску. Однажды, когда мама на минуту отлучилась, я взял кусок булки, протолкнул его в воронку и прокрутил ручку. Мой палец захватило, стало больно, перепугавшись, я отчаянно заорал.
Сейчас, услышав – «мясорубка», я смутно начал осознавать, что беда пришла ко всем, а люди на поляне попали в нее одними из первых.
К вечеру подъехали к поезду, состоящему уже из товарных вагонов. Несколько рабочих заносили в них сколоченные доски и солому. Нас разместили на полках из досок, укрытых кусками плотной материи. Заведующая детским садом сказала, что скоро мы приедем туда, где нас ждут, и все будет хорошо.
Ночью я просыпался и с тревогой вслушивался в звуки снаружи. Вагон временами стоял, потом со скрипом и лязгом трогался.
* * *
Все дальнейшее помню смутно. Уже взрослым, по рассказам мамы, я составил маршрут движения поезда. Она говорила мне о Котельниче и Антропово. Поездка до этих населенных пунктов могла продолжаться около четырех дней по железной дороге, идущей мимо Череповца.
Ночами становилось все холоднее – мы ехали навстречу осени и зиме. Двое ребят заболели, их рвало. На одной станции их куда-то вынесли. Потом заболел я. У меня поднялась температура, все вокруг закрыла муть, в ней вспыхивали яркие круги. Воспитатели подходили ко мне, клали на лоб ладонь, печально качали головой и уходили.
А мне все стало безразличным, будто вокруг никого и не было.
Потом меня перенесли к дверям вагона. Там я лежал, слабея, пока одним утром увидел маму в проеме открывшейся двери. Она была в ватнике, в надвинутом на глаза платке и всматривалась мимо меня в вагон. Я испугался, что мама не увидит меня и закричал. Если бы не эта случайная встреча с мамой, я мог бы умереть. Позже она сказала, что я прошептал что-то о горячей манной каше.
Мама рассказывала и о том, что произошло после моего отъезда. Из объявлений в отделе эвакуации не было ясно, куда везут детей. Мама решила искать меня, пока была возможность выехать из Ленинграда. С трудом доехала до Котельнича, где собралось много ленинградских женщин, искавших своих детей. Поезда приходили без расписания, иногда – без вагонов, в которых их отправляли. Некоторые женщины теряли сознание от переживаний.
Нас приютили в недалеко расположенном военном госпитале. Тогда многие проявляли сочувствие и помогали тем, кто попал в беду. Я так ослабел от болезни, что заново учился ходить.
Мама узнала, где мог быть мой детский садик, мы отправились его искать.
Помню большой вокзал, где люди стояли группами, сидели на вещах. Несколько человек собрались вокруг матроса, он рассказывал о боях в Севастополе, где был ранен. Он был одет в темный бушлат, просвет тельняшки, сдвинутая на затылок бескозырка и автомат придавали ему геройский вид. На вокзале были и другие, моряки, моложе его. Мне не понравились их расклешенные брюки и смущенные улыбки. Некоторые из них качались при ходьбе. Пожилая женщина печально сказала:
– Куда их, таких? Ничего не умеют! Перебьют…
В переполненном поезде мы доехали до станции, откуда к месту, где был мой детский садик, нужно было добираться на санях.
Мы стояли у деревянной постройки и ждали, пока запрягали лошадь. На путях протянулся состав с красными деревянными вагонами. К нему по тропке в снегу гуськом шли люди в серых шинелях. Все они были молодые и грустные. Пилотки не прикрывали их ушей. Ноги в обмотках выглядели тонкими и слабыми. Было видно, что им очень холодно. Один, худой, сутулый, смотрелся совсем нелепо в слишком короткой для него шинели. Проходя мимо нас, он запнулся о рельс, отчаянно замахал руками и упал. Каска, закрепленная у него на спине, с грохотом отлетела в сторону. Я увидел его испуганное лицо. Он встал, поднял каску, и как-то боком побежал вслед уходившим. Те продолжали идти, втянув головы в плечи. Я увидел слезы в глазах мамы.
* * *
Дома в деревне Бетелево стояли по обеим сторонам дороги, которая приходила из леса и скрывалась в нем. Нас вела женщина в кожухе, она держала в руке листок бумаги. Остановились напротив одной избы. Пожилая женщина в ватнике подметала крыльцо.
Сопровождающая нас крикнула ей:
– Ивановна! Вакуированых ленинградцев возьмешь?
– Заходите, – ответила женщина на крыльце.
Ее звали Анна Ивановна, у нее были две дочки. Шестнадцатилетняя Валя работала на почте. Старшая, Катя, была очень нервной, часто курила. Война застала ее в Ярославле, а мужа с сыном – на Украине. Она не знала, что с ними сейчас.
Я снова был вместе с ребятами нашего детского садика. Днем мы находились в сельской школе, там проходили занятия, и нас кормили обедом. Ночевать всех разводили по избам жителей деревни.
Изба Анны Ивановны была небольшой. Из сеней попадали в первую комнату с русской печкой. В переднем углу висела небольшая икона.
Печь лежанкой выходила в две небольшие комнатки, где находились хозяйка и ее дочки. Мы спали на досках в простенке за печкой.
В школе мама делала любую работу, лишь бы быть со мной. Мыла полы, выезжала в зимний лес на заготовку дров. Ее руки стали красными, шершавыми. Я видел, как Катя смазывала дегтем нарывы на ее теле. Вечерами мама писала письма папе в Ленинград.
Наклонно укрепленная березовая лучина горела удивительно долго.
Один раз в неделю мы мылись в печи. Ее кирпичный пол застилали соломой, ставили шайки с водой. Внутри было тепло и темно, воду из шаек брали на ощупь. После этого мама несла меня в сени, обливала ледяной водой. С каждым днем я становился крепче, бегал по улице в валенках и полушубке, их раньше носили Катя и Валя.
Новый 1942 год в тот раз не отмечали, как праздник. Попили чай и слушали истории, которые нам рассказывали или читали воспитатели. Одну – про то, как маршал Ворошилов в гражданскую войну обманул «белых». Он велел набить соломой шинели и выставить их в окопах. «Белые» испугались количества «красных» бойцов и убежали.
Другая история была про наших моряков, они удерживали наш форт от немцев. Те приказали морякам сдаться, вывесить белый флаг. Всю ночь защитники форта шили флаг из простыней. Но утром враги увидели, что он – красного цвета. Мы гордились героями моряками. Немцы их боялись, а особенно противным представлялся их офицер. По рассказу, он носил пенсне и пользовался женскими духами.
В школе был патефон, иногда мы слушали пластинки. Меня очень трогала грустная песня о ямщике. Он поехал на почту, а его любимая в это время замерзла в сугробе снега. Было непонятно, как это могло случиться. Ведь должны были увидеть ее в беде и помочь! Жаль было и ямщика, зачем он поехал за почтой в плохую погоду?
Еще больше переживаний вызывала песня о заболевшем кочегаре. Он не вынес тяжелой работы у котлов, вышел на палубу и умер. Ему тоже не помогли, а хоронили его непонятно. С пластинки это звучало так:
К ногам привязали ему колосник,
И койкою труп обернули…
В слове «колосник» чувствовалась тяжесть. А нелепые действия с койкой снижали остроту переживаний. Представлялось, как дюжие матросы с тупым усердием гнули вокруг бедняги-кочегара железную кровать с металлической сеткой, подобную той, что стояла в комнате Анны Ивановны. Позже я узнал, что на кораблях спят в подвесных койках из парусины, а тогда впервые задумался о глупых поступках взрослых людей.
Вскоре пришла долгожданная весточка от папы из Ленинграда. Он писал, что получил сразу пачку писем от мамы, жив, скучает без нас, надеется, что наступят лучшие времена. Мама села писать ему ответ.
* * *
Весной 1942 года жители Бетелево еще собирались вместе за общим столом на лугу у речки. Они катали с деревянных горок разноцветные яйца, пели песни с повторяющимся припевом. Наверно, это отвечало их обычаям, для нас же было интересным зрелищем.
А потом наступило лето, самое радостное и интересное время года.
Мы ходили в лес, собирали ягоды, встречали пробегавших зайцев, купались в узкой извилистой речке с очень чистой водой.
Выше речки были большие поля с посадками овощей. Кто-то сказал, что там есть горох, и мы с одним мальчиком побежали на разведку. Там увидели сторожа на вышке и притаились в траве. А когда подползли к кустам гороха, раздался громкий выстрел. Мы прибежали к реке, где испуганные воспитатели уже искали нас.
По этому случаю в школе было большое собрание, там говорили, что позорно воровать то, что нужно фронту. Моя мама плакала, мне было стыдно и жаль ее – при стольких переживаниях, у нее еще и плохой сын. Но через пару дней об этом случае все забыли.
Воспитатели относились к нам тепло и заботливо. В школе мы чаще рисовали, лепили разные фигурки, нам читали книжки, привезенные из Ленинграда. Самой интересной мне показалась сказка И. Ершова «Конек-горбунок». Запомнилось и стихотворение К. Чуковского о Бибигоне. Он мечтал побывать на Луне, и было непонятно, попал ли он туда, это меня тревожило.
Работавшие в школе женщины громко переговаривались между собой, что мешало слушать чтение. И однажды я сказал им:
– У людей болтаются языки – они и говорят без остановки.
– Боже, что сказал этот мальчик! – всплеснула руками одна женщина.
Работницы побежали к моей маме, наперебой стали рассказывать ей о моих словах. Мама стояла с лицом, покрасневшим, или от гордости за сына, или из-за того, что, нагнувшись, мыла пол в коридоре. А я и не понял, что особенного произошло. Просто – сказал.
* * *
В соседнем доме жил Витя Череповский, фантазер и умелец. Когда я приходил к нему, со шкафа срывался и наискосок пролетал комнату самолет, а на буфете начинал двигаться паровоз с вагонами. Все это Витя делал из картона и бумаги, придумывая систему грузов для движения своих моделей. Он был старше меня, мы подружились. От него я узнал, что его папа – летчик. В Бетелево Витя попал с дедом, художником. Дед рисовал портреты ушедших на войну по фотокарточкам, их приносили женщины села. Еще он писал объявления, их вывешивали на помещении сельсовета. Я видел и его картины с изображениями местной природы. Однажды Витя прибежал ко мне и крикнул:
– Завтра будут убивать Шарика, он взбесился! И к какой-то из ваших девчонок прилетит папа. Самолет сядет на лугу у речки.
Шарик, добрый старый пес, жил в конуре за школьным сараем. Недавно он заболел, из его пасти шла пена, шерсть висела клочьями.
Убивать Шарика позвали одноногого сторожа поля с горохом. Он долго целился в собаку из длинного ружья. Не верилось, что это – всерьез. Но грянул выстрел, и Шарик повалился набок. Мы подошли к нему, и вдруг поняли, что он уже никогда не сможет лаять, бегать – всего от одной дырочки в боку, из которой пролилось немного крови. Это было для нас неожиданным, горьким открытием.
Папа Лены Кузнецовой, наверно – важный военный, прилетел на час. Он побывал в избе, где жила Лена, разговаривая с ним, она плакала. Провожать гостя вышла почти вся деревня. Пилот вызвал общую радость, выстрелив белую ракету перед взлетом. Самолет разогнался по лугу и растаял на фоне садящегося солнца. Витя сказал:
– Это – штурмовик. А мой папа прилетит на истребителе.
Но после этого в Бетелево никто не прилетал.
Однажды к деду Вити пришел человек, его в селе не любили, а мамы подростков боялись и старались не попадаться ему на глаза. Человек этот был лыс, на одной руке черный протез заменял ему кисть. Зимой он был обут в бурки, одет в полушубок, носил серую папаху, летом – зеленую гимнастерку и синие галифе.
Витя рассказал мне, что этот человек пожелал, чтобы дед нарисовал его в форме, с саблей. Жену – рядом, с букетом цветов. Дед Вити неделю ходил к «лысому» рисовать. Потом принес картину, снял с нее тряпку и мрачно сказал:
– Посмотрите вы… У меня получается только так.
Мы долго смотрели на портрет, переглядываясь и не зная, что сказать. Голову «лысого» поддерживала сабля, погоны на гимнастерке висели, как крылья у Кощея Бессмертного, важная улыбка пугала. Его жена держала букетик цветов. Казалось, что они увядают.
Позже Витя рассказал, что за портретом пришли, даже, расплатились. Но у двери «лысый», просверлив деда глазами, прошипел:
– На тебя, гада, пули жалко! Я тебя запомнил…
Как-то я зашел к Череповским. Дед сидел с письмом в руке.
– Написано: «пропал без вести», – сказал он. – Это ничего не значит. Не такой Колька парень, чтобы его какой-то фриц сбил. Прилетит.
И Витя ждал папу.
* * *
Новый 1943 год уже праздновали. Из леса привезли пушистую елку. Мы украсили ее самодельными игрушками. Вожатая Таня сделала из ваты и раскрасила Деда Мороза. Мы разучили пьесу «Теремок», я представлял в ней Петуха и пел. Но самым радостным для нас был приезд кинопередвижки с фильмами «Новый Гулливер» и «Василиса Прекрасная».
Новости приходили в Бетелево с редкими письмами или слухами. Рассказывали, что из поезда, идущего на фронт, сбежали и одичали лошади, что в Антропово видели передвижную газовую камеру, ее придумали фашисты, что немцев отогнали от Москвы, но все еще идут тяжелые бои.
А потом пришло письмо, до слез обрадовавшее маму. Она ходила по комнате и повторяла:
– Папа в Москве! Папа в Москве! Он приедет к нам!
Папа приехал в Бетелево весной. В офицерской форме он выглядел уверенным и сильным. Когда колол дрова, поленья разлетались по двору во все стороны. Я очень гордился папой.
Из разговоров родителей я услышал о его жизни в Ленинграде. Было холодно и голодно. Папа переехал в заводское общежитие из прежде многолюдной квартиры. Она опустела, не отапливалась, при беде, некому было бы помочь. А в небольшой комнатке общежития завода спали на полу вшестером, топили печку «буржуйка». В цехе грелись у металлических бочек, сжигая в них все, что горело. На работе всем выдавали по кусочку хлеба. Папа разрезал его на квадратики, сушил у бочек, в тряпочке держал на груди. Вечером ел эти сухарики, запивая горячей водой. Тепло и тяжесть в животе позволяли заснуть. Особенно трудной была первая блокадная зима. Ели даже столярный клей, его нужно было умело разбавлять водой, чтобы не умереть.
Папа очень ослабел, и однажды по дороге в общежитие упал. Встать сам не мог. С тоской он слышал скрип снега под ногами уходящих людей. Но смог доползти до общежития, там его напоили чаем.
А потом с ним случилось то, что я понял, когда стал уже взрослым. Выдержав жестокие удары врага, наши люди действовали все более решительно и организованно. Все больше танков, самолетов и другой военной техники делали на эвакуированных заводах. И оказалось, что на учете был каждый, труд которого тогда был особенно важен. Папа имел инженерную специальность – «гусеничные машины», его вывезли из блокадного города в Москву и поручили организовать базу ремонта танков. Он рассказал, что в первую неделю никак не мог наесться, просил добавки в столовой, ленинградцам это разрешали.
Письма от папы стали приходить чаще. Он писал, что много работы, положение становится все лучше, и есть надежда, что мы сможем к нему приехать.
* * *
Перед уходом в школу Анна Ивановна поила меня свежим молоком, вечером, угощала чечевичной кашей или овсяным киселем. Я раньше не ел чечевичную кашу, она оказалась вкусной и сытной. Кисель из овса Анна Ивановна долго готовила в большом деревянном корыте. Еще одним лакомством был запеченный на пороге печи репчатый лук.
Мама с работы приходила поздно. Анна Ивановна все время была в хлопотах по дому. Катя уехала от нас куда-то работать в госпитале. Валя читала мне книжку про Робинзона Крузо. Я сидел и думал – как хорошо жить на необитаемом острове. Повезло Робинзону Крузо, при крушении его корабля море выбросило сундук, в котором оказалось все необходимое, чтобы добыть пищу и одеться. На острове было полно растительности и живности и не было никого, кто мешал бы ему заниматься тем, что он хотел.
С каждым месяцем в Бетелево становилось все меньше мужчин, и все больше молодых ребят забирали в армию. Накануне отъезда их везде кормили, поили, им разрешали все. К концу дня, взявшись под руки, они шли по улице, выкрикивали слова песен и заваливались в канаву. Утром их увозили на подводах с последней домашней едой в узелках, и их мамы стояли в конце деревни, прощально подняв руки.
Осенью пришло письмо, сообщавшее, что мы можем ехать в Курск. Я обрадовался, но было очень грустно расставаться с Анной Ивановной, Валей, ребятами, воспитателями. Казалось, всем без нас станет хуже.
Мама заплакала, прощаясь с Верой Петровной, заведующей садиком. Я подошел к вожатой Тане, сказал:
– Уезжаем…
Она улыбнулась:
– Ты больше пой, у тебя хорошо получается.
У избы, где мы прожили почти два года, стояли сани с собранными вещами. Запряженная мохнатая лошадка тоже выглядела грустной.
Мама сказала Анне Ивановне, что напишет сразу, как приедем.
Валя была на работе, ее увидеть не получилось.
Анна Ивановна молча перекрестила меня. И мы уехали.
Уже взрослым я прочел справку о моем пребывании в интернате. В ней обо мне все написали правильно, но – с фамилией Шаронов. Это была описка, – кто и в каких условиях заполнял тогда данные о многих перемещающихся людях! Но может, для чего-то судьба решила запутать мои следы на жизненном пути.
В Москве я провел целый день в детской комнате на вокзале, мама бегала оформлять какие-то документы. Меня и других ребят кормили тети в белых халатах. Я даже поспал на сдвинутых стульях.
* * *
На вокзале Курска нас встретил молодой солдат, его звали Алексей. Он сказал, что Михаил Николаевич сейчас очень занят, и поручил ему помочь нам устроиться.
В вечерней темноте мы приехали к дому, где жил папа. В комнате стояла кровать, стол, стул, на тумбочке – патефон и стопка пластинок. Мама начала разбирать вещи, а я слушал песни в исполнении Н. Руслановой, К. Шульженко, Л. Утесова.
Папа приехал поздно. Мы были так счастливы, что просто смотрели друг на друга, радостно привыкая к тому, что все теперь вместе.
Утром поехали смотреть Курск. Разрушений в городе я не увидел. Люди на улицах весело разговаривали, смеялись. У кинотеатра стояла очередь за билетами на новый фильм «Жди меня». На вечерний сеанс детей не пускали. Меня под полой шинели провел в зал сослуживец папы, Андрианов, человек гигантского роста.
К нам часто приходили гости. Папа любил застолье с веселыми разговорами, выпивкой, песнями. Это доставляло много хлопот маме, но ей помогал ординарец папы, Леша, ставший мне старшим другом. В конце этих посиделок по просьбе папы мама пела на непонятном языке. Одна ее песня особенно трогала меня печальной мелодией. О чем она, я узнал позже, когда пришел ответ на запрос о судьбе родных в Семеновке. В ответе сообщалось, что бабушку Ханну, сестру мамы, Симу и ее дочь Полину, зверски убили нацисты или их пособники.
Позже мама получила письмо и из Алма-Аты. Подруга Поли писала, что они перед приходом врагов ушли из Семеновки. Целый день шли среди беженцев. Один раз им встретились грузовики с немцами, те на них даже не посмотрели. А потом Поля сказала, что очень устала, у нее болит сердце, и она хочет вернуться.
Веселая, добрая Поля… Понятно, не от усталости болело ее сердечко, а от тоски по маме и бабушке. Она вернулась домой, и их с другими евреями расстреляли в овраге за сахарным заводом.
Узнав об этом, мама день лежала на кровати, скрючившись от горя.
Потом пришло письмо из Ташкента. Тетя Дора сообщила, что ее муж, Семен Ильич, добровольцем ушел на фронт и был убит при обороне Киева. Для Простаковых это была еще одна потеря в войне.
Мама заболела, ходила, согнувшись. Она простудилась, когда мы ехали из Бетелево. Там был снег, в Москве – дождь, в валенках она промочила ноги. Ей становилось все хуже, попала в больницу, и папа теперь брал меня с собой на базу, она была за городом.
Однажды Леша повел меня на поле, куда привозили подбитые танки. Их было много, одни стояли наклонно со сдвинутыми пушками, на других не было гусениц. Вид темных открытых люков в танках пугал, я представлял – что могло произойти, когда снаряд пробивал броню. В стороне стояли два танка с очень большой пушкой.
– Немецкие, их сейчас изучает наша комиссия – объяснил Леша.
Танки были разные, но стремительным видом мне больше нравились наши «тридцатьчетверки». Такой вид им придавал наклонный корпус и башня округлой формы.
* * *
На встрече нового 1944 года в здании городского театра Курска был концерт. Мы с мамой сидели в первом ряду. На сцене лысый человек в темном костюме рассказывал смешные истории и объявлял фамилии артистов. Вдруг он попросил поднять меня к нему и спросил:
– Мальчик, что ты споешь дядям и тетям?
Увидев много незнакомых лиц в большом зале, я оробел. В голову не приходило что-либо подходящее из того, что пел в Бетелево. Песня Петуха не подходила, о ямщике или кочегаре – было бы грустно. И вспомнив часто напеваемую родителями мелодию, я заголосил:
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки
И – в дальний путь, на долгие года.
Зал грохнул аплодисментами, мне дали шоколадку и спустили к маме и папе, смущенным моим успехом.
Потом пришел приказ о перемещении ремонтной базы в новое место, за наступающим фронтом. Был семейный совет, папа сказал: