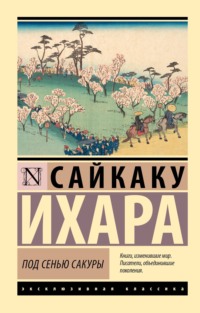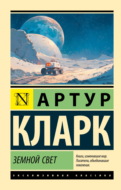Kitabı oxu: «Под сенью сакуры»
© Перевод. Т. Редько-Добровольская, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Ихара Сайкаку и его «Рассказы об изменчивом мире»
Журавль, летящий к западу
«Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих…»1 Эти слова Сервантеса можно с полным правом отнести к знаменитому «осакскому насмешнику», вошедшему в историю японской литературы под именем Ихара Сайкаку (1642–1693).
Ихара – фамилия писателя, Сайкаку – псевдоним, который по смыслу составляющих его иероглифов означает «Журавль, летящий к западу». Оба эти слова несут повышенную семантическую нагрузку: журавль – символ долголетия, запад в буддийской символике – Чистая Земля, рай будды Амиды. Однако в японском языке существует и слово-омофон «сайкаку» со значением «сообразительность», «смекалка», «деловая сметка». Не исключено, что писатель вкладывал в свой псевдоним и этот смысл, намекая тем самым как на свое купеческое происхождение, так и на прославившую его словесную находчивость и изобретательность.
Сайкаку занимает почетное место в ряду писателей-классиков своей страны. Его произведения переведены на многие языки мира. В Японии написаны сотни книг и статей, посвященных различным сторонам его творческой биографии. И все же Сайкаку по сей день остается одной из самых загадочных фигур в истории японской литературы.
Певец любовной страсти – и суровый моралист, призывавший читателя остерегаться женских «хитростей» и «проказ».
Жизнелюбец, человек отнюдь не аскетического мировоззрения – и отшельник, окончивший свои дни в уединенной хижине.
Летописец города, не боявшийся «рыскать по грязным закоулкам современной жизни» (так неодобрительно отозвался о нем его великий современник – поэт Басё), – и виртуозный мастер поэтических сцеплений, намеков и реминисценций.
Романист, воспитанный на традициях средневековой литературы, – и смелый ниспровергатель литературных норм и приличий.
Профессиональный сочинитель, работавший по заказу издателей, принужденный ориентироваться на вкусы публики, – и создатель бессмертных шедевров, пленяющих богатством фантазии и поныне хранящих свое живое обаяние…
В предлагаемую вниманию читателей книгу включены произведения Сайкаку, написанные в разные годы и в разных жанрах. Каждому из них присущи свои особенности, свои характерные черты. Но, взятые вместе, они образуют некую художественную целостность. Во всем, что создано писателем, безошибочно угадываются черты его зоркого, ироничного таланта. Творчество Сайкаку – плод индивидуального художественного стиля и индивидуального художественного сознания.
Рождение этой новой и неповторимой по своему своеобразию творческой личности было во многом обусловлено характером эпохи, несшей в себе могучую энергию перемен.
«Скромный ренессанс»
XVII век был поворотным этапом в жизни Японии. В 1603 году князь Иэясу, основатель могущественной династии Токугава, сокрушив сильных и непокорных противников, провозгласил себя сёгуном – верховным военным правителем и объединил раздробленную на отдельные феодальные княжества страну в централизованное государство. Отошли в прошлое века кровавых междоусобиц и смут, установился долгожданный мир, и Япония вступила в новый период своей истории.
Началась так называемая «эпоха Кинсэй» (буквально – «ближние века»), длившаяся более двух с половиной столетий и занимающая промежуточное положение между Средневековьем и Новым временем.
Главной приметой этой эпохи стал невиданный расцвет городской цивилизации. Центрами культуры были уже не дворцы и не монастыри, а крупнейшие города того времени – Киото, сохранивший величие и престиж древней столицы Японии, новая сёгунская столица Эдо, порт Нагасаки, куда разрешалось заходить иностранным торговым судам. И, конечно же, родной город Сайкаку – Осака, о котором русский книжник, автор рукописной «Космографии» 1670 года, сообщал:
«…Есть город Оссакая, славен и вельможен. И волен во всем. Во всех восточных царствах славнейший. К тому городу из разных окрестных государств с разными товарами приезжают, ярмонки и торговли великие бывают. Жители того города – торговые люди. Средней статьи [жители] – всяк имеет 10000 золотых червонных и больше. А большой статьи – несказанного богатства купцы»2.
Сословная система того времени выражалась формулой: «самураи, земледельцы, ремесленники, торговцы». Поставленные феодальным законом на низшие ступени социальной иерархии, не обладавшие ни привилегиями, ни какой-либо политической властью, горожане, особенно купечество, сосредоточили в своих руках реальную экономическую мощь и огромные богатства. В финансовую зависимость к ним все чаще попадали феодалы, которых те ссужали деньгами под залог имущества, вплоть до земельных участков. Богатые купцы окружали себя роскошью, способной вызвать зависть даже у представителей самурайской знати.
В 1649 году правительство издало указ, свидетельствующий не столько о жесткой притеснительной политике властей в отношении горожан, сколько об экстравагантности вкусов последних: им запрещалось носить повседневную одежду из шелка, жить в трехэтажных особняках, украшать жилище золотой и серебряной фольгой, пользоваться лаковой утварью, расписанной золотом.
В произведениях Сайкаку можно встретить немало иронических замечаний по поводу овладевшего горожанами духа расточительства. «В последнее время, – писал он, – купеческие жены сплошь и рядом потянулись к роскоши. При том, что у них нет недостатка в одежде, каждая норовит заказать себе к новогоднему празднику наряд по последней моде. Ей угодно, чтобы он был сшит из самого дорогого шелка, да еще расписан самым изысканным узором, так что плата мастеру перекрывает стоимость самой материи… Пояс ей подавай из настоящего атласа, какой в старину завозили к нам из Китая. Право, уж лучше бы она опоясалась монетами из чистого серебра! Гребень у нее в волосах, должно быть, тянет на два золотых – с таким же успехом она могла бы украсить прическу тремя полновесными мешками риса!»3
Городская жизнь XVII века была, как никогда прежде, интенсивной и разнообразной. Быстро разрастались торговые улицы, с ними соседствовали кварталы увеселительных заведений и театров. Эти «нехорошие места» служили центром притяжения и для знати, и для незнатного люда.
Гетера – законодательница мод, певица и музыкантша, обученная не только тайнам «науки страсти нежной», но и искусству поэзии, каллиграфии, аранжировки цветов, – влекла к себе сердца как светских щеголей, так и представителей художественной элиты. Ремесло жрицы продажной любви не считалось позорным. Напротив, образ «юдзё» – «девы веселья» был овеян романтическим ореолом и, по идущей от Средневековья традиции, ассоциировался не только с женской красотой, но и с высшей мудростью: переменчивость ее сердца олицетворяла непостоянство всего сущего как универсальный закон бытия.
Эпоха Сайкаку, какой ее запечатлело искусство, проникнута ощущением пышности, свободы и праздника, что вполне объяснимо, если оглянуться на предшествующие века японской истории, сопровождавшиеся жесточайшими потрясениями и катаклизмами. И хотя, как у всякой эпохи, у нее имелась и своя неприглядная изнанка, это было время, когда, по выражению американского исследователя Г. Гиббетта, «недуги сёгуната, ставшие уже хроническими, еще не успели перейти в стадию обострения»4.
Правительство Токугавы поощряло просвещение. Князю Иэясу, первому сёгуну из династии Токугава, приписывается следующее высказывание: «Как может человек, далекий от Пути Просвещения, должным образом управлять страной? Единственным способом приобщения к знаниям служат книги. Посему издание книг есть первейший признак хорошего правителя»5. Под просвещением в ту пору понималось прежде всего приобщение к конфуцианскому учению, ставшему государственной идеологией. С этой целью в стране было создано множество школ, как правительственных, так и частных. Наряду с выходцами из привилегированного сословия возможность учиться в них получили и дети горожан.
С ростом грамотности возникла потребность в книгах. Дорогостоящие рукописи не могли удовлетворить возросший читательский спрос. С появлением в 20-х годах XVII века коммерческой печати широкое распространение получило книгопечатание способом ксилографии. Оттиснутые с резных деревянных досок, книги стали издаваться большими тиражами, с искусными черно-белыми иллюстрациями и выполненным каллиграфической вязью текстом. Они были сравнительно недороги, доступны даже горожанам средней руки.
Значительное место в книжной продукции XVII века занимали произведения японской классической литературы X–XIV веков: «Повести Исэ», «Повесть о Гэндзи», «Записки у изголовья», «Рассказы, собранные в Удзи», «Записки от скуки», «Собрание старых и новых песен Японии», «Сто стихотворений ста поэтов» и др. В числе первых коммерческих изданий того времени оказывались и некоторые сочинения китайских авторов, например, собрание судебных казусов Гуй Ваньжуна «Сопоставление дел под сенью дикой груши» (XII в.) и сборник дидактических притч XIII в. «Двадцать четыре примера сыновней почтительности». В ходе приобщения к литературному творчеству представители новой японской интеллигенции, формировавшейся главным образом из горожан и выходцев из захудалых самурайских родов, осваивали художественное наследие прошлого.
На протяжении XVII столетия городская культура проделала большой путь. Чутко реагируя на происходившую в обществе смену нравственных приоритетов и эстетических предпочтений, она менялась сама и одновременно меняла облик того, что принято именовать японской художественной традицией. Эта культура демократична и носит по преимуществу светский характер. Буддийские идеи и символы, определявшие существо интеллектуальных и художественных движений предыдущих эпох, утратили свое универсальное значение и подверглись заметному переосмыслению под натиском новых представлений о мире, диктуемых опытом повседневной практической жизни и обусловленными ею ценностями.
Для обозначения земного бытия культура XVII века по-прежнему использовала известное еще со времен раннего Средневековья слово «укиё» («плывущий», быстротечный, изменчивый мир), но теперь оно отражало не столько буддийскую идею иллюзорности и непостоянства всего сущего, сколько представление о сиюминутных радостях и удовольствиях «мира сего»:
Жизнь – всего лишь наважденье,
Но ведь хороша!..
Станет плоть бесплотной тенью,
Отлетит душа.
Наслаждайся же покуда,
Балуй естество:
Пей, да пой, да веруй в чудо —
Больше ничего!6
В XVII веке слово «укиё», не утратив традиционных смысловых коннотаций, приобрело такие новые значения, как «чувственный», «легкомысленный», «современный». На языке того времени выражение «одержимость укиё» означало «разгульную жизнь», под «разговорами об укиё» разумелись пикантные сплетни, «напевами укиё» именовались модные песенки вроде приведенной выше, а если кого-нибудь называли «укиё-отоко», можно было не сомневаться, что речь идет о щеголеватом повесе.Укиё, изменчивый, превратный, но от этого тем более привлекательный, а главное, соразмерный человеку мир – краеугольное понятие культуры того времени.
Осознание самоценности земного бытия было открытием, за которым, однако, стоял духовный опыт культуры XIV–XVI веков, развивавшейся под знаком дзэн-буддизма. Дзэнская мысль о тождестве эмпирического и истинно сущего, суетных страстей и просветленного бесстрастия послужила той почвой, на которой взросла жизнелюбивая, гедонистическая культура XVII века. Сутолока повседневной жизни проникала в литературу, на театральные подмостки, в условно-декоративный мир живописи, освежая и обогащая язык искусства. Складывался новый художественный стиль, в котором «умозрение» средневекового художника вытеснялось реальным «зрением»7, а обобщающей символике классических образов противополагалась сила непосредственного чувства и яркость конкретного жизненного наблюдения.
Расцвет этого нового по духу и стилю искусства приходится на последнюю четверть XVII века – период, который, по выражению Дж. Сэнсома, стал для Японии «скромным ренессансом»8. Именно тогда, вдохновляя друг друга, творили поэт Мацуо Басё, драматург Тикамацу Мондзаэмон, живописец и мастер жанровой гравюры на дереве Хисикава Моронобу. К этому блистательному созвездию талантов принадлежал и Ихара Сайкаку.
«Это по-голландски!»
Имя Сайкаку прославили его прозаические сочинения, между тем свой путь в литературе он начал как поэт.
Подобно многим выходцам из состоятельных купеческих семей, завершив курс начального образования в приходской школе, он пятнадцатилетним юношей стал обучаться поэзии, что для человека с литературными амбициями было равнозначно получению серьезного филологического образования.
В то время непревзойденным мастером и наставником молодых поэтов считался Мацунага Тэйтоку (1571–1653). Он и его последователи с благоговением относились к традициям старины и прививали своим ученикам навыки виртуозного владения техникой версификации.
Годы ученичества были для Сайкаку временем погружения в мир классической литературы и приобщения к тайнам мастерства, однако жестко регламентированный набор поэтических средств ограничивал возможности самовыражения, без которого не мыслил себе творчества молодой поэт.
В 60-е годы XVII века большую известность в поэтических кругах приобрела возглавляемая Нисиямой Соином (1605–1682) осакская школа «Данрин», приверженцы которой экспериментировали со стихом, вводили в поэзию новые темы и образы, подсказанные городской жизнью того времени. Они стремились вернуть вознесшемуся над повседневностью литературному слову его первоначальную простоту и конкретность. Их излюбленным стилем был пародийный гротеск, наибольшим же признанием у них пользовались произведения, как можно менее похожие на «классические» образцы.
В среде сторонников этой школы получили распространение так называемые «докугин хайкай» – «сольные» выступления поэтов, пришедшие на смену коллективному сочинению «стихотворений-цепочек» (рэнга), одному из видов традиционного поэтического творчества. «Докугин хайкай» давали возможность стихотворцам вырабатывать собственный стиль, привносить в поэзию индивидуальное авторское начало.
Эта атмосфера творческой свободы и несогласия с традицией не могла не импонировать Сайкаку, который с первых же самостоятельных шагов на поприще поэта отстаивал за собой право писать иначе, чем требовал шлифовавшийся веками поэтический канон. В предисловии к одному из ранних стихотворных сборников он писал:
«Некто спросил: «Почему вы предпочитаете поэзию, свободную от общепринятых правил?» Отвечаю: «Мир поэзии сделался мутным. Лишь я один прозрачен. Зачем же, хлебая этот мутный суп, вылизывать еще и осадок?»И далее:«От стихов, которые приходится то и дело слышать, уши покрываются плесенью, а язык зарастает мхом. Они никуда не годятся и напоминают ворчание немощных стариков».
Идеалом Сайкаку было творчество, «свободное от общепринятых правил». Созерцательности средневековой рэнга он противопоставил спонтанность внезапной остроты, традиционной поэтической лексике – стихию просторечия, закрепленным в каноне законам поэтической дикции – живую, часто насмешливую разговорную интонацию.
Новации Сайкаку в области стихотворного языка вызывали критику со стороны поэтов-традиционалистов, пренебрежительно именовавших его «голландцем». В те времена Голландия была единственной европейской страной, с которой торговала Япония, и поэтому воспринималась как символ всего чуждого, непривычного, экзотического, экстравагантного. «Даже малые дети в Нагасаки, – замечает в этой связи Дональд Кин, – кричали: “Это по-голландски!”, когда кто-нибудь из них нарушал правила игры»9. Называя поэзию Сайкаку «голландской», ревнители чистоты поэтического стиля выводили его творчество за пределы искусства. В мире традиционной поэзии он и впрямь казался чужестранцем.
Сайкаку поражал современников не только неожиданными стилистическими вывертами, но и невероятной скоростью, с какой ему удавалось сочинять (а точнее, «выпаливать») стихи во время своих «сольных» выступлений. В 1677 г. он установил своего рода рекорд, сложив в течение суток тысячу шестьсот строф подряд, – это означало, что на каждую строфу у него уходило в среднем чуть более минуты. В 1680 г., приняв вызов двух других поэтов, Сайкаку улучшил этот результат, доведя количество строф до четырех тысяч. А в 1684 г. на поэтическом турнире в осакском храме Сумиёси он сочинил за сутки… двадцать три тысячи стихотворных строф, повергая в растерянность писцов, не успевавших переносить его стихи на бумагу10.
Поэзия Сайкаку была искусством мгновенной импровизации, «способом наискорейшей записи мыслей»11 и жизненных наблюдений. Его стихотворные цепи напоминают вереницу жанровых картинок-миниатюр, в которых преобладает не лирическое, а повествовательное начало. Вероятно, именно поэтому стихотворные экспромты Сайкаку при всей их живости и остроумии впоследствии были забыты. Зато из захлестывавших его поэзию «прозаизмов» со временем выросла великолепная проза, которой было суждено пережить и самого писателя, и его эпоху.
Рассказы об изменчивом мире
Произведения, созданные Сайкаку-прозаиком, вошли в историю японской литературы под названием «укиё-дзоси» – «рассказы об изменчивом мире». Этот термин, появившийся в самом начале XVIII века, не только закреплял за творчеством писателя принадлежность к новому художественному стилю эпохи, но и проводил разграничительную черту между ним и произведениями предшествующей литературы, которые именовались «кана-дзоси» («рассказы, написанные слоговой азбукой», т. е. по-японски – в отличие от сочинений на китайском языке – и рассчитанные на широкий круг читателей).
Проза кана-дзоси сохраняла прочную связь с традицией. Главенствующее положение в ней занимали жанры, унаследованные от средневековой литературы. Однако на протяжении XVII столетия они стали претерпевать некоторую деформацию. Так, в эпическом повествовании сквозь толщу традиционных художественных воззрений стали пробиваться ростки нового отношения к изображаемому. Внимание авторов привлекали уже не только ратные подвиги героев, но и «неофициальная» сторона их жизни.
Определенные сдвиги наметились и в поэтике двух других распространенных жанров – новеллы о чудесах и любовной повести. Создатели рассказов об удивительном все чаще обращались к обыденной, повседневной жизни города XVII века, причем их интерес к бытописанию порой даже превалировал над желанием увлечь читателя повествованием о чудесном происшествии как таковом. «Уточняющая» бытовая деталь прокладывала себе путь и в любовной повести, изобличая ее романтически приподнятый тон как некую условность, дань традиции.
Черты нового отношения к изображаемой действительности и литературному герою расшатывали канон средневековых жанров, но еще не вели к его коренному переосмыслению. То, что в прозе кана-дзоси ощущалось лишь как отклонение от идеально уравновешенной художественной системы, в творчестве Сайкаку приобрело характер нового художественного единства.
Открывая его книги, читатели «обнаруживали, что рассказы об их собственных проделках и причудах столь же занимательны, как любая из книг, завезенных из Китая или созданных у них на родине в давние времена. Лисы, принимающие обличье красавиц, суровые воины и сказочные принцессы все еще оставались в литературной моде, но теперь они казалисьслишком знакомыми, в отличие от таких персонажей укиё, как беспутный гуляка, изысканная куртизанка или своенравная купеческая жена»12.
В 1682 году вышел в свет первый роман Сайкаку «Мужчина, несравненный в любовной страсти»13, ставший символом наступления новой эпохи в японской литературе. Символично уже само имя главного героя – Ёноскэ, которое в буквальном переводе означает «Человек нашего мира». Это имя подсказывало читателю, что перед ним человек иной судьбы, нежели знакомые герои средневековой прозы.
Содержание романа составляет история жизни главного героя с той поры, когда в нем впервые пробуждается любовная страсть, и до того момента, когда состарившийся и одряхлевший Ёноскэ отправляется в Нагасаки, снаряжает корабль под красноречивым названием «Сладострастие» и уплывает на легендарный остров Женщин, обитательницы которого славятся неиссякаемым любовным пылом.
Неожиданный финал книги своей гротескной выразительностью разрушал стереотип традиционных любовных повестей и романов, главной целью которых было показать, как герой после грешной жизни приходит к осознанию суетности всего земного и обращает помыслы к спасению.
Сайкаку ставил перед собой иные задачи. Жизнь Ёноскэ протекает не в условно-исторических декорациях средневекового лирического романа, а на фоне точно воспроизведенных внешних примет современной автору Японии. Писатель перемещает своего героя из бытийного пространства в бытовое и приближает к читателю настолько, что становятся заметны забавные, несуразные черты его характера. Новизна романа Сайкаку состояла не только в его теме, но прежде всего в стремлении изобразить человека и мир не такими, «какими они должны быть», а такими, «каковы они есть».
«Мужчина, несравненный в любовной страсти» положил начало целой серии книг, повествующих о судьбах людей в «изменчивом мире» наслаждений. К этой серии принадлежат знаменитый цикл «Пять женщин, предавшихся любви», повесть «История любовных похождений одинокой женщины», сборник рассказов «Превратности любви» и многие другие произведения. Их персонажи – такие же неутомимые искатели любовных приключений, как Ёноскэ. Они ни во что не ставят законы официальной морали, предпочитая аскетическому пониманию долга и трезвому купеческому благоразумию удовольствия грешной любви.
«Что ни говорите, смешон тот, кто изображает, будто его с души воротит от дел любовных. С самой эры богов любовь есть высочайшее из доступных человеку наслаждений». («Пожилой кутила, сгоревший в огне любви»)
В этих словах Сайкаку заключена главная мысль его книг о любовной страсти. Внимание в них целиком сосредоточено на описании приключений – и злоключений – героев в мире чувственности, но само это описание настолько полнокровно и ярко, что бросает свет далеко окрест, позволяя автору заглянуть в тайны человеческого сердца и уловить определенные закономерности в хитросплетениях людских судеб.
В творчестве Сайкаку окружающая человека действительность обрела новые очертания и новые краски. Он изображал обыденную жизнь своего времени, отталкиваясь от традиций предшествующей литературы, но при этом больше доверяя своему зрению, нежели знаниям, почерпнутым из книг.
Он пытался запечатлеть жизнь во всем ее хаотичном разнообразии, не притязая на полноту обобщений и окончательность выводов.
Он смотрел на мир иначе, чем его предшественники, – пристально, с ошеломляющей подчас фамильярностью, – и поэтому ломал привычные законы перспективы. Мир Сайкаку лишен какой бы то ни было упорядоченности и определенности – в нем всё «на плаву», всё переменчиво, подвижно, неоднозначно. Неожиданные развязки его рассказов – не только эффектный литературный прием, но и свидетельство непредсказуемости человеческой жизни.
Сайкаку изображал современную ему действительность с дотошностью летописца и азартом первооткрывателя. Обычаи и нравы горожан, названия торговых улиц и кварталов любви, цены и находящиеся в обращении монеты, модные узоры и бытовая утварь – весь этот внелитературный антураж эпохи становится в его книгах неотъемлемой частью художественной реальности, конкретным и узнаваемым фоном, на котором разворачивается действие его повестей и рассказов.
Виртуозный мастер сюжетного повествования, Сайкаку намеренно перебивал его пространными «зарисовками с натуры», стараясь впустить в свои рассказы «сырую» жизнь, как будто бы не имеющую никакого отношения к литературе.
То же можно сказать и о героях рассказов Сайкаку: они кажутся подсмотренными в самой жизни, но их характеры сгущены до такой степени гротескной выразительности, что оказываются ярче и живее, чем любая натура.
Скареды, корыстолюбцы, неудачники, беспечные гуляки, простаки, лжецы, хитроумные пройдохи – вот излюбленные персонажи Сайкаку, кочующие из одной его книги в другую. Затесавшись в их толпу, нетрудно прослыть святым – для этого и нужно-то всего лишь не позариться на чужое («Торговец солью, прослывший святым»). В их мире даже богам приходится учиться житейской мудрости, чтобы не пропасть с голоду («Даже боги иногда ошибаются»).
Если у Сайкаку и встречаются идеальные герои, то, пожалуй, это лишь персонажи его «самурайских» сборников – наследники и хранители воинской славы минувших веков. Их жизнь подчинена требованиям самурайской чести, главные из которых – верность господину, готовность мстить за обиду, способность пожертвовать жизнью и личным счастьем ради долга.
Казалось бы, тема долга и самоотречения должна окрашивать рассказы о самураях в эпические тона, но этого не происходит. Мысль автора движется в другом направлении. «Душа у всех людей одинакова, – говорится в предисловии к «Повестям о самурайском долге». – Прицепит человек к поясу меч – он воин, наденет шапку-эбоси – синтоистский жрец, облачится в черную рясу – буддийский монах, возьмет в руки мотыгу – крестьянин, станет работать тесаком – ремесленник, а положит перед собою счеты – купец».
Над повествованием о печальных судьбах самураев витает вопрос: а стоят ли даже самые высокие идеалы тех жертв, которыми за них приходится платить? В рассказе «Родинка, воскресившая в памяти прошлое» герой берет в жены обезображенную оспой девушку, так как долг обязывает его сдержать обещание, данное родителям невесты задолго до свадьбы. Законы чести торжествуют. Однако автор заключает рассказ словами, в которых сквозит ирония: «Будь эта женщина красавицей, Дзюбэй, скорее всего, разнежился бы, поддавшись на ее чары, но, поскольку он женился на ней потому лишь, что так велел ему долг, все его помыслы устремились к совершенствованию в воинских искусствах… и имя его прославилось в нашем мире».
В книгах Сайкаку пафос и ирония не существуют по отдельности, а соседствуют друг с другом. Жизнь, всецело подчиненная сверхличным ценностям, кажется писателю придуманной, слишком уж идеальной. Его занимают не столько человеческие добродетели – о них и так было слишком хорошо известно из литературы прошлого, – сколько слабости, пороки и несовершенства, ведь именно в их зеркале отражается живая, всамделишная жизнь.
Если Сайкаку требуется нарисовать портрет красавицы, он чаще всего ограничивается беглым традиционным сравнением с «цветущей сакурой» или «стройным кленовым деревцем в осеннем багрянце». Другое дело, когда портретируемая «настолько дурна собою, что не отважится сесть возле зажженной свечи», – тут автор не жалеет красок, смакуя каждую подробность:
«Личико у ней хоть и скуластое, но приятной округлости. Лоб выпуклый, будто нарочно создан для покрывала кацуги. Ноздри, конечно, великоваты, зато дышит она легко и свободно. Волосы, нет спору, редкие, однако и это имеет свою выгоду: не так жарко летом. Талия, что и говорить, полноты изрядной, но ежели поверх платья надеть длинную парадную накидку свободного покроя, никто и не заметит. А то, что пальцы такие толстые да хваткие, даже хорошо – крепче будет держаться за шею повитухи, когда приспеет время рожать». («Разумные советы о том, как вести хозяйство с выгодой»)
Художественный мир Сайкаку живет по законам пародийного снижения. Это своего рода антимир, соприкасаясь с которым вся система принятых в обществе и освященных литературой нравственных правил неизбежно опрокидывается вверх дном, выворачивается наизнанку.
Сборник «Двадцать непочтительных детей страны нашей» служит пародийным отголоском китайской дидактической книги XIII века «Двадцать четыре примера сыновней почтительности». Притчи о благочестивых сыновьях, верных конфуцианскому долгу почитания родителей, были широко известны во времена Сайкаку не только в переводе, но и в многочисленных переложениях. Их отличие от оригинала состояло лишь в том, что действие переносилось в Японию, а герои наделялись японскими именами и «биографиями».
Совершенно иначе поступает в своей книге Сайкаку. «В наши дни молодые ростки бамбука ищут не под снегом, как Мэн Цзун, а в зеленной лавке; карпов, что плещутся в рыбном садке, хватит любому Ван Сяну», – пишет автор в предисловии к сборнику, давая читателю понять, что истории о самоотверженности Мэн Цзуна, отправившегося зимой в лес искать съедобные побеги бамбука для матери, или Ван Сяна, который, чтобы накормить мачеху карпом, лег на лед, пытаясь растопить его теплом своего тела, – изрядно устарели.
Сайкаку не просто подправляет подлинник, но меняет в нем все знаки на противоположные: герой превращается в антигероя, добродетель – в порок, дидактика – в иронию, а пафос – в гротеск. Пародийное смещение акцентов напоминает клоунаду, игру, но за этой игрой стоит отнюдь не шуточное стремление осмыслить реальную, невыдуманную жизнь, которая слишком далека от совершенства, чтобы соответствовать каким-либо образцам или «примерам».
Реальностью для Сайкаку была не только находившаяся у него перед глазами действительность, но и весь мир известной ему литературы далекого и недавнего прошлого, в которой он черпал материал для художественного осмысления и переосмысления. Чужое слово подстегивало его творческую фантазию, побуждало откликаться на него.
У Сайкаку немало произведений, открыто ориентированных на тот или иной литературный прототип. К их числу, помимо «Двадцати непочтительных детей», принадлежит книга «Сопоставление дел под сенью сакуры в нашей стране», которая, как явствует из ее названия, представляет собой японскую версию «детективных» рассказов Гуй Ванжуна из сборника «Сопоставление дел под сенью дикой груши». К этому же кругу произведений относятся и «Новые записки о том, что смеха достойно», правда, за вычетом названия этот сборник имеет мало общего с сочинением Дзёрайси «Записки о том, что смеха достойно» (1642) и уж во всяком случае не повторяет его уныло-проповеднический тон.
Порой обращение писателя к существующему в традиции материалу не носит столь явного и демонстративного характера и проявляет себя в сюжетных перекличках или общем замысле. Таков сборник «Рассказы из всех провинций», в котором звучит эхо книги XIII в. «Рассказы, собранные в Удзи». Оба произведения повествуют о чудесах, но для средневекового автора чудеса абсолютно реальны, Сайкаку же относится к ним скорее как к небывальщине, и сквозь фантастику его рассказов всегда проглядывают очертания реального и узнаваемого мира.