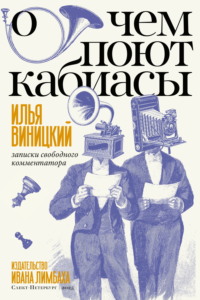Kitabı oxu: «О чем поют кабиасы. Записки свободного коммментатора»
Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща!
В. Маяковский. Юбилейное
Щастлив, кто родился к медицыне, к пиктуре, к архитектуре, к книгочетству. Я их благословенную, яко природную школу блажу и поздравляю. Радуюсь если и сам в одной из сих наук, только бы сие было с Богом, упражняюсь.
Григорий Сковорода


© И. Ю. Виницкий, 2025
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2025 © Издательство Ивана Димбаха, 2025
Введение
У Ильфа был Петров, у брата Гонкура брат Гонкур, у А. К. Толстого с братьями Жемчужниковыми – Козьма Прутков, у доктора Ватсона – Шерлок Холмс, у доктора Джекилла – Хайд, у Андрея Донатовича Синявского Абрам Терц, а у меня есть Виктор Щебень, называющий себя «свободным (а мы его – безумным. – И.В.) комментатором» и «великим (а мы его – нескромным. – И.В.) комбинатором». Этот Щебень мне не соавтор, не двойник и не автономная пародическая личность, а, так сказать, специально вымышленное доверенное ученое лицо, которому я, человек сдержанный и академический, доверяю некоторые свои научные гипотезы и фантазии, которые под своим именем никак не решился бы напечатать, боясь осуждения коллег, считающих, что настоящий профессионал, хотя и не подобен флюсу, но не должен скакать в разные стороны от темы к теме и от автора к автору и тем более не должен в научном исследовании использовать шаловливую лексику, задиристый тон, философско-меланхолические отступления и прочие сугубо литературные приемы, не говоря уже о некоторой библиографической неразборчивости и отдельных неточностях в цитатах. Мои коллеги совершенно правы. Поэтому мне и нужен Виктор Щебень – автор гораздо более смелый, авантюристичный и самовлюбленный, нежели я. Если вы спросите, где кончается Виницкий и начинается Щебень, я отвечу: «Виницкий кончается там, где начинается Щебень» (замечу попутно, что этот ответ не просто перифраз известного афоризма о Бене Крике, но и скрытый намек на прототипа одесского гангстера Мишку Япончика, чья настоящая фамилия была Винницкий – с двумя «н», но мы внешне похожи).
Родился этот воображаемый спутник таким образом. Холодной зимой далекого 2006 года я шел домой мимо старого здания университета Дружбы народов, который находится на улице Орджоникидзе, и в свете фонаря увидел торчавшую из сугроба загадочную надпись, состоявшую из больших красных букв: «…ЕБЕНЬ». Будучи человеком от природы любопытным, я пошел прямо к этой странной надписи и установил, что написана она была на большом ящике с закрытой снегом первой буквой «Щ». «Эй! – закричал с дороги веселый бдительный прохожий. – Ты там что, сокровище ищешь? Нашел?» «Да! – ответил я. – ЩЕБЕНЬ». Вот так, из сора (точнее, снега) и без стыда, на свет появился мой спутник. Потом я дал ему отчество (Потрикович – в честь названия университета и в память об одном скандальном народном пиите, о котором речь пойдет далее), придумал ему портрет (см. выше) и биографию, защитил ему две диссертации (его американская докторская называлась «Вместе весело шагать…»: Роль визуальных постановок песен Владимира Шаинского в формировании трудовой политики в восточно-центральной Европе в 1983–2011 гг.» [Walking Together: Visual Reenactments of Vladimir Shainskii's Music in Shaping Labor Policy in East-Central Europe, 1983–2011], дал от его имени несколько интервью, устроил его на работу в Университет доморощенной науки и образования (УДНО) и написал для него несколько ученых трудов на двух языках, которые зажили своей собственной жизнью.
Конечно, в некоторых (но не всех!) своих работах Щебень предстает как увлекающийся комментатор и интерпретатор, выуживающий из заинтересовавших его мелких реалий-деталей большие смыслы и постоянно применяющий собственные открытия к себе и своему житейскому и читательскому опыту. В то же время такая страстная персонализация культурного материала и культурных проблем кажется мне показательной, ибо отражает переживания современного интеллигента-книжника, запутавшегося в сложной историко-политической обстановке и в глубине души сомневающегося в нужности своей когда-то считавшейся веселой науки, к которой он пригвожден, как Блок к трактирной стойке.
Предлагаемая вашему вниманию книга, можно сказать, удочерена Щебнем, собравшим в нее, следуя моему примеру (книга «О чем поет соловей». СПб., 2022) несколько в той или иной степени авантюрных статей, написанных в разное время, расположенных в четырех тематических пучках-кластерах и объединенных общим принципом: Щебень пишет, как он дышит, а дышит он тем, что вокруг него пышет. За то ему и все шишки, а моя хата с краю.
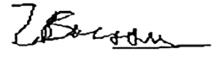
И. Ю. Виницкий
Свободный комментарий
Методологигеское предуведомление от автора
Любая интерпретация старого текста, не опирающаяся на подробный профессиональный комментарий, неверна по определению, и это закон, который не знает исключений.
А. А. Долинин. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар»
Дар напрасный, дар случайный…
А. С. Пушкин
«Комментарий я считаю высшим филологическим жанром!» – когда-то безапелляционно сказала мне одна специалистка по средневековой литературе, полезные работы которой можно читать только в качестве аскетического подвига. «Комментатор превращает себя не в исследователя, а в собеседника, в своего рода пародиста (в тыняновском смысле) исследуемого автора, – заметил мой коллега-теоретик, относящийся к этому жанру, как бык к Красной книге. – Это такое нежелание брать на себя ответственность, вышивать по краям безопасно, – эмоционально продолжил он. – Ведь вместо того, чтобы написать свой собственный роман, комментатор превращает чужое произведение в хронику, и этот отказ от сюжетостроения – пагубен».
Как же пройти бедному филологу, сознающему блеск и нищету старинного жанра, между этими диаметрально противоположными оценками? Не знаю, но я решил попробовать провести эксперимент на самом себе – написать ответственный комментарий с безответственным сюжетом, то есть пойти туда, куда, так сказать, влечет меня свободный поиск, усовершенствуя плоды любимых дум и не требуя гонораров за подвиг благородный.
В результате, прячась от мрачного времени в виртуальное прошлое, я как-то почти непроизвольно стал комментировать отдельные темы в произведениях русской (и не только) литературы, по той или иной причине привлекшие мое внимание в последнее время, – в оде к Фелице Державина (по следам Якова Карловича Грота), в «Герое нашего времени» (по следам Бориса Михайловича Эйхенбаума и Вадима Эразмовича Вацуро), в письмах и повестях Гоголя (по следам Юрия Владимировича Манна и Михаила Вайскопфа), в романах Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» (по следам Юрия Константиновича Щеглова), в неоромантической поэзии и прозе советских авторов Максима Горького, Владимира Маяковского, Эдуарда Багрицкого и Юрия Казакова (по следам друзей моих Олега Лекманова и Алексея Балакина). В какой-то момент мой комментарий вышел из-под строго академического контроля и, втягивая в свою орбиту меня самого, начал набухать и развиваться в непредсказуемом, но, как мне кажется, любопытном направлении. Ниже я делюсь результатами этого экспериментального свободного плавания в духе Леопольда Блума.
Одним словом: о чем эта книга? Да о жизни, конечно. О том, как в ней все связано, удивительно, жутко, иллюзорно и непонятно. О духах и демонах литературы, о культурных рифмах, о политике, любви (в том числе и плотской), радостях, воображении, дури (в том числе и поэтической) и страхах; о королях и капусте, об узорах и кляксах истории и чуть-чуть обо мне как ее части и свободном, хотя и несколько скучноватом, несколько подслеповатом и даже несколько на вид безумноватом комментаторе.
Выражаю глубокую благодарность моим коллегам и друзьям А. Ю. Балакину, Алине Бодровой, Алле Бурцевой, Майклу Вахтелю, Алексею Вдовину, Славе Беровичу, Тамаре Гундоровой, Любе Голбурт, А. А. Долинину, А. К. Жолковскому, Всеволоду Зельченко, Дмитрию Иванову, А. А. Кобринскому, Илье Кукулину, Юрию Левингу, Константину Лаппо-Данилевскому, О. А. Лекманову, М. Ю. Люстрову, Г. А. Левинтону, Марку Липовецкому, Марии Майофис, Михаилу Макееву, В. Ю. Мильчиной, И. Г. Охотину, М. Г. Павловцу, Николаю Плотникову, Ладе Пановой, С. И. Панову, Симеону Плотскому, Олегу и Вере Проскуриным, Екатерине Правиловой, Валерии Соболь, Сергею Ушакину, Людмиле Федоровой и Е.Я. Шмелевой. Книгу посвящаю С. В. Коршуновой – супруге И. Ю. Виницкого, которой я (втайне от мужа и моего друга-учителя) вслух читал страницы за страницами этого творения.

Виктор Щебень, PhD.
Кластер первый
О поэзии и прозе. Анализы
Я с детства был ранен алгеброй Макарычева и Ко, явившейся в мою жизнь в шестом классе средней школы в образе прямой и грозной, как копье спартанца, учительницы Валерии Викторовны Стрелковой. Все ученики нашего класса ее боялись и между собой шепотом называли не по имени, а алгебраически буквами – ВэВээС. Она была умна, резка, педантична, язвительна и жестока до такой степени, что каждый урок казался нам психологической пыткой, а изучаемые откровения («с помощью чисел, знаков действий и скобок можно составлять различные числовые выражения») – черными дырами, о существовании которых мы тогда и не знали. ВВС требовала от нас не только понимания проблем и логической последовательности доказательств, но и постановки точек с запятой или точек в конце каждого математического заключения. Пятна и зачеркивания в тетради она воспринимала как личное оскорбление (двумя пальцами она брезгливо поднимала за обложку такую тетрадь, и бедные страницы потоком падали из нее на пол, как слезы). Она была моралисткой («без знания математики ты будешь в лучшем случае экономный мужЫк – через „ы“!»), мизантропкой и прирожденным сатириком: от ее метких словечек у несчастных жертв выступал холодный пот на лбу.
Мой друг Ш. в написанном в том году сатирическом романе в двух тетрадках изобразил ее в виде фурии, попытавшейся извлечь из одной нерадивой ученицы гипотенузу при помощи ножа. Неудивительно, что алгебра в результате мне не далась, мышление, несмотря на явное развитие левого мозгового полушария, осталось не до конца дисциплинированным, почерк – нечитаемым, а тетради всегда с кляксами и помарками. Правда, тогда же пробудилось во мне поэтическое чувство – своего рода душевный протест против правил и требований, но этот бунт на корабле ВВС немедленно заметила и высмеяла перед всем классом мое первое и единственное опубликованное стихотворение.
В итоге я стал напуганным литературоведом с вялой мечтою о спрятанных в литературных произведениях тайнах натуры и души, которые мне уже не открыть. Предлагаемые ниже главы – последовательные попытки вытеснения той давней психологической травмы, что до сих пор мучит меня во снах и исследованиях – своего рода экзорцизм, if you get my drift.
I. Уравнение Мери, или Лермонтов и математика
Моя новая тематика —
Это Вы и математика.
Николай Олейников

Ada Programming
«Московская барышня»
В Пятигорске скучающий донжуан Печорин обращает внимание на княжну Мери Лиговскую – девушку с «легкой, но благородной» походкой и «тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины». Всезнающий конфидент Печорина доктор Вернер сообщает ему, что эта невинная московская княжна, приехавшая на воды с несколько вульгарной матерью, отличается умом и ученостью: она «читала Байрона по-английски и знает алгебру». Доктор также сообщает Печорину, что Мери «любит рассуждать о чувствах [и] страстях». Эти интеллектуальные увлечения княжны Вернер связывает с московской модой:
В Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей: княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка!1
Ехидная характеристика московской княжны вызвала возмущение первого рецензента романа Степана Шевырева, вступившегося в журнале «Москвитянин» за родной город:
…вот еще Эпиграмма на московских Княжен, что будто бы смотрят на молодых людей с некоторым презрением, что это даже Московская привычка, что оне в Москве только и питаются сорокалетними остряками…
Шевырев предположил, что сам доктор «жил в Москве недолго, во время своей молодости, и какой-нибудь случай, лично до него относящийся, принял за общую привычку». Критик также указал на несправедливость выпада Вернера против московских ученых барышень, то есть женщин-писательниц:
Заниматься литературой еще не значит пускаться в глубокую ученость; но пускай Московские барышни этим занимаются. Чего же лучше для литераторов и для самого общества, которое только выиграет от таких занятий прекрасного пола? Не лучше ли это, чем карты, чем сплетни, чем росказни, чем пересуды?..2
Интуиция подсказывает нам, что насмешливый доктор, разозливший московского рецензента, не только подчеркивает в своей характеристике княжны Мери московские черты, но и намекает на какую-то смысловую ассоциацию между английским поэтом, математикой, страстями и женским образованием, понятную Печорину и современным Лермонтову читателям. Одним словом, указание на Байрона и алгебру здесь является не случайной деталью, но тем, что Карло Гинцбург называл уликой, то есть отпечатком в тексте влиятельной литературной традиции, выявление которой поможет нам лучше понять романтическую идеологию и форму лермонтовского романа. Попробуем пойти по этому следу…
«Математическая Медея»
Начнем с того, что Байрон и математика – две вещи несовместные. Биографы поэта неизменно указывали на то, что в школе он ненавидел алгебру и геометрию и это отношение пронес через всю жизнь и творчество. В знаменитой 12-й строфе первой песни «Дон Жуана» Байрон высмеивает мать главного героя донну Инессу (Donna Inez), изучавшую математику и стремившуюся подчинять страсти правилам (в отличие от пошедшего другим путем сына):
Her favourite science was the mathematical,
Her noblest virtue was her magnanimity,
Her wit (she sometimes tried at wit) was Attic all,
Her serious sayings darken'd to sublimity;
In short, in all things she was fairly what I call
A prodigy – her morning dress was dimity,
Her evening silk, or, in the summer, muslin,
And other stuffs, with which I won't stay puzzling3.
Пер. П. Козлова:
Ей алгебра особенно далась,
Она великодушие любила.
Аттическим умом блеснуть не раз
Случалось ей; так мысли возносила,
Что речь ея была темна под час,
Но всё ж она за чудо света слыла,
Любила свет, в нарядах знала толк,
Носила дома шерсть, а в людях шолк4.
В следующих строфах иронически описываются другие таланты этой ученой моралистки – знание латыни, греческого, французского (так себе), английского и древнееврейского (при слабом владении родным испанским)5, интерес к (вульгарной) этимологии и страсть к проповедям и назидательным сентенциям. В XVI строфе Байрон сводит черты Инессы в единую формулу, свидетельствующую, справедливости ради, о крайне упрощенном понимании поэтом математики как арифметики-бухгалтерии (в этой строфе он издевается над популярными дидактическими сочинениями английских писательниц):
In short, she was a walking calculation,
Miss Edgeworth's novels stepping from their covers,
Or Mrs. Trimmer's books on education,
Or “Coelebs' Wife” set out in quest of lovers,
Morality's prim personification,
In which not Envy's self a flaw discovers;
To others' share let “female errors fall,”
For she had not even one – the worst of all6.
Пер. А. Соколовского:
Словом, это была ходячая арифметика, ходячий роман Мисс Эджворт, выскочивший из переплета, книга мистрис Триммер о воспитании, или, наконец, «Супруга Целеба», ищущая любовника. Словом, нравственность не смогла бы распространяться лучше ни в ком, и даже сама зависть не была б в состоянии подпустить под нее иголки. Женские пороки и недостатки представляла она иметь другим, потому что сама не имела ни одного, что, по-моему, всего хуже7.
Как известно, описание матери Жуана представляет собой язвительную пародию Байрона на жену Аннабеллу, которую он называл «принцессой параллелограммов» («Princess of Parallelograms») и «математической Медеей» («Mathematical Medea»). Эта «математическая» шутка Байрона была хорошо известна современникам из воспоминаний Медвина и биографии Мура. В примечаниях к процитированной выше строфе обычно приводился фрагмент из письма лорда:
У лэди Байрон были хорошие мысли, но она никогда не умела их выражать; она писала также и стихи, но они выходили удачными только случайно. Письма ее всегда были загадочны, а часто и совсем непонятны. Она вообще руководствовалась тем, что она называла твердыми правилами и математически установленными принципами8.
Сатирический выпад против ученой ханжи донны Инессы (а.к.а. леди Байрон) стал вступлением к антифеминистской кампании Байрона конца 1810-х – начала 1820-х годов, нашедшей отражение в письмах поэта (например: женщине лучше «вязать синие чулки, нежели носить их» [ «knit blue stockings instead of wearing them»]), издевательских строфах об образованных женщинах в венецианской поэме «Беппо» (1817) и четвертой песне «Дон Жуана» (1820), а также в напечатанной в 1823 году сатире-буффонаде «The Blues: A Literary Eclogue» («Синие. Литературная эклога»), в которой поэт обрушился на высоконравственных интеллектуалок из влиятельного женского просветительского кружка «Синий чулок» (The Blue Stockings Society), основанного еще в XVIII веке Элизабет Монтегю (1720–1800) и воспетого создательницей вышеосмеянной «Супруги Целеба» Ханной Мор (1745–1833) в стихотворении «Bas Bleu; or Conversation»9. В этой сатире с биографическим ключом Байрон вновь подчеркнул смехотворное (по его мнению) пристрастие «синих чулков» к математике:
Inkel. You wed with Midd Lilac! 'would be your perdition:
She's a poet, a chemist, a mathematician.
Tracy. I say she's an angel.
Inkel. Say rather an angel.
If you and she marry, you'll certainly wrangle.
I say she's a Blue, man, as blue as the ether.
Tracy. And is that any cause for not coming together?
Inkel. Humph! I can't say I know any happy alliance
Which has lately sprung up from a wedlock with science.
She's so learned in all things and fond of concerning
Herself in all matters connected with learning…10
Ср. в неточном переводе А. Соколовского, заменившего математику из списка добродетелей Лилы ботаникой (то ли слишком много слогов оказалось в слове «математика», то ли переводчику захотелось провести параллель с грибоедовским князь-Федором11):
Инкель
О, полноте, друг мой; об этой невесте
Вам нечего думать. Ведь демон она;
Навеки вас сгубит такая жена!
И химик она, и поэт, и ботаник.
Трэси
И ангел.
Инкель
Подобной особы избранник
Не будет, поверьте, счастлив никогда;
Домашняя сгубит обоих вражда;
Чулок она синий, синее зфира.

Thomas Rowlandson. Dr. Syntax with a Blue Stocking Beauty (1820).
Ученая барышня сидит в окружении книг, рукописей и разбросанных на полу «mathematical instruments»
Трэси
Но где ж тут причина, чтоб не было мира?
Инкель
Примера ни разу не видано мной,
Чтоб муж был счастливым с ученой женой.
Весь день занимаясь одною наукой,
Вам жизнь отравит она вечною мукой…12
В примечании к этому типичному для Байрона антиматематическому выпаду Томас Мур процитировал приведенные выше стихи о донне Инессе из первой песни «Жуана». Иначе говоря, интерес дам к точным наукам и, прежде всего, к математике оказывается, в интерпретации Байрона, главным критерием благонамеренного control freaking «синего чулка», не достойного семейного счастья или способного отравить жизнь своему многостороннему супругу13.
Не будет преувеличением сказать, что математику (понятую крайне упрощенно) сводолюбивый Байрон боялся, как свою рассудочную жену-Медею (то есть коварную волшебницу-убийцу из греческой мифологии), а ученую жену – как демоническую математику14. Впрочем, современная исследовательница объясняет резкую критику поэтом ученых женщин не столько психологическими особенностями и предрассудками романтического альфа-поэта, сколько специфической ситуацией на литературном рынке в Англии первой трети XIX века, а именно конкуренцией авторов-мужчин с доминировавшими до середины 1810-х годов писательницами15.
Ms. Matty Mattocks
Разумеется, ученая и высоконравственная леди Байрон придерживалась насчет женского образования совершенно иного мнения. Любовь к математике она передала (своего рода месть мужу) дочери Аде Августе (Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace, 1815–1852), которую хотела уберечь таким образом от дурной наследственности отца (страдавшего, по ее мнению, безумием). В психологическом режиме, установленном для дочери леди Байрон, математика («а course of severe intellectual study») должна была стать олицетворением разума, противопоставленного эмоциям (в том числе сексуальности), контролем, противостоящим беспорядку, а фигура матери – антидотом против влияния отца: «Math and reason were emotionally coded as female; poetry and passion were hidden, forbidden – and male» («математика и разум эмоционально кодировались как женские качества; поэзия и страсть были спрятаны, запрещены и воспринимались как мужские»)16.
В журналах и газетах 1830-х годов много писалось о математическом таланте Ады. Так, например, несколько раз перепечатывался связанный с нею анекдот-каламбур, в котором сталкивались математика и матримониальная тема:
Говорят, что Ада Байрон привязана к математике. Узнав об этом из газеты, одна пожилая дама воскликнула: «Боже мой, какая негодница! Имеет связь с Мэтью Мэттоксом (то есть Мате-Мати-ком. – В.Щ.) при живом муже!”17
В статье «Ada Byron and Lord King» (она перепечатывалась несколько раз по обе стороны океана) приводилось описание Ады (в замужестве леди Кинг-Ноэль), внешне похожей на отца, но, так сказать, гораздо более дисциплинированной и скромной:
…среднего роста, полная, с видом более независимым и заметным, нежели это свойственно английским дамам с деликатным воспитанием. Ее лоб и нос почти в точности напоминают скульптурный бюст ее отца, выполненный Бартолини, но нижняя часть ее лица тяжелее, чем у отца, и менее наполеоновская по своей форме. Зубы у нее правильные и белые, а рот, хотя и энергичный, и выразительный, менее женственный, чтобы казаться, как считается, привлекательным. В обществе она очень замкнута: обычно ее видят в самой тихой части комнаты в сопровождении дочерей известной миссис Сомервилль, ее неразлучных друзей. При великой простоте одежды и необыкновенной простоте манер она обладает тем легким умением владеть собой и неопределимым стилем, который отличает <..> исключительно высшие круги английского общества18.
Здесь же сообщалось о том, что Ада «имеет стойкое отвращение к поэзии и увлечена математикой – она не любит говорить о своем отце и утверждает, что ничего не знает о его произведениях». Иначе говоря, дочь поэта представлялась публике как персонификация антибайронизма – мыслящая, владеющая собой, простая и обаятельная женщина, новый (привлекательный) романтический образец для подражания, восходящий к идеалу «синих чулков» в понимании основательниц этого клуба.
Впоследствии (о чем Лермонтов не мог знать) Ада прославилась как талантливая женщина-математик (считается, что она была едва ли не первой в истории программисткой; в честь нее назван один из языков программирования19). Математику она называла поэтической наукой («poetical science»), в себе видела тайную интеллектуальную «демоническую силу», а о восхитившей ее воображение вычислительной машине писала: «The Analytical Engine weaves algebraical patterns just as the Jacquard loom weaves flowers and leaves»20. Впрочем, вопреки надеждам матери, математика не смогла уберечь ее от губительных страстей. В ранней юности она сбежала с молодым учителем (не с Мэтти Мэтиком, а преподавателем стенографии Вильямом Тернером), но была возвращена домой, и скандал удалось замять21. Личная жизнь дочери поэта сложилась печально, математические навыки она применила к азартным играм, а вырвавшиеся из-под контроля «байроновские страсти увели ее от алгебры к внебрачным связям». В 1852 она умерла от опухоли матки тридцати семи лет от роду – роковой возраст поэтов, включая ее отца22.
Сам Байрон после расставания с женой ни разу не видел Аду, которой время от времени посвящал дневниковые записи, представлявшие собой своего рода дистанционную борьбу с женой за душу дочери: «Я очень люблю мою маленькую Аду, хотя, возможно, что и она будет мучить меня, как математическая Медея, ее мать, которая думает теоремами и говорит проблемами и которая уничтожила, насколько это было в ее силах, своего мужа» (2 февраля 1818 года)23. Этот же мотив соперничества с коварной волшебницей женой звучит и в поэтической резиньяции в начале третьей песни «Паломничества Чайльда Гарольда»:
Is thy face like thy mother's, my fair child!
Ada! sole daughter of my house and heart?24
Дочь сердца моего, малютка Ада!
Похожа ль ты на мать? В последний раз,
Когда была мне суждена отрада
Улыбку видеть синих детских глаз,
Я отплывал…25
Свою незаконную дочь, рожденную два года спустя от связи с Клэр Клермонт, он назвал Аллегрой – имя звучит почти как алгебра, но как-то яснее и веселее.
Этот раздел вызвал заслуженные нарекания моего уважаемого коллеги и лучшего специалиста по англо-российским литературным связям эпохи Пушкина. «Я знаю, – говорил он мне, – что ныне по понятным причинам об Аде Байрон-Лавлейс написаны тысячи страниц, включая дамские романы, монографии и статьи, но в культурном сознании 1830-х годов ее попросту не было. Она была человеком непубличным, ее занятия математикой были делом частным и о них мало кто знал. Одна-единственная заметка, два-три упоминания в светской хронике, один анекдот о какой-то старой дуре, и это все. В чьих-то, не помню, воспоминаниях о высшем свете 1830-1840-х годов было сказано, что она ничего из себя не представляла, кроме того, что родила трех детей.
По-моему, лучше ограничиться синими чулками, а о ней только упомянуть мимоходом».
Увы, поздно. Прошу прощения у всех дошедших до этого места читателей за потраченное на чтение моей историкобиографической виньетки время. Хотя – нет: я упрямо держусь мнения, что скрытое присутствие Ады в культурном сознании той патриархальной эпохи было существенным, ибо отражало запрос времени на новую культурную героиню. Я о ней даже мало еще написал. Надо больше Ады!