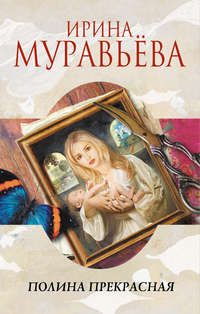Kitabı oxu: «Полина Прекрасная (сборник)», səhifə 3
Эта неудавшаяся попытка самоубийства произвела на Полину самое что ни на есть тяжелое впечатление, и несколько недель она старалась не оставлять маму дома одну, а если и уходила куда-то, то звонила ей каждые пятнадцать минут из телефона-автомата.
Лиц мужского пола, привлеченных красотою Полины, и даже не столько ее красотою, сколько непередаваемо милым и добрым выражением лица, увы, становилось все больше и больше. В метро не давали проходу, в трамвае пытались притиснуться так, что их, этих, к ней столь беспардонно притиснутых, вскоре пришлось научиться толкать локтем в бок. Полина, конечно, краснела, толкала, но ласковая, извиняющаяся улыбка вспыхивала на ее лице, и тут сладострастники сразу терялись: толкать-то толкает, а может, ей нравится?
Потом появился писатель. Он был настоящим, известным писателем, хотя, к сожаленью, для детства и юношества. Писатель заметил Полину в театре, хотя он сидел в самом первом ряду, а наша Полина почти на галерке. Спектакль был модный и из Ленинграда. В талантливом Лебедеве Холстомер, толстовская лошадь из одноименной трагической повести, просто воскрес. В антракте Полина купила поесть, поскольку пришла сюда прямо с работы. Держа в своей правой руке два любимых – «корзиночку» вместе с «безе» – и боясь, что выронит их, она вся растерялась: в другой руке жарко дымилось какао. Писатель по имени Яков Сергеев приблизился сбоку и просто спросил:
– Позвольте, я вам помогу?
Краснея, она протянула ему «корзиночку» вместе с «безе», и он, взявши пирожные в руки, сказал ей:
– Вы ешьте.
И острыми, словно у волка, глазами, когда тот, зарывшись по горло в сугроб, из чащи следит за своею добычей, смотрел, как она, торопясь от волненья, ест все это прямо из рук. И как губы краснеют от крема.
У писателя Якова Сергеева были жена и двое сыновей. Художественные произведения, вышедшие из-под его пера и завоевавшие любовь детей и юношества, отличались изобретательностью и целомудрием. К тому же смогли обеспечить семье квартиру в минуте от «Аэропорта» (в писательском доме с консьержкой и лоджией!), прекрасную дачу – хоть не в Переделкино, но близко, буквально пешком через рельсы, – и главное (это вдобавок к квартире!) еще мастерскую у «Красных ворот». В этой мастерской и сосредоточивалась основная – жаркая, тайная и вдохновенная – жизнь мастера. Для детства и юношества можно было писать где угодно, хоть в электричке, хоть в ресторане ЦДЛ, но то, что Сергеев писал в мастерской, должно было вызреть так, как вызревает какой-нибудь плод, драгоценный и редкий, посаженный в оранжерее, где утром его навещает садовник и смотрит, насколько он в весе прибавил за сутки. Вот так вот и Яков Сергеев. В своей мастерской он работал над прозой, которая ниспровергала Набокова с его этой вялой и пресной Лолитой. Какая Лолита! При чем здесь Лолита! Младенческий лепет для славы и денег. А главное, чтобы ему не мешали везде ловить бабочек. Яков Сергеев писал на века. Он не торопился и денег не ждал. Со славой сложнее, но бог с ней, со славой! Действие романа разворачивалось одновременно в четырех столетиях, и все это в письмах. В нем были Ромео с Джульеттой, но звали их очень загадочно: Миша и Шурка. Ромео был Шуркой, а Миша – Джульеттой. И Миша, живущая здесь и сейчас, призналась однажды любимому Шурке, который остался в семнадцатом веке, что звали ее по-людски, то есть Машей, и Маша считала себя пацаном, пока рок судьбы не столкнул ее с Шуркой. Поэтому долго звала себя Мишей. Однако не в этом все дело, не в этом! События войн, революций и казней совсем было их разлучили навеки. Но Миша и Шурка встречаются там, где нет ни пространства, ни времени даже. Их соединяет любовь.
Перед тем как отправиться в театр на спектакль, Яков Сергеев закончил как раз ту главу, где и происходит счастливая встреча. У Шурки совсем поседели подмышки, а все остальное осталось как прежде. Вот эта деталь с серебристой подмышкой была настоящим словесным шедевром. Ее не забудут. На мраморе высек.
В театр он вошел слегка взвинченным даже от этого – внезапной и редкой удачи. Не то, чтобы он был красив, но породист, а это важнее любой красоты. И голос его был хорош: сильный, влажный.
– Как, вкусно? – шепнул он смущенной Полине. – Хотите эклер? Здесь эклеры чудесные.
– Нет, что вы! Спасибо, совсем не хочу, – сказала Полина.
«Сама как эклер!» – так подумал Сергеев, а вслух произнес:
– Постановка хорошая, но очень затянуто. Вы не согласны?
– А мне очень нравится, мне интересно, – сказала Полина. – Играют прекрасно.
– Вы знаете, – и артистичный Сергеев слегка наклонился к ее волосам, – мы в жизни играем еще даже лучше. А званий – увы! – не дают и не хлопают.
– Мы разве играем? – спросила Полина. – Мы просто живем.
Писатель Яков Сергеев почувствовал, что от запаха ее волос у него начала кружиться голова и он больше не в состоянии поддерживать этот сложный, можно даже сказать, философский спор.
– Ну, это кто как. Я сказал обобщенно, а в целом вы правы. Конечно, вы правы.
Он слегка опустил глаза и увидел нежную ложбинку между ее грудями – такую тропинку лесную, всю в ландышах, такую прелестную тень на траве, где крапинки солнца, став частию тела, нашли себя в образе милых веснушек.
«Беда! – так подумал известный писатель. – И так сколько дел, а теперь еще это!»
Она была женщиной, с которой нельзя было ни ходить в театр, ни ездить в трамвае, в такси, на автобусе. Нельзя с такой даже сидеть за столом и кушать блины без икры и с икрою. Нельзя с ней смотреть телевизор, читать, нельзя удить рыбу, пропалывать грядки. С ней можно одно: спать в кровати, в лесу, в квартире приятеля, на сеновале, в какой-то заброшенной дикой избе, на пляже в Учкуевке (под Севастополем!), на пляже в Пицунде, на жарких камнях – пусть тело болит от их прикосновений! – с ней можно одно: очень близко и – спать. Держать ее в крепких, надежных объятьях. А все остальное – мученье, кошмар и пытка, которой страшней не бывает.
Разумеется, ничего этого вслух писатель Сергеев не произнес. Вслух он сообщил простодушной Полине, что один из его романов для детства и юношества только что экранизировали и фильм получился такой, что сам он, Сергеев, от смеха рыдал на прогоне. Вся группа рыдала.
– Хотите, афишечку вам покажу? – спросил он Полину. – И все фотографии? Куча смешных.
– Они у вас, что, здесь, с собой? – спросила она и опять покраснела.
Во рту у него пересохло.
– С собой? Нет, все, к сожалению, дома. Вернее: в моей мастерской. Это тут, за углом. Пойдемте скорее, я вам покажу.
– А как же спектакль?
– Да что вам спектакль? И так все понятно! Ну, бедная лошадь, хозяин-подлец. В конце обязательно кто-то раскается. Не шибко был разнообразен старик.
Она посмотрела большими глазами.
– Вы это о ком? О Толстом или…
– Я-то? Да, я о Толстом! О Толстом говорю! – запальчиво крикнул писатель Сергеев. – Привыкли: «Толстой да Толстой!» Что Толстой? Уж он холстомеров-то сотни загнал! До смерти причем! Софь Андревну до смерти!
Полина вдруг вся как-то съежилась.
– Но… но он мой любимый писатель. И он…
Сергеев опомнился.
– Кто говорит! Я сам обожаю! Да, гений! Да, глыба матерая, вот что! Таких, как он, глыб, да матерых к тому же, с огнем не сыскать! Вы только смотрите: ведь что ни страница, то исповедь, так? Иль проповедь, так ведь? Нет, мощный старик был, духовный старик!
Сергеев почти задыхался.
– Пойдемте, я карточки вам покажу. Поболтаем. Пойдемте?
– Пойдемте, – сказала она.
На сцене как раз началось самое интересное, но ни Полине, кое-как застегнувшей шубку, ни статному писателю Сергееву, поднявшему воротник болгарской дубленки (поскольку, когда ты поднял воротник, то можно подумать, что ты из Брюсселя, а как опустил воротник, так москвич!), им было теперь уже не до театра. Они торопились сквозь снег и дышали так быстро и бурно, как сам Холстомер, вернее сказать: так, как два Холстомера.
Сергеев остановил такси, домчались в минуту. Скомканных бумажных денег, которые получил водитель, хватило бы сразу на десять поездок, но раз пассажир решил переплатить, водитель не стал возражать или спорить.
В мастерской царил тот приятный беспорядок, который говорит о неустанной работе души и творческого воображения. Несколько чашек недопитого потускневшего кофе, несколько смятых сигарет в пепельнице, упавшая на пол с дивана подушка, корзинка, в которой лежали три яблока… Полина подошла к вешалке и остановилась. Он бесшумно приблизился сзади и обнял ее. Полина услышала, как сквозь дубленку колотится тело большого писателя.
– С ума я сойду, – сказал хрипло Сергеев.
– Не нужно, – шепнула Полина. – Зачем же?
Сергеев развернул ее к себе и горящими, несмотря на мороз, с которого они только что вошли в эту комнату, губами впился в ее полураскрытые губы.
– О, о! – закричал знаменитый писатель. – О, о!
Полине вдруг стало смешно: точно так же на сцене в спектакле кричал Холстомер.
С этого вечера началась новая, непривычная жизнь. Нужно было обманывать маму, которая, как тень, слонялась из комнаты в комнату, посматривая то на телефон, то на снег за окном, который валил непрестанно и жадно, как будто хотел навсегда разлучить своей пеленою, своей неустанностью всех тех, кто на небе, со всеми, кто здесь, – нужно было почти каждый вечер обманывать эту жалкую брошенную маму, придумывать то одно, то другое, чтобы уйти хотя бы ненадолго, добраться на еле ползущем троллейбусе к нему в мастерскую и там вновь попасть во власть его губ, его рук, его тела.
За свою творческую жизнь писатель Яков Сергеев привык либо к очень сложным, либо к совсем простым отношениям с женщинами. Очень сложных отношений было гораздо меньше, чем совсем простых, и он даже мысленно старался не возвращаться к тем временам, когда ему приходилось переживать эти очень сложные отношения. Там было сумбурно, и нервно, и зыбко, хотя иногда и прекрасно до боли. В совсем простых отношениях не было ничего особенно прекрасного, зато была твердость, покой и удобство. Те женщины, которые заходили в его мастерскую и оставались там на пару часов, снимали колготки и белые лифчики, ложились в кровать и вставали с кровати, потом говорили: «Ну, ладно, пока», – эти женщины не оставляли ни рубцов на сердце, ни ссадин внутри неразборчивой памяти, ни боли, ни грусти. Вообще: ничего. Туман над простой подмосковной рекою гораздо весомее и ощутимей, чем след этих женщин в судьбе беллетриста. К тому же была и жена Валентиночка, пушистая, как маргаритка, с большими, слегка розоватыми веками. Женились они по любви, без расчета, совсем молодыми, веселыми, добрыми, а дальше, когда вся любовь миновала, расчет вступил сразу в права, как наследник, дождавшийся честно родительской смерти. Валентиночка располнела с годами и хотя все еще была похожа на маргаритку, но лишь на такую, которая завтра уронит свои лепестки и бесстыдно останется голой стоять, пока ветер ее не сомнет и не выбросит вовсе. Увы! Постаревший, увядший цветочек, она не успела понять одного: прошла их весна, прошла страсть, прошла молодость, и, даже скупив у фарцовщицы Дорки все лучшие блузочки, шляпки, костюмчики, она не вернет себе прежнего Якова. Ну, выкрасит волосы в цвет баклажана, ну, даже приклеит чужие ресницы – и что? Ничего. Только зря суетилась.
Писатель Сергеев жене не перечил. Разыгрывать нежность уже не хотел, но мучить ее тоже было не нужно. Поэтому он, уходя, целовал и этот начесанный красный затылок, и воротничок на кримпленовой кофте (до губ и до щек дело не доходило!), и даже звонил ей почти каждый день, когда улетал по делам в другой город. К тому же он сильно любил сыновей. И Женьку, и Петьку. Им было семнадцать и двадцать четыре. Обоих он спас от служения в армии. Женюра прошел по разделу психозов, а Петька – по очень большой близорукости.
Короче: семья очень даже была, и с этой семьей нужно было считаться. И то, что писатель в разгаре работы, которой еще предстояло подняться в надмирную высь и оставить свой след, немногим бледней, чем Петрарка и Чехов, сейчас просто бился, как птица в сети, поскольку любовь ему все прожигала: то низ живота, а то верх живота, сводила то руки, то ноги. Короче: вот то, что сейчас он так влипнет, – увы! – совсем не входило в расчеты Сергеева. Он был и – пропал. Он себя потерял. Вы знаете, что это значит? А вот что: представьте себе, скажем, рыбу. Она жила в водоеме, рожала детишек, и вдруг ее ловят, бросают в ведро, которое пахнет морозом и смертью, и пьяный, довольный собой рыболов идет по промерзшей дороге к поселку. Что думает рыба? Что это все сон, и можно вернуться к себе, в свою реку, что просто она заплыла далеко, наелась пахучей травы под корягой, теперь ей мерещится это ведро, остатки воды, рыболов, запах смерти, а утром проспится она и опять: свобода, детишки, родимые волны…
Вот так и Сергеев. Сначала он был и счастлив, и преобразился до крайности. Он сбросил лет двадцать. Походка его опять стала прежней, упругой и сильной. Но если на этом бы остановиться! Так нет же. Его захватила любовь, он мучился, думал, терзался, не спал. Стал очень ревнивым, смотрел на часы, писал куда меньше, срывался на близких. Мечтал об одном: только чтобы пришла. И чтобы лежала с ним рядом, в кровати.
И все это – с самого первого дня! С того театрального зимнего вечера. Она оказалась настолько желанной, настолько любая частица ее покорного тела ждала его ласки, настолько светлы были эти глаза, когда она вдруг открывала их быстро, едва он касался губами ресниц, настолько полна была влаги и меда, и теплого, пенного – боже, чего? – ну, да, молока, того самого млека, настолько проста, безотказна, скромна, что Яков Сергеев внезапно заснул. Чего никогда не случалось с ним прежде. Он и не почувствовал даже того, как женщина эта неслышно ушла на кухню, оделась, умылась и села за стол с тремя чуть подгнившими зимними яблоками.
На следующий день он ждал ее в шесть часов вечера у подъезда НИИ, но не в такси, а в собственном «жигуле» бежевого цвета, и перчатки у него тоже были бежевыми, дутыми, так что каждый палец размером казался почти что с сардельку.
– Поедем, покормим тебя! – сказал он, целуя ее прямо в губы.
Ей было неловко обращаться к нему на «ты», и она старалась избегать местоимений, но в ресторане «Прага», где к ним сразу же подскочил знакомый Сергееву официант и голосом, пахнущим семгой, сказал: «Накрыто, прошу», она вдруг осмелела и руку продела под локоть прозаику.
Брошенная музыкальным мужем мама Полины через месяц все-таки докопалась до правды и горько заплакала. Такая судьба была хуже, чем Африка. И, кроме того: как представить себе, что девочка, детка, ее плоть и кровь, того и гляди уведет у несчастной, неведомой женщины мужа родного, как и у нее увели подлеца, четвертую скрипку в паршивом оркестре (что было неправдой: Полинин отец работал давно концертмейстером!). Как можно представить себе, что ребенок, жалевший любую букашку на свете, себя запятнает таким вот кровавым (а как же иначе назвать?) преступлением? Да это же было почти то же самое, что взять и одной, босиком, в легкой блузке, метельною ночью по льду перейти большую, совсем незнакомую реку!
С другой стороны, лучше уж перейти и реку по льду, и метельною ночью, чем бегать к чужому совсем человеку униженно и бесприютно, как песик. В конце концов – что же? Поплачет жена, а там, глядишь, время пройдет и забудет. Другие вон вены вскрывают себе, а кто им спасибо сказал? А никто. Пошла в воскресенье жакет покупать, примерила: и ничего не подходит. Был пятидесятый размер, а теперь? Наверное, тридцать восьмой – в лучшем случае. Теперь прямиком в «Детский мир» и в отдел для девочек школьного возраста. Так-то!
Быка нужно брать за рога и за все, за что только придется. Попались рога, и хватай за рога! А хвост попадется, хватайся за хвост! Чтоб только не вырвался и не брыкался.
Полина по своей врожденной деликатности, черте очень вредной, ненужной и глупой, не только не спрашивала у писателя Сергеева, есть ли у него какие-то планы на их общее будущее, но и более того: старалась переводить разговор на другую тему, когда он несколько раз, расслабившись в ее объятьях, начинал вдруг мечтать, насколько прекрасно бы было сейчас поехать вдвоем на курорт, например. Да хоть бы в Пицунду, хоть даже и в Ялту. А то и в Европу: в Болгарию, в Польшу.
– Ну, что будем летом-то делать, скажи? – тревожно шептал беллетрист, зарываясь лицом в ее легкие, светлые волосы. – Я, значит,ее потащу отдыхать, а ты что, на дачу поедешь к себе?
– Поеду на дачу, – кивала Полина.
– И как ты там время проводишь, на даче? – мрачнел он всем крупным влюбленным лицом.
– Там сад, огород. Поливаю, полю. К тому же там много друзей. Мы росли там каждое лето все вместе, играли.
– Ну, это давно было! А что сейчас?
– Сейчас мы играем в пинг-понг, в волейбол, гуляем. Но это совсем уже вечером, ночью… А днем я читаю, варенье варю…
– Нет, ты подожди! Про варенье потом! К тебе ведь там клеются? Ведь пристают?
– Конечно, – сказала она, помолчав.
– И что? – Он стал черным, как уголь.
– Но я же с тобой… – прошептала она.
Писатель вскочил и рванулся на кухню. Налил себе там коньяку. Проглотил почти половину лимона. Вернулся.
– Я против, Полина! Я против того, чтоб ты проводила свой отпуск на даче! Решительно против!
– А где же тогда мне его проводить?
Налившимися кровью глазами Яков Сергеев посмотрел на эту молодую женщину, разворотившую ему жизнь, как будто бы жизнь была прибранным домом, и вдруг поздно ночью ворвались чекисты, забрали хозяев, вспороли перины, и пух полетел, и детишки рыдают. На даче или не на даче, но к ней все равно будут все приставать. Даже если она пойдет выносить помойное ведро, обвязав голову рваным платком и набросив на свои круглые плечи простой заячий тулупчик, и то к ней привяжется кто-то похабный. Такая ужасная сила в ней есть. А может быть, слабость, но это неважно. В его голове заклубилось такое, что даже в роман не могло пригодиться. Полину бы лучше всего запереть. Да хоть бы и здесь, в мастерской. Здесь тепло. Кровать есть, стол, стулья, стеллаж. И книги ей можно вполне обновлять. Пускай прочтет эти, других принесу. Кормить ее вкусно: бананы, орешки. Пошел утром в «Прагу», купил беляшей, потом взял гуляш на втором этаже. Потом на Калининский. Тортик «Арахис», конфеток, каких посвежей. Что еще? Чего еще нужно? Гулять? Ну, гулять. Стемнеет, и выйдем вдвоем, погуляем. В кино тоже можно сходить, но – со мной. Со мной и без всяких, без этих: буфетов. Поскольку в буфетах-то главный и вред. Стоят там чернявые, пялят глазищи. Своих заведите и пяльтесь тогда! А то понаехали к нам с Эквадора!
Трудно сказать, почему писателю Сергееву вдруг так отвратителен стал Эквадор. Чернявых и в Персии сколько угодно. Да их и в Японии тоже полно. И вот Кишинев еще есть с Черновцами. Вообще, если пристально все осмотреть, так этих чернявых, как и белокурых, везде развелось до того, что ноге ступить уже некуда. Ступишь, а там какой-нибудь очень уж прыткий сидит, усы гребешком расчесал, зубы вычистил. Нет, выход один: запереть и стеречь. И всем хорошо, все довольны и счастливы.
Лето между тем приближалось, и Валентиночка, скупившая у фарцовщицы Доры все, что та успела приобрести у моряков и летчиков, стюардесс, балерин, руководителей разных ансамблей, клоунов, циркачей, скрипачей, у жен пианистов и их домработниц, – нарядная, как Первомай, Валентиночка взялась совершенно открыто мечтать о Карловых Варах, Пицунде и Пярну.
– И что тебе Пярну? Зачем тебе Пярну? Куда тебе в Пярну? Вот ты объясни! – не выдержал как-то писатель за ужином.
– Но, Яша, там, в Пярну, живет сам Самойлов! А море какое! Продукты! Песок!
– Вот пусть твой Самойлов там и наслаждается! – не выдержал он. – А мне нужно работать!
Валентиночка заморгала глазами и заплакала. Яков Сергеев посмотрел на ее склоненную голову с почерневшим среди красновато-лиловых прядей пробором, на ее маленькие руки с суховатой, старческой уже кожицей, кое-как натянутой на слабые косточки, и ему стало жаль ее, как молодому удальцу-сыну, живущему в городе, жаль своей мамы, весь век скоротавшей в деревне за прялкой.
– Да ладно тебе! Хочешь в Пярну? Поедем! Опять эти взбитые сливки лакать? Меня потом год от них будет тошнить!
– Самойлова вон не тошнит…
– Он привык! – не выдержал резкий писатель Сергеев. – На сливках стишки хорошо сочинять, а ты вот попробуй роман! Фиг напишешь!
Одновременно с этими событиями у мамы Полины зародился план: нужно самой познакомится с этим, так сказать, «другом» дочери и прощупать, есть ли у него хоть сколько-нибудь серьезные виды на доверившуюся ему невинную девушку. То, что мама совершенно искренно считала Полину невинной, никак не противоречило реальности, поскольку невинность – не факт биографии, а просто врожденное свойство натуры. Полина была и добра, и невинна, а то, что судьба с нею так обошлась, так вот у судьбы и спросите при случае.
– Я думаю, Попелька, – сказала однажды мама, тщетно пытаясь поднять съехавшую петлю на только что купленных утром колготках. Колготка ей сопротивлялась. – Я думаю: раз твой отец не помощник, – и мама скривила брезгливые губы, – давай пригласим, ну,его, нам помочь: на даче баллон нужно газовый вставить. А я не умею. Там нужно крутить. Всегда твой отец это делал.
– Но, мама! – Полина схватилась за щеки. – Ты что! Какие баллоны, какой еще газ! Нам сторож поможет. При чем же здесьон?
– Плевать мне на газ. Но я – мать твоя, так? – И мама расправила сильные плечи. – Имею я право, поскольку я мать, хотя бы увидетьего или нет? В конце концов, может быть, он негодяй? А может быть, он сексуальный маньяк? А может быть, рецидивист-уголовник? Любой может взять и сказать: «Я писатель». Буквально любой. И поверят, учти. У нас люди очень доверчивы, слишком. Иначе бы не было столько писателей!
– Но я не могу к нам его привести. Да он не пойдет. Он ведьнас с ним скрывает.
Полина была вся пунцовой, как роза. А может быть, даже пунцовей ее.
– Тогда пригласи его просто на дачу. Скажи: мол, природа, ну, поле, там, лес. Не все в Переделкине зад протирать, у нас ведь не хуже места. Ведь не хуже?
Полина смежила ресницы.
– Зачем тебе это? Ведь он не жених.
– А кто он тогда? – Мама вдруг взорвалась. – И что ты к нему каждый вечер бежишь? Он, что, прости господи, маг, что ль, какой? Ведь стыдно глядеть на все эти затеи!
– Какие затеи? Что есть, то и есть.
– Короче: такая моя к тебе просьба. Такой мой тебе материнский приказ. А то я сама вам устрою «свиданье»! Ведь надо же: с матерью так не считаться! В конце концов, мать – это вечная ценность! А все остальное – невечные ценности! И ставку на эти невечные ценности тебе не советую, Попелька, делать! Хотя бы на нашем семейном примере могла б догадаться, что значит мужчина! Он враг и предатель, а больше никто! Его разорвать и в помойку! В помойку! И воду спустить! Чтобы больше не всплыл!
Полина взглянула на мать и задумалась. Была ведь когда-то нормальная женщина.
Вечером она с запинкой пригласила своего знаменитого любовника приехать к ним с мамой на дачу: там все расцвело. Любовник ее знаменитый задумался. Засвечиваться он не хотел, это правда. С другой стороны, заглянуть и понять, что это за дача, куда она рвется, какие вокруг там гуляют парнишки, в какие они волейболы играют…
– Приеду! – сказал он, целуя ей шею.
Договорились на пятницу. В выходные нельзя: Валентиночка удивится. Писатель решил повести себя так, как будто он старший товарищ и друг. Приехал по дружбе, был неподалеку.
В ночь с четверга на пятницу Полининой маме приснилось такое, что мама стремглав побежала к соседке, все той же усатой и властной Тамаре. Тамара была толкователем снов.
– Я вижу себя совершенно в воде. Ну, в море, как будто.
Тамара курила вполне равнодушно и дым выпускала из губ в виде шариков.
– Я ползаю будто по дну и ищу в песке, там, на дне, что-то вроде ракушек. И вроде сьедобных.
– Ракушки? А формы какой?
– Большие такие и продолговатые.
– Так-так, понимаю… Ну, что замолчала?
– Вдруг вижу: скала.
– А оттенок какой?
– Оттенок какой? У кого?
– У скалы! Ну, не у меня же, наверное, господи!
Тамара была грубиянкой и часто срывала на людях свой скверный характер.
– Ну, синий почти. Хотя нет! Не совсем. Там черный присутствовал. Черного больше.
– А форма?
– Что форма? Скала как скала.
– Вот каждое слово клещами тащу! Нет, Фрейд бы мне не позавидовал!
– Фрейд? Так он же… – И мама понизила голос: – Он разве же не запрещен, этот Фрейд?
–Мне не запрещен. Продолжай, говори.
– А близко от этой скалы лежит птица. Такая вот тоже: синющая, с черным. Глаза приоткрыты.
– Пернатая, значит, – сказала Тамара.
Полинина мама сглотнула ком в горле.
– Я вроде подумала: «мертвая птичка»…
– Размером какая?
– Кто?
– Птичка! Не я же!
– Размером? Ну, с лошадь.
– Как с лошадь?
– Да, с лошадь. А может, и больше. Огромный зверюга! Лежит и не дышит.
– А ты все в воде?
– Я в воде. Но я отползаю по дну, чтобы выйти скорее на берег и чтоб убежать. И вижу вдруг: птица-то эта живая! Летит надо мной, аж крылом задевает!
– Какого размера крыло?
– Я не помню. Но очень уж страшно!
– А вы все хотите, чтоб вам показали «Вокзал на двоих»? – Тамара откинулась в пышных подушках. – Послушал бы Фрейд, он бы сразу описался!
У мамы пропал скудный дар ее речи. Представив себе, как описался Фрейд, она замолчала и вся побелела.
– Тут я вылезаю, – шепнула она, – а там одни скалы. Ни берега нет, ничего. Только скалы.
– А эти, ракушки твои? Где они?
– Не помню. Наверное, обронила…
Тамара рывком погасила огонь, а дым облизнула с губы и задумалась.
– Забавненький сон, – прошептала она. – Готовься, моя дорогая, готовься…
– К чему мне готовиться, Томочка, а?
– К событиям, вот что. К большим испытаниям. Ракушки твои – это проще простого. Большой сексуальный желаемый символ. Опять же вода. Ты по горло в воде. Ну, тут комментировать нечего, ясно… А вот эта птица… Я думаю так: прямая опасность и есть эта птица. Писатель ваш этот, любовник. А кто же?
Вернувшись домой и заглянув в комнату дочери, чтобы убедиться, что бедняжка ее крепко спит, мама сказала себе:
– Еще мы посмотрим, кому тут опасность! Ишь, мертвым прикинулся! Птичка какая…
Утром той же самой пятницы, которая, как на грех, оказалась тринадцатым числом, Яков Сергеев, которого часто узнавали по телефону незнакомые люди, поскольку он выступал по радио, читая отрывки из своих произведений, позвонил в библиотеку, где работала Полина.
Pulsuz fraqment bitdi.