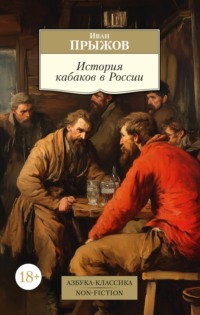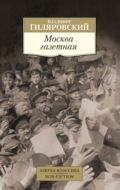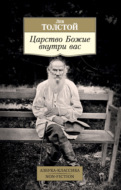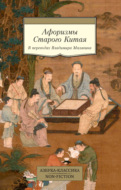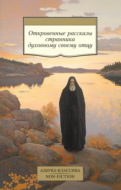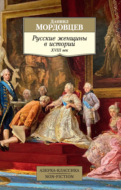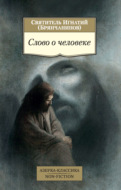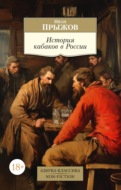Kitabı oxu: «История кабаков в России в связи с историей русского народа»
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
* * *
Господине, крестьяне ся пропивают, а люди гибнут.
Кирилл Белозерский
Предисловие
Решаемся сказать несколько слов о том, что могут требовать от нас наши читатели. Первый том «Истории кабаков», первый посильный труд изучения питейного дела на Руси, был окончен еще в 1863 году и с тех пор более и более сокращался в объеме. Вслед за первым томом, так сказать официальной историей кабаков, были заготовлены материалы для двух следующих томов, именно исторический обзор кабацкого быта, происхождения и быта целовальников, городских пьяниц (кабацких ярыг) и неисчислимой голи кабацкой, то есть нищих, беглых, воров (бунтовщиков) и разбойников.
Целью нашей было изучить питейное дело со стороны той плодотворной жизни, на которой произрастали кабаки, сивуха, целовальники; взглянуть на него глазами миллионов людей, которые, не умудрившись в политической экономии, видели в пьянстве Божье наказание и в то же время, испивая смертную чашу, протестовали этим против различных общественных «благ», иначе – пили с горя. Но второй и третий тома мы не сочли пока удобным выпустить на свет божий, а ограничились только первым.
17 мая 1868 г. И. Прыжов
Глава I
Черты старинной жизни русского народа
По свидетельству Начальной летописи, русская земля издавна имела свой наряд, жила по обычаям своим и по закону отцов своих, жила, как поет чешская песня XI века, «по правде и по закону святу, юже принесеху отци наши». Эта жизнь по правде, которую народ относит ко времени светлого князя Владимира, – подобно тому как кельты уносятся в своих воспоминаниях к королю Артуру или англосаксы к доброму королю Гродгару, – представляет нам первые твердые следы самобытного, свободного, исторически развившегося существования народа.
Ни мужиков, ни крестьян тогда еще не было, а были люди1 – имя, которое доселе живет еще в южной Руси (люде – народ); был народ, владевший землей и состоявший из мужей и пахарей (ратай, оратай). Почтенный всеобщим уважением, ратай имел возможность мирно заниматься трудом, братски протягивая руку князю и княжему мужу и вместе с ними устрояя землю. Князья, «растя-матерея», вели друг с другом родовые счеты, сеяли землю крамолами; но пахарь дорого ценил свое мирное земское значение. И вот, склонившись перед мощью оратая, князь Вольта Святославович решается спросить его об имени-отчестве:
Ай же ты ратаю-ратаюшко!
Как-то тебя именем зовут.
Как величают по отечеству?
На это говорит ратай князю таковы слова:
Ай же Вольта Святославович!
А я ржи напашу, да во скирды сложу.
Во скирды складу, домой выволочу,
Домой выволочу, да дома вымолочу,
Драни надеру, да и пива наварю,
Пива наварю, да и мужиков напою,
Станут мужички меня покликивати:
«Молодой Микулушка Селянинович!»
Лучшие мужи – «лепшие мужи» – держали землю, решали дела общей народной думой2, и черты старого земского человека народ собрал в своем Илье Муромце, выразив в нем сознание всей полноты своей духовной и физической мощи. Во главе земского дела стояли совещательные собрания народа, сельские и племенные, миры, веча и сеймы. Старейшинами-вождями племен были князья, вскормленники Русской земли, обязанные блюсти ее покой. В 1097 году на Любечском сейме князья говорили: «Отьселе имеемся въ едино сердце и блюдем рускые земли». В 1170 году на съезде в Киеве князья положили: «А нам дай Бог за крестьяны и за рускую землю головы свое сложите и к мучеником причтеном быти». Об этом добром земском значении древнего князя, кроме свидетельства памятников, говорит и неподкупная народная память. И народ в своих былинах, и певец Игоря в своем «Слове» одинаково уносятся воспоминанием к первым русским князьям…
Расселившись по земле и воде, весь народ с примыкавшими к нему инородцами составлял одну землю, жившую одним и тем же земским устроением, но сообразно с местными особенностями. Силой, которая тянула друг к другу отдельных членов общей русской семьи, было братство, сказавшееся особенно в Новгороде, в народоправном характере братчин, в южнорусском обычае побратимства и впоследствии в братствах юго-западной Руси. Братство, община, дело мирское, громадское составляли основу жизни; скоп был делом государственным с целью защиты земли. Всякий дом, носящий у скандинавов прекрасное название manaheimr, minneheimr3, был местом радости и веселья; под кровом родного очага, обоготворенного человеком, братски сходились русский и славянин, свой родной и иноземец: «Ту немци и венедици, ту греци и морава поют славу Святьславлю!»
Строй земской жизни проявлялся в том веселом единении народа и князя-государя, которое мы встречаем на пирах Киевской Руси, древней Польши, еще жившей по-славянски, в чехах и так далее, во всей славянщине. Общины и миры, города и села сходились на игрища, собирались на братчины, пиры и беседы, которые, по старой памяти, доселе еще именуются у народа почетными и честными. На народный пир приглашали князя, на пир княжеский сбирался народ. Народная память донесла до наших дней известие о пирах князя Владимира. Изяслав и сын его Ярослав осенью 1148 года давали пир Новгороду: «Посласта подвойскеи и бориче по улицам кликати, зовучи к князю на обед от мала и до велика; и тако обедавше, веселишася радостiю великою и разъидошася в своя домы». То же было в Киеве в 1152 году: «Вечъслав же уеха в Кiев, и еха к святее Софьи, и седе на столе деда своего и отца своего, и позва сына своего Изяслава на обед, и кiаны все».

В пятый день, в неделю. И сотвори в тот день князь великии Всеволод Олеговичъ со отцем своим с Михаилом митрополитом, и з братею своею, и со князи и з бояры своими и со всеми людми пирование светло, и постави по улицам вина и мед, и перевару, и всякое ядение, и овощи, и раздаде по церквам и манастырем. Лицевой летописный свод Ивана Грозного, XVI в.
В общий строй жизни входила и Церковь, которая учила: «Егда творите пир, и зовете и братию и род и вельможи, или кто в вас возможет князя звати, и то все добро есть, то бо в свете сем чесътно. Призовите же паче всего оубогую братию, колико могуще по силе».
Всякое мирское дело непременно начиналось пиром или попойкой, и поэтому в социальной жизни народа напитки имели громадное культурное значение. То были старинные ячные и медвяные питья, которые славяне вынесли из своей арийской прародины и пили с тех пор в течение длинного ряда веков, вырабатывая свою культуру: брага (санск. bgr, bhrj; нем. brauen, brut — варительница пива, потом невеста; фр. brasser), мед (санск. madh, manth — сбивать мутовкой, madhu — медвяный напиток; сканд. mjodhr), пиво (от славян. пити), эль (олуй, оловина) и квас – хмельной напиток, чисто славянский, обоготворенный у соседей-скандинавов в образе вещего Квасира4. Брага называлась хмельной, пиво бархатным, меды стоялыми, квасы медвяными. Известия об этих питьях идут от самой ранней поры исторической жизни народа. «Се уже иду к вам,– говорит Ольга древлянам,– да пристроите меды многи во граде». Ольга пришла, совершила поминки по муже, и «седоша деревляне пити». Поставив церковь в Василеве, Владимир «створи праздник велик, варя 300 провар меду, и съзываше боляры своя, и посадникы, старейшины по всем градом и люди многы». По свидетельству Новгородской летописи под 1016 годом, дружина Ярослава так говорила князю: «Онь си что ты тому велиши творити? Меду мало варено, а дружины много». Андрей Боголюбский «брашно свое и мед по улицам на возах слаше». Как увидим далее, питья эти, несмотря на порушенный уже строй жизни, продолжали славиться своей роскошью вплоть до XVIII века. «А нас, россиян,– писал Посошков,– благословляя благословил Бог хлебом и медом и всяких питей довольством; водок (настоек) у нас такое довольство, что и числа им нет; пива у нас предорогие (по качеству), и меды у нас преславные вареные, самые чистые, что ничем не хуже рейнского, а плохого рейнского и гораздо лучше». Было в употреблении и виноградное вино, известное на Руси еще в X веке и доступное даже простым людям5.
Хмельные питья, пиво, брагу и мед, всякий варил про себя, сколько ему нужно было для обихода; в иных случаях варили питья семьями, миром, и то были мирская бражка, мирское пиво, как это делалось и у немцев, проживавших в Новгороде6. У людей зажиточных заведены были медуши (погреба), где стояли бочки медов, пив и иностранных вин. В 1378 году за рекой Пьяной русские воины ездили беспечно, «а где наехаша в зажитiи мед и пиво, испиваху до пьяна без меры». В Москве при нашествии Тохтамыша «недобрiи человеци начата обходити по дворам, и износяще из погребов меды господскiе, и упивахуся до великаго пьяна». В 1146 году Изяслав «двор Святославль раздели на 4 части, и скотьнице, бретьянице (вместо бортьяница, или сербского бартьеница, как думали другие), и товар, иже бе не мочно двигнути, и в погребех было 500 берковьсков (берковцев) меду (около 5000 пудов), а вина 80 корчаг». В «Слове» XII века так описывалась старинная зажиточная жизнь: «Питiе же многое, мед и квас, вино, мед чистый пъпьряный, питья обнощная с гусльми и свирельми, вeceлie многое». Как видно из Олеария (1639–1643), богатые погреба домашних питей существовали до второй половины XVII века. «Пиво, – говорит он, – сохраняется у русских в погребах, в которых сначала кладут снег и лед, потом ряд бочек, потом опять лед и опять бочки, и так далее; верх закрывается соломой и досками, так как подобные погреба открываются сверху. Устроив таким образом свои погреба, они опускают бочку за бочкою и пьют пиво ежедневно. Сохраняясь в подобных погребах, пиво в продолжение целого года остается холодным и притом не теряет вкуса». Поэтический образ таких погребов сохранился у народа в следующем прекрасном отрывке одной былины:
Как водочки сладкия, меды стоялые
Повешены в погреба глубокие в бочках-сороковках.
Бочки висят на цепях на железныих,
Туда подведены ветры буйные;
Повеют ветры буйные в чистом поле.
Пойдут как воздухи по погребам, —
И загогочут бочки, как лебеди,
Как лебеди на тихих на заводях:
Так оттого не затхнутся водочки сладкия,
Водочки сладкия, и меды стоялые;
Как чару пьешь – другой хочется,
Другую пьешь – по третьей душа горит.
Как всякого дорогого гостя, так и князя города встречали честию, «с хлебом и с вологою и с медом», или же, «наливши кубци и рога злащеныя с медом и вином», весь город своему гостю «честь творил вином и медом». На пирах князей, владык и бояр пили вина, пива и меды из драгоценных сосудов, серебряных и хрустальных.
При этом строе жизни пьянства в домосковской Руси не было – не было его как порока, разъедающего народный организм. Питье составляло веселье, удовольствие, как это и видно из слов, вложенных древнерусским грамотником в уста Владимира: «Руси есть веселье пити, не можем без того быти». Но прошли века, совершилось многое, и ту же поговорку «ученые» стали приводить в пример пьянства, без которого будто бы «не можем быти…». Около питья братски сходился человек с человеком, сходились мужчины и женщины, и, скрепленная весельем и любовью, двигалась вперед социальная жизнь народа, возникали братчины (нем. gilden), и питейный дом (корчма) делался центром общественной жизни известного округа. Напитки, подкрепляя силы человека и собирая около себя людей, оказывали, по словам Бера, самое благодетельное влияние на физическую и духовную природу человека.
Глава II
Бортничество и пчеловодство
Переходя от общего очерка древнерусского быта к изучению его подробностей, именно к экономическому значению напитков, мы и здесь встретим следы самостоятельного, самобытного развития народной жизни.
Русская земля, в ту минуту как открывается ее история, представляется нам переполненной бортными лесами (бортями), которые тогда заменяли пасеки и пчельники. Бортничество и пчеловодство были одним из путей колонизации земель, вновь занимаемых русским племенем, и, таким образом, вслед за сохой и топором, рядом с ухожаями и угодьями различных названий появились и борти, возникали деревни-бортничи, населенные пчеловодами. Бортничество было известно в областях Новгородской и Псковской, в Тверской, в землях Муромской и Рязанской, где особенно славился кадомский мед (Кадом известен с 1209 года). Вообще поволжские финны (мурома, вязьма, клязьма, кострома) издавна были хорошими пчеловодами. Затем бортничеством занимались в Смоленске и Полоцке, в областях Киевской и Галицкой. Длугош говорит про Казимира, что он отнял у татар (1352) Подолию, богатую медом и скотом. Польские леса назывались медообильными (silva melliflua). Померания и Силезия считались странами медоносными.

Миниатюра из Барберинского Экзультета. Ватиканская Апостолическая библиотека, ок. 1087 г.
Бортничество составляло одну из важнейших статей промышленности; борть была предметом ценным, и на бортных деревьях вырубали топором знамя – знак собственности; за снятие чужого знамени – «раззнаменить борть» – была установлена пеня. Законы о бортях вошли в «Русскую Правду». Бортные ухожья принадлежали народу, князьям и монастырям. «Княжи борти», упоминаемые в «Русской Правде», встречаются начиная с XII века во Владимире на Клязьме и Литве. В Московской области, как это видно из душевной грамоты Ивана Даниловича 1328 года, у князей были бортники, купленные и оброчные, которых князья с точностью разделяли между своими наследниками. На бортных землях, отдаваемых из-за оброка, приглашали желающих садиться на житье в лесу с платою определенного количества меду. В Московском уезде в XIV и XV веках из поселений в княжеских бортных ухожаях и путях образовался целый бортный стан. Радонежское село со всеми принадлежащими ему деревнями населено было бортниками; на старейшем пути московских князей стояло село Добрятинское «при добрятинской борти». Князья жаловали монастыри и духовенство бортями и свободой от бортных пошлин. До нас дошли подобные жалованные грамоты князей рязанских, Ростислава Мстиславича Смоленского, Всеволода Мстиславича, князей полоцких и так далее.
На дальнем севере пчеловодство завели, по преданию, святые Зосима и Савватий Соловецкие, и они признаны были распространителями и покровителями бортей и пчел по всей Русской земле. Подобным образом в муромской земле пчеловодство вошло в легенду о Петре и Февронии Муромских. Обширное занятие пчеловодством вызвало у народа особый молитвенник вроде целого молебна об изобилии и хранении пчел в ульях пчеловода и целый ряд поверий о святости пчелы, «божей пташки», и меда. Искусственное разведение пчел начинается с XIV века, когда в юго-западной Руси упоминаются пасики, а в северо-восточной – пчелы, то есть ульи.
История русской торговли медом идет от глубокой старины. Скифские купцы, по свидетельству Геродота, еще до Рождества Христова высылали за границу мед и воск. На памяти истории, Русь сбывала мед в дунайский Переяславль, в Грецию, к хазарам и на дальний запад. Новгород вел обширную торговлю медом и воском, и при Ярославле был особый класс купцов, торговавших воском и называвшихся вощниками. Рыночная цена меду в 1170 году была 10 кун (куна равна 6 2/3 коп.), что считалось очень высокой ценой: «Бысть дорог в Новгороде». В перемирных грамотах Новгорода с лифляндским магистратом 1481 и 1493 годов указываются некоторые обычаи, соблюдавшиеся при торговле воском: «А на Ругодеве ругодньским весцом у купчин новгородских воску не колупати, а хто с ним сторгует, ино тому уколупити мало и вощано и вес капи спустити с новгородскими капми, а весити в рет по крестному целованию, а имати от воздыма от скалового как идут шкилики против трейденого». Но если немцы иногда колупали воск, то русские, со своей стороны, отпускали воск нечистый, ставили на нем фальшивые клейма. Псков также вел обширную торговлю медом и воском. В 1287 году псковичи отняли у иностранных купцов 63 капи воску, а капь равнялась 163 нынешним фунтам. В смоленском договоре 1229 года было поставлено, что немчин обязан был платить «от двою капю воску весцю куна смоленская». Вес вощаной, доставлявший большие выгоды, Всеволодом (1126–1135) отдан был в Новгороде церкви Ивана на Опоках. «Даю, – говорил он, – светому великому Ивану от великоимения на строение церкви и в векы вес вощаный, а в Торжку (даю) пуд вощаной, а весити им в притворе светого Ивана». Из всего этого веса шел разным лицам громадный по тому времени доход, 78 гривен и 25 пудов меду, а всего с расходом на церковь – 95 гривен, что составляло пошлину с 23 750 пудов воска. По словам Шильдбергера, описавшего свое путешествие на восток в конце XIV и начале XV века, из южных пристаней русской земли воск шел в Венецию и Геную. По словам других иностранцев, весь северо-восток русской земли в XV и XVI веках изобиловал медом. Барбаро (1436) говорит, что рязанская земля была богата медом. «Московия, – пишет Кампензе (1537), – очень богата медом, который пчелы кладут на деревьях без всякого присмотра. Нередко в лесах попадаются целые рои сих полезных насекомых, сражающихся друг против друга на большом пространстве. Поселяне, которые держат домашних пчел близ своих жилищ и передают в виде наследства из рода в род, с трудом могут защищать их от нападения диких пчел. Сообразив это обилие меду и лесов, неудивительно, что все то количество воска и жидкой и твердой смолы, которое употребляется в Европе, равно как и драгоценные меха, привозятся к нам через Ливонию из московских владений». То же повторял Павел Иовий (1537): «Самое важное произведение московской земли есть воск и мед. Вся страна изобилует плодоносными пчелами, которые кладут отличный мед не в искусственных крестьянских ульях, но в древесных дуплах. В дремучих лесах и рощах ветви дерев часто бывают усеяны роями пчел, которых вовсе не нужно собирать звуками рожка. В дуплах нередко находят множество больших сотов старого меду, оставленного пчелами, и так как поселяне не успевают осмотреть каждое дерево, то весьма часто встречаются пни чрезвычайной толщины, наполненные медом. Веселый и остроумный посол Димитрий рассказывал нам для смеха, как крестьянин, опустившись в дупло огромного дерева, увяз в меду по самое горло. Тщетно ожидая помощи в уединенном лесу, он в продолжение двух дней питался медом и наконец удивительным образом выведен был из сего отчаянного положения медведем, который, подобно людям, будучи лаком до меду, спустился задними ногами в то же дупло. Поселянин схватил его руками сзади и закричал так громко, что испуганный медведь поспешно выскочил из дупла и вытащил его вместе с собою. Москвитяне отпускают в Европу множество воску».
По словам Флетчера (1588), мед в значительном количестве шел из мордвы и Кадома, близ земли черемис, также из областей Северской, Рязанской, Муромской, Казанской и Смоленской. Флетчер говорит, что в его время, за исключением внутреннего потребления воска, еще вывозили за границу до десяти тысяч пудов, а прежде гораздо больше – до пятидесяти тысяч пудов. По Олеарию (1639), воску вывозилось ежегодно более двадцати центнеров. «Самый лучший мед, – прибавляет он, – идет через Псков». В 1476 году мед в Пскове продавали по 7 пудов за полтину; в 1486 году – по 11 пудов за полтину. В 1575 году в Москве стояли следующие цены на воск: «Воску берковеск по 70 ефимков, станет пуд по семи ефимков (2 рубля 10 алтын 2 деньги), в Брабанех пуд по 3 рубля, в Шпанской пуд по 6 рублей; делают в нем свечи, а с кем сговоришь, имайся за сто берковес: да спросити по колку пуд в круг делают; в Голандской земле воску фунт по 5 стювершей (1 алтын 4 деньги), пуд по 2 рубля; ныне за посмех дешев нет провоска».
Но к XVII веку, когда приготовление медов успело сделаться преступным корчемством, медовой промысел упал и северо-восточная Русь сама начала получать воск из-за границы. В 1692 году получено было через архангельский порт шесть тонн воска. В этом году в Рязани цены стояли следующие: в Богословском монастыре куплено муромских 200 легинов меду и шесть пудов патоки по 20 алтын; кадка меду готового в три пуда стоила 2 рубля; в Москве фунт меду стоил 4 деньги. Чем дальше шло время, тем более сокращался медовой промысел. Недавно еще в Чистопольском уезде Казанской губернии ульи считались тысячами, но медоварение уже было неизвестно. Вместо обычного приготовления старинных медов теперь из меда тянули водку, и только чуваши, татары и мордва секретно упивались кислым медом из негодных вощин, называемым савраско или воронок. В Белоруссии до последнего времени оставались ценными бортные леса, многие уезды славились пчеловодством и вели обширную торговлю медом. Еще недавно славился медами старинный город Игумен Минской губернии.
Чтобы обнять разом судьбы медового промысла и медоварения, стоит только обратить внимание на русское право, ибо в праве, как известно, все изменения народного быта отлагаются, словно пласты. Законы о медовом промысле, развивавшиеся вместе с бытом народа, входят в «Русскую Правду», составленную в Новгороде отчасти при Ярославе (1016–1020), отчасти при его преемниках, и имевшую силу от XI до XV века. По «Русской Правде» за порчу бортного дерева полагалось взыскание: «А в княжи борти 3 гривне, любо пожгут любо изудрут; а в смерди – 2 гривне». – «Аще кто борть подътнеть, то 3 гривны продажи, а за дерево полгривне». Кроме порчи самого бортного дерева, взыскание налагалось за бортную межу, за пчел, за мед, за пчелиное гнездо, за уничтожение знака на борти: «Аже межю перетнет бортьную, то 12 гривне продаже». – «Аже пчелы выдерет кто – 3 гривне продаже, а за мед оже будут пчелы не вылажены (соты не будут подрезаны), то 10 кун; будет ли олек (гнездо, то есть молодые пчелки в сотах), то 5 кун». Касательно «выдранья пчел» иск имел место и в том случае, если ответчик был неизвестен или не был налицо: «Аще кто разламает борть или кто посечет древо на меже, то по верви (сельская община) искати татя в себе, а платит 12 гривен продажи». – «Аще кто рознаменает борть, то 12 гривен продажи, а за дерево полгривны». По делам о бортной земле установлены были следующие пошлины: «А се уроци судебнiи от виры 9 кун, а метельнику 9 векош, а от бортьной земли 30 кун, а метельнику 12 векош. А се уроци ротьнiи от головы 30 кун, а от бортьной земли 30 кун». Мед был в числе товаров, которые ссужались для приращения приплодом. В «Русской Правде» это называлось «настав на мед»: «Аще кто дает настав на мед». Расчет процентов приплода был следующий: «А от двоих пчел на 12 лет приплода роев и с старыми пчелами 200 и 50 и 6 роев. А то кунами 100 гривен и 20 гривен и 4 гривны, а то чтено по полугривне рои и с медом, а приплода на лето по единому рою».
Установления эти переходили преемственно в статуты Вислицкий и Литовский. В Вислицком статуте 1347 года, составленном из статутов Великой и Малой Польши, определено было: «А кто кому дерево зрубит со пчелами, имеет заплатить гривну (1 рубль 76 копеек) тому, чiи пчелы, а другую – судове гривну; а хто бортное дерево зрубит без пчел, то полгривны (88 копеек) заплатить, а судове – другую полгривны». По Литовскому статуту, борти разделялись на господарские, панские и земянские. Бортники, посещая свои борти, имели право брать с собой только «секиру и пешню, чем борти робити»; имели право надрать «лык на лазиво або лубя на лазын и на иншые потребы борътницкие». Если б дерево опалило огнем, то «было волно им улей з бортью выпусти, а верховье и корень того дерева оставити в пущы тому пану, чия пуща есть».
Владетель пущи, рубя лес, обязан был находящимся в пуще чужим «бортем, а дереву жадное шкоды вчинити». За порчу бортного дерева полагалась «копа грошей»; срубивший или испортивший сосну «пчолницу», хотя бы в то время пчел в ней не было, платил «полкопы грошей»; за порчу сосны или дуба бортного, в котором пчелы еще не бывали, или сосны «кремленой» платили 15 грошей. Статьи «Русской Правды» о «пчелах нелажоных» повторяются и в Статуте. Кто выдерет «нелажоных пчел», тот платит по Статуту 1529 года полукопу грошей, по Статуту 1588 года – по две копы грошей, а за лажоные – 15 грошей; по Статуту 1588 года, кто в пасеке или в лесу выдрал пчел или с ульем взял – платит 3 копы грошей; «если бы кого з лицом поймано, такового мают сказати яко злодея на горло; а хто бы свепет в чыем лесе умыслне порубал и мед выбрал, тот мает за то шесть рублей грошей заплат».
Московские Судебники 1427 и 1550 годов ни словом не упоминают о бортном и пчелином промысле; о нем упоминается только в прибавлениях к Судебнику 1550 года, заимствованных из Литовского статута. Справедливым оказывается Михалона свидетельство (1550), что москвичи даже хвастались, что они пользуются литовскими законами! В прибавлениях к Судебнику за порчу бортного дерева с пчелами велено брать 2 рубля, а без пчел – 25 алтын, а за неделное бортное дерево – 12 алтын 4 деньги. «А кто будет у кого пчелы выдрал неподлаживаючи, а дерево не портил, тому повинен будет платить за всякие пчолы по полутора рубля».
Уложение 1649 года, следовавшее за Судебниками, заимствовав из Литовского статута 56 статей, взяло в том числе и статьи о пчелах. По Уложению, за бортное дерево с пчелами положено 3 рубля, а без пчел, в котором дереве наперед того пчелы были, полтора рубля; а в котором дереве борть была сделана, а пчел не бывало, и за то 25 алтын; за кряж невыделаный по 12 алтын 3 деньги, сколько их ни испортит. Кто выдерет пчел, а бортей не испортит, на том доправить за всякие пчелы по полутора рубля; за покражу улья – по три рубля за улей, да еще бить его кнутом; а кто подсечет дерево с пчелами и мед из того дерева выдерет, на том доправить 6 рублей и отдать истцу.
Но с упадком медоварения, подорванного кабаками, законы о пчелах, заимствованные Уложением, не имели никакого значения, и пчеловодство упадало больше и больше. Наконец, по Своду законов, составленному в текущем столетии, «усовершенствование пчеловодства принадлежит к ведомству Министерства государственных имуществ».