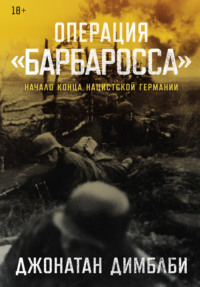Kitabı oxu: «Операция «Барбаросса»: Начало конца нацистской Германии»
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Максим Коробов
Научный редактор: Сергей Кондратенко, канд. ист. наук
Редактор: Олег Бочарников
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Александра Казакова
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Елена Барановская, Лариса Татнинова
Верстка: Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Jonathan Dimbleby, 2021
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
⁂

Моим внукам Барни, Хлое, Максу и Артуру
Карты












Предисловие
Гитлеровское вторжение в СССР, начавшееся 22 июня 1941 года, стало самой масштабной, кровавой и варварской военной операцией в истории войн. По своим задачам операция «Барбаросса» – так фюрер назвал эту безумную авантюру – должна была стать решающей кампанией Второй мировой войны. Если бы он достиг своей цели и уничтожил Советский Союз, судьба Европы оказалась бы в его руках. В реальности, когда спустя меньше шести месяцев армии Гитлера достигли окраин Москвы, всякая надежда на осуществление его бредовой мечты о тысячелетнем рейхе рухнула.
Конечно же, вермахт – собирательное название сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил нацистской Германии – в ходе войны еще предпримет крупные наступления и одержит немало впечатляющих побед. Но эти триумфы будут эфемерны. К концу 1941 года нацисты уже потеряли сколько-нибудь реалистичный шанс выиграть войну. Еще на протяжении трех с половиной лет на земле Советского Союза будет проливаться кровь десятков миллионов жертв ужасной развязки, исход которой был предрешен. Как бы обескураживающе это ни прозвучало для тех, кто по понятным причинам считает, что доблестные войска союзников, высадившиеся на побережье Нормандии в июне 1944 года, сыграли решающую роль в победе над Гитлером, исторические факты говорят о другом.
Именно Великая Отечественная война, как Сталин назвал боевые действия на Восточном фронте, окончательно определила судьбу Гитлера, а не «День Д»1. Это вовсе не означает, что те, кто пожертвовал своими жизнями во время высадки в Нормандии, сделали это напрасно. Напротив, прежде всего именно им миллионы жителей Западной Европы обязаны своей свободой и демократией – тем, чего советский диктатор лишит их соседей, обреченных после Победы оказаться в «сфере влияния» Кремля. Сталину удалось подчинить себе столь значительную часть послевоенной Европы, потому что именно его солдаты, а не западные союзники сокрушили Третий рейх на полях сражений. Хотя сроки и способы окончательного уничтожения нацистов определялись совместно США, Великобританией и Советским Союзом, именно провал операции «Барбаросса» стал важнейшим поворотным пунктом войны в Европе. После почти шести месяцев ожесточенной борьбы гибель нацизма стала неизбежной.
Я также не хочу приуменьшить масштаб человеческих страданий, перенесенных во время Первой мировой войны (потери только в битве на Сомме, продолжавшейся немногим меньше пяти месяцев, составили более миллиона человек) или в других сражениях Второй мировой (ведь в Сталинградской битве за тот же срок погибло примерно столько же людей). Однако ни один военный конфликт в долгой истории войн не достигал такого масштаба кровопролития, как операция «Барбаросса», когда за сравнимый период времени погибло, было ранено или пропало без вести почти в шесть раз больше людей.
Нацистское вторжение в Советский Союз застало Сталина врасплох и потрясло весь мир. Почти все думали, что Красная армия будет разгромлена в течение нескольких недель. Но уверенность немцев в победе оказалась преждевременной. В этой книге прослеживается ход операции «Барбаросса» с самого ее начала и до конца 1941 года, когда гитлеровские армии подошли к советской столице. Я не пытался подробно разбирать каждую отдельную битву, происходившую на трех фронтах огромного театра военных действий, и вместо этого сосредоточился на группе армий «Центр» – главной ударной силе вторжения, которая должна была возглавить наступление на Москву. Следя за продвижением этой группы армий, я во многом полагался на отчеты, дневники, письма и мемуары ее руководства, включая командующего группой армий генерала Федора фон Бока, его фронтовых командиров (включая самого прославленного танкового генерала Третьего рейха Хайнца Гудериана), а также офицеров и солдат, служивших под их началом. Многие из этих людей с бесхитростной откровенностью писали своим близким о страхе и восторге битвы; об убийствах, о товариществе, о тоске по дому; о бесконечных маршах по иссохшей под палящим летним солнцем земле; о вездесущей осенней грязи, в которой застревали машины и которая, подобно капкану, хватала в свои вязкие объятия ноги пехотинцев и лошадей, тянувших артиллерийские лафеты; о холодной зиме, когда температура упала до –35 ℃ и десятки тысяч людей теряли конечности из-за обморожений.
Операция «Барбаросса» не только не принесла нацистам гарантированной победы, но и стала источником ожесточенных споров между генералами на передовой и армейским верховным командованием в тылу. По мере углубления этого раскола начальник штаба сухопутных войск Франц Гальдер тщетно пытался играть роль посредника между ними и Гитлером, верховным главнокомандующим вермахта, чьи непредсказуемые решения превращали эту миссию в настоящий кошмар, о чем Гальдер каждый день открыто писал в своем военном дневнике. Кампания группы армий «Центр» против советских войск, которыми в основном руководил величайший полководец Сталина генерал Георгий Жуков, была беспощадной, напряженной и жестокой, как и боевые действия двух других групп армий – «Север» и «Юг». Однако и по своему масштабу, и по характеру она выходила далеко за рамки обычного военного конфликта.
Восточный фронт был полем битвы, на котором мужество проявлялось сполна, а верность долгу ценилась превыше всего, но где ни одна из сторон не придавала особого значения общечеловеческим нормам гуманности. Рыцарская честь уступила место ненависти – первобытному чувству, которое разжигали безапелляционные и жестокие приказы руководителей двух стран. Эти двое не только хотели лично руководить ходом боевых действий, но и требовали не давать никакой пощады и не проявлять милосердия к врагу. В этой титанической схватке законы и обычаи войны, установленные общепринятой в то время Женевской конвенцией, были отброшены.
Солдатам армий вторжения постоянно внушали, что их противник принадлежит к низшей человеческой расе, и войска действовали соответствующим образом. Как на поле боя, так и за его пределами с советскими военнослужащими и гражданскими постоянно обращались чудовищно. Старшие офицеры вермахта закрывали глаза на пытки и убийства, совершаемые подчиненными, и нередко сами отдавали приказы о расправах над людьми, которых считали политическими комиссарами, шпионами или партизанами. На такие кровавые эксцессы со стороны немецкой восточной армии (Ostheer) советские войска отвечали взаимностью и не испытывали угрызений совести, обращаясь с немцами как с насильниками и бандитами, по отношению к которым никакие карательные меры не казались чрезмерными. Смертоносное сочетание ненависти и страха служило оправданием для исключительной жестокости. Характерно, что описания подобных инцидентов, оставленные их участниками или молчаливыми наблюдателями, наполнены самооправданиями и даже бравадой, в которых лишь изредка можно различить нотки стыда или отвращения. Но какой бы ужасающей ни была правда, ни один рассказ об операции «Барбаросса» не может позволить себе ее игнорировать.
Большинством солдат Красной армии двигал либо патриотизм, либо стремление вернуть родную землю. Некоторые вдохновлялись идеологическими убеждениями, но всем было очевидно, что режим Сталина держится на страхе в неменьшей степени, чем на искренней поддержке народа. Уверенность советского диктатора, что он окружен идеологическими врагами, шла рука об руку с абсолютным безразличием к жизням других людей. Как в военное, так и в мирное время он без колебаний отправлял неугодных на смерть. Генералов расстреливали без суда и отправляли в тюрьмы по надуманным обвинениям. Солдатам, которые бежали с поля боя или сдавались в плен, оказавшись в безвыходном положении, угрожала смертная казнь, а их семьи ждал не только позор, но и потеря средств к существованию и права на пенсию. По указанию Сталина Ставка (советский орган высшего военного управления) организовала заградительные отряды2, которые размещались за линией фронта и расстреливали тех, кто предпочитал спасаться бегством, а не погибнуть под натиском врага.
Несмотря на все это, советскому вождю удалось заручиться поддержкой подавляющего большинства населения: народ сплотился вокруг него ради общего дела. Как показывают письма и мемуары (некоторые из этих документов лишь недавно были обнаружены в ранее засекреченных советских архивах), солдаты и мирное население стойко переносили тяготы войны, объединенные общей целью – борьбой против захватчиков. Многие основные архитектурные достопримечательности Москвы были замаскированы, в городе ввели комендантский час. Под постоянными воздушными налетами рабочим удалось демонтировать тысячи промышленных предприятий стратегического значения для последующей транспортировки на Урал, где они были в безопасности и вскоре возобновили работу, быстро наращивая темпы производства. Осенью 1941 года, когда немцы вплотную подошли к внешнему кольцу еще не до конца укрепленной обороны Москвы, столица была переведена на осадное положение. Нарушителей порядка или комендантского часа расстреливали на месте. Под руководством Жукова десятки тысяч едва экипированных добровольцев – мужчин и женщин, молодежи и стариков – упорно возводили внутренние городские баррикады, рыли траншеи и устанавливали противотанковые ловушки в глубокой грязи или смерзшейся почве посреди суровой русской зимы. Режим, основанный только на страхе, никогда не смог бы добиться такой самоотверженной преданности. Без нее поражение было бы неизбежно.
Преступления против человечности, совершаемые на поле боя, по своему масштабу значительно уступали зверствам, которые нацисты творили за линией фронта. Советских военнопленных форсированным маршем гнали в тыл. Их избивали, унижали, лишали еды, воды и медицинской помощи. Десятки тысяч умирали, так и не дойдя до созданных на скорую руку лагерей военнопленных, куда их сгоняли как скот. Они толпились за колючей проволокой, не имея крыши над головой, водопровода, канализации и прочих элементарных средств выживания. От голода некоторые доходили до каннибализма, но большинство просто умирало. Эта книга документирует беспощадную жестокость, которая стала неотъемлемой составной частью операции «Барбаросса». К маю 1945 года в плену погибло около 3 млн советских солдат. Две трети из них умерли от голода или были расстреляны еще до конца 1941 года.
И это еще было не самое страшное. На восточных территориях, захваченных вермахтом в 1941 году, четыре айнзацгруппы (группы особого назначения, или «боевые команды») под руководством старших офицеров прочесывали город за городом, безнаказанно совершая массовые убийства. Создание айнзацгрупп было одобрено Гитлером и осуществлено высшим руководителем СС Генрихом Гиммлером и шефом Главного управления имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом, которые стали главными архитекторами холокоста. Изначально айнзацгруппы получили приказ уничтожать «евреев, занимающих партийные и государственные посты», но вскоре им дали негласное разрешение убивать всех евреев без разбора – мужчин, женщин и детей. Командиры айнзацгрупп были фанатиками, которые из «спортивного» азарта стремились превзойти друг друга показателями казней. По их приказам жертв хватали во время облав, отнимали у них личные вещи, расстреливали и сбрасывали в братские могилы. Эти убийцы действовали не в одиночку. Высшие генералы вермахта не только знали о роли айнзацгрупп, но и во многих случаях сами были причастны к их деятельности, хоть и яростно отрицали это после окончания войны. На всех территориях, оккупированных в ходе операции «Барбаросса», военнослужащие регулярной армии, подразделения местной полиции и другие военизированные формирования помогали убийцам выполнить свою миссию. Существует огромное количество доказательств – в официальных приказах и отчетах, в донесениях самих исполнителей, а также в показаниях свидетелей и немногих жертв, которым удалось выжить. Эти свидетельства настолько же неопровержимы, насколько и ужасающи. Ни одно описание операции «Барбаросса», претендующее на полноту, не может оставить их без внимания.
В первые недели вторжения стремление убивать явно превосходило имевшиеся возможности. Однако со временем убийцы усовершенствовали свои методы, систематически расстреливая большие группы мужчин, женщин и детей – жуткое достижение, о котором они докладывали вышестоящим, сопровождая отчеты точными статистическими выкладками. В течение шести месяцев с начала нацистского вторжения, после серии чудовищных экспериментов с разными видами отравляющих газов, начали работу первые лагеря смерти, в том числе Аушвиц-Биркенау, также известный как Освенцим. Началась индустриализация массовых убийств. К Рождеству 1941 года в расстрельных рвах и газовых камерах был уничтожен первый миллион жертв гитлеровского «окончательного решения». По злой иронии судьбы самое ужасающее преступление XX века было единственным элементом созданной фюрером апокалиптической картины Третьего рейха, которому вплоть до последних месяцев войны не препятствовали поражения на фронте. Обойти молчанием этот аспект операции «Барбаросса» – значит оставить без внимания один из ее самых прямых и непосредственных итогов.
Чтобы полноценно описать гитлеровское вторжение в СССР, нужно учитывать не только его последствия, но и причины. Операция «Барбаросса» не возникла в историческом вакууме – она стала прямым следствием политического кризиса, который охватил Европу после окончания Первой мировой войны. Именно поэтому – возможно, к удивлению некоторых читателей – первая часть этой книги начинается с событий весны 1922 года, когда Советский Союз и Германия, еще недавно бившиеся насмерть на фронтах Первой мировой и ставшие изгоями для остального мира, подписали договор о сотрудничестве3. Этот дипломатический шаг оказался шоком для европейских демократий. Это был внезапный удар, который привел в замешательство британского премьер-министра Ллойд Джорджа и перечеркнул его кропотливые усилия по выстраиванию общеевропейского консенсуса во имя стабильного экономического развития, а значит, мира и безопасности.
Чтобы разобраться в операции «Барбаросса», нужно распутать тугой клубок политических интриг, разыгравшихся на европейской сцене. Без этого понять ее причины невозможно. А для этого придется описать ту смесь высокомерия и страха, которая заставила разобщенные демократии Западной Европы смотреть на СССР с антипатией. Это не только сделало осмысленный диалог с Кремлем невозможным, но и привело к тому, что большинство западных стран воспринимали неуравновешенного фюрера Германии как меньшее из двух зол. С момента краха Версальской системы до политического взлета Гитлера, сталинского террора в СССР и подписания пакта Молотова – Риббентропа, который в 1939 стал для Европы настоящим потрясением, официальные документы, письма, дневники и мемуары главных действующих лиц показывают, что европейские лидеры преследовали противоречащие друг другу или вовсе недостижимые цели. В результате континент неумолимо двигался к новой войне, которой никто не хотел (за исключением Гитлера и, возможно, Сталина, главной целью которого было избежать прямого вмешательства СССР в разгоравшийся конфликт), но которую никто не мог остановить.
Спустя год после начала Второй мировой войны, когда немецкие танки уже покорили бо́льшую часть Западной Европы, Гитлер решил отложить вторжение на Британские острова, чтобы сперва уничтожить СССР. У этого судьбоносного решения было множество причин, но непосредственным спусковым крючком для операции «Барбаросса» стали события на Балканах. Поэтому в этой книге особое внимание уделяется ожесточенной борьбе между Москвой и Берлином за контроль над этим взрывоопасным и стратегически важным регионом Европы. Когда в конце ноября 1940 года прямые переговоры между советским наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и Гитлером зашли в тупик, вызвав раздражение обеих сторон, фюрер приказал своим генералам к следующей весне разработать детальный план вторжения в Советский Союз. В июне 1941-го, уже оккупировав Югославию и выбив англичан из Греции, он оказался в состоянии войны на два фронта.
Таким образом, операцию «Барбаросса» нельзя отделить от конфликта, быстро принимавшего глобальный характер, и это ключевой контекст, в рамках которого я рассматриваю немецкое вторжение. Спустя считаные часы после того, как стало известно, что вермахт вступил в войну с СССР, Черчилль, а через несколько дней и Рузвельт – в менее напыщенных выражениях – объявили о безоговорочной поддержке Советского Союза. Вскоре Вашингтон и Лондон заключили неожиданный союз с единственным в мире коммунистическим государством, а трое лидеров этого союза стали известны как «Большая тройка». Это было событие тектонических масштабов, которое напрямую повлияло не только на ход боевых действий на Восточном фронте, но и на всю послевоенную историю Европы. Поэтому в моем описании операции «Барбаросса» особое внимание уделяется не только военной кампании, но и напряженной человеческой и политической драме этого бурного, порой конфликтного, но крайне важного тройственного партнерства, когда дипломатические представители из Вашингтона и Лондона вновь и вновь отправлялись в Кремль, чтобы поговорить со своенравным советским диктатором.
Гитлеровское вторжение в Советский Союз изменило ход истории. Как следует из подзаголовка этой книги, я убежден, что последние шесть месяцев 1941 года стали самым важным периодом XX века. Операция «Барбаросса» была не просто роковой авантюрой – именно она привела Гитлера к поражению.
ЧАСТЬ I
Мир катится к войне
1. В начале пути
В пасхальный уик-энд 1922 года изысканный курорт Рапалло на итальянской Ривьере заполнили толпы состоятельных итальянцев, ценивших мягкий климат этого средиземноморского побережья. Спокойствие и сдержанная элегантность города издавна привлекали иностранцев, в особенности людей, интересующихся искусством и культурой. Ведь именно на улочках Рапалло Фридрих Ницше вынашивал идеи, которые позднее стали основой его знаменитого труда – философского романа «Так говорил Заратустра», который многим казался совершенно невнятным. Наслаждаться тихими аллеями и уютными кафе сюда приезжали Ги де Мопассан и лорд Байрон, а в те годы среди завсегдатаев города были поэт Эзра Паунд и английский эссеист Макс Бирбом, знаменитый своими изящными карикатурами на британских аристократов.
Рапалло украшали руины монастыря, древняя базилика с покосившейся колокольней, множество средневековых церквей и остатки двух за́мков. Один из них стоял на скалистом мысу возле гавани, которую он некогда защищал от нападений пиратов. Любители мест с менее почтенной репутацией могли найти здесь несколько укромных казино и даже парочку ночных клубов. Самым внушительным зданием был построенный в стиле неопалладианства отель Excelsior Palace, который мог похвастать более чем 140 номерами и бассейном с видом на море. Его гостями часто становились состоятельные люди и дипломаты, ценившие уединение и конфиденциальность.
Именно здесь в тот пасхальный уик-энд руководитель германского МИДа Вальтер Ратенау и советский нарком иностранных дел Георгий Чичерин со своими делегациями доводили до финального вида соглашение между двумя странами, которое обсуждалось на секретных переговорах в течение нескольких недель. Они прекрасно понимали, что Рапалльский договор, как его назовут позднее, был дипломатической бомбой замедленного действия, которая взорвется уже в пасхальный понедельник, всего в 40 километрах от Рапалло – в городе Генуе. Эффект взрыва обещал быть оглушительным, а сопутствующий ущерб – непоправимым.
Проходя через плотную толпу фотографов и журналистов к большому залу заседаний в палаццо Сан-Джорджо в Генуе, построенном еще в XIII веке, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж в тот понедельник, 10 апреля 1922 года, не имел ни малейшего представления, что замышлялось в Рапалло. Он излучал уверенность и решимость. После продолжительного тура челночной дипломатии ему в конце концов удалось склонить 34 европейские страны к участию в большой конференции, где, как он надеялся, их давняя вражда уступит место взаимопониманию, а подписанный международный договор – разумеется, благодаря его выдающимся переговорным талантам – принесет континенту долгожданные порядок и процветание.
Амбиции Ллойд Джорджа не знали границ. Накануне своего отъезда в Италию он заявил в палате общин, что Европа «раздроблена на куски разрушительной стихией войны» и его цель в Генуе ни много ни мало «восстановление единства» континента4. В духе сказанного он выбрал время своего появления в палаццо, рассчитывая на максимальный эффект. И не ошибся – делегаты поднялись со своих мест и наградили его долгими аплодисментами.
Британский премьер-министр был не только тщеславным политиком, привыкшим находиться в центре внимания, но и человеком с поистине стратегическим мышлением и мощным воображением. Как один из лидеров четырех союзных держав-победительниц – Великобритании, Франции, Италии и Соединенных Штатов, которые тремя годами ранее в ходе бесконечных споров сформулировали положения Версальского договора, – он одним из первых осознал, что Парижская мирная конференция не только не залечила глубокие раны Первой мировой, но и не сделала почти ничего, чтобы предотвратить их новое воспаление, чреватое катастрофическими последствиями.
В лучшем случае Версальский договор лишь наложил повязку на гноящуюся рану. Он провел новые границы на карте Европы, выкроив множество независимых государств на территориях, где этнические и культурные конфликты на протяжении более чем полувека до этого сдерживались властями четырех соперничавших друг с другом автократий. Европейский «баланс сил» – концепция, сформулированная в первой половине XIX столетия австрийским канцлером князем Клеменсом фон Меттернихом, архитектором Священного союза, и усовершенствованная «железным канцлером» Германской империи Отто фон Бисмарком, провозгласившим Второй рейх в 1871 году, – начал рушиться задолго до 1914 года. К концу Первой мировой войны он окончательно потерпел крах.
В Версале была расчленена Австро-Венгерская империя, некогда удерживавшая под своим шатким контролем огромные пространства Центральной и Восточной Европы. Теперь лишь сказочная архитектура ее столиц, Вены и Будапешта, напоминала об утраченном имперском величии Габсбургов. Подобным же образом Османская империя – «больной человек Европы», – изрядно потрепанная с краев задолго до начала войны, потеряла свои владения на Балканах, которые были конфискованы победителями и перераспределены между ее постоянно ссорящимися бывшими составными частями5. Неспокойный деспотический режим Российской империи пал жертвой большевистской революции. Царь Николай II, последний из династии Романовых, был убит, а крупнейшая страна континента оказалась втянута в пучину Гражданской войны. Не менее впечатляющим было крушение германского колосса, который под властью последнего кайзера Вильгельма II возвышался над Европой на протяжении жизни целого поколения, а ныне лежал разбитый и униженный.
Народы Европы, чья жизнь прежде четко регламентировалась указами самодержцев, вдруг оказались в хаосе обломков, оставленных войной, жертвами которой стали более 40 млн человек, включая почти 10 млн погибших на полях сражений солдат и более 6 млн мирных жителей за линиями фронта. Еще 10 млн стали перемещенными лицами внутри собственных стран или пытались пересечь наспех установленные в Версале новые границы, скитаясь в поисках убежища и пропитания. Хотя некоторые страны переживали послевоенный бум, внушавший осторожный оптимизм, бо́льшая часть европейской экономики лежала в руинах. На фоне растущей безработицы и повсеместной нищеты большинство людей испытывали горе и отчаяние. Постепенно становилось ясным, что Версаль, разбившись о скалы благих намерений и самообмана, не смог достичь своей высокой цели и выстроить основу для разрешения этого экзистенциального кризиса.
Самым амбициозным проектом, обсуждавшимся на Парижской мирной конференции, было создание международного форума по глобальной безопасности. Его основная идея заключалась в том, что все государства можно убедить перейти от борьбы за выживание к бескорыстному поиску международной гармонии. В знак уважения к президенту США Вудро Вильсону, питавшему романтическую надежду, что так мир можно будет сделать «безопасным для демократии», этот нравственно безупречный проект был воплощен в Версале в форме Лиги Наций. Это была грандиозная, но слишком хрупкая идея, которая не выдержала ударов, последовавших за катастрофой 1914–1918 годов.
Эта хрупкость с безжалостной очевидностью проявилась вскоре после того, как президент Вильсон вернулся из Версаля в Вашингтон, хвастливо заявив перед сенатом, что «наконец-то мир узнал Америку как спасительницу мира»6. Возможно, это льстило самолюбию некоторых американцев, которые хотели верить, что их сыновья не напрасно погибли на европейских полях сражений, но подавляющее большинство сенаторов США не разделяли восторга президента. Более того, они предпочли руководствоваться заветом своего наиболее почитаемого отца-основателя Джорджа Вашингтона, предупреждавшего, что Соединенным Штатам в будущем следует избегать «опутывающих союзов» с другими странами. Поэтому конгресс отказался как поддержать приверженность Вильсона идее Лиги Наций (что в результате ее крайне ослабило), так и ратифицировать Версальский договор, который ее породил.
В течение двух следующих десятилетий Соединенные Штаты практически ушли с европейской дипломатической сцены, отдав предпочтение политике отстраненного нейтралитета и позволяя себе лишь эпизодические – с выгодой для себя – вмешательства в дела Европы. Для многих американцев она вновь стала далеким континентом, о котором они мало что знали и еще меньше заботились. Лишь с началом Второй мировой войны в 1939 году президент Рузвельт почувствовал себя достаточно сильным политически, чтобы сообщить упирающемуся конгрессу, что «опутывающие союзы» вновь стали насущной необходимостью7. Тем временем европейцы должны были сами заботиться о своем спасении.
Версальский договор не только не сделал Европу «безопасной для демократии», но еще сильнее обострил напряженность, которая по разным причинам вскоре охватит континент. После многих недель мучительных, нередко ожесточенных споров победители наконец определились с данью, которую предстояло взыскать с поверженного германского левиафана. Чтобы навсегда устранить угрозу немецкого реваншизма, вновь образованный рейх, чьи лидеры даже не были допущены к переговорам, на которых решалась судьба их страны, лишался всех завоеваний, подвергался военным и экономическим ограничениям и обременялся финансовыми санкциями.
Когда только что избранные руководители Веймарской республики были приглашены выслушать свой приговор, подтвердились их худшие опасения. Молодая демократия должна была уступить обширные территории, которые либо были частью Германской империи с момента ее образования в XIX веке, либо оказались захвачены во время войны: Эльзас и Лотарингия возвращались Франции, Рейнская область попадала под оккупацию союзников, Саар передавался под французское управление на 15 лет, а часть земель отходила Бельгии, Чехословакии, Польше и Литве. Полный пересмотр границ, заложенный в Версале, растянулся на пять лет. Несмотря на то что по Версальскому договору Германский рейх8 по-прежнему оставался крупнейшим государством Европы к западу от Советского Союза, немцам казалось, что их великую страну расчленили – унижение, к которому добавилось решение союзных держав конфисковать африканские колонии. Рейхсвер (силы обороны рейха) решено было радикально сократить, что, по сути, превращало имперскую военную машину в военизированную полицию численностью не более 100 000 человек, лишенную права производить или иметь в своем арсенале броневики9, танки или военные самолеты. Еще более спорным был пункт об «ответственности за развязывание войны», который налагал на Германию огромные финансовые репарации в качестве компенсации за разрушения, к которым привела воинственность кайзера.
В соответствующем разделе Версальского договора первый параграф (статья 231) гласил: «Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Германия признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесенных Союзными и Объединившимися правительствами и их гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников». Несчастные руководители Веймарской республики оказались перед простым выбором: либо принять условия капитуляции, либо ожидать вторжения и оккупации союзными державами. Им оставалось лишь подписать документ там, где было указано. Хотя наложенные санкции и не были такими грабительскими, как позднее заявляли жертвы, – Германия, вопреки распространенному мнению, не оказалась совершенно «поверженной и беспомощной»10, – этого было достаточно, чтобы породить в немецком народе глубокую обиду и ощущение несправедливости. Договор воспринимался как жестокое и мстительное наказание за преступления, в которых сами немцы не считали себя виновными.