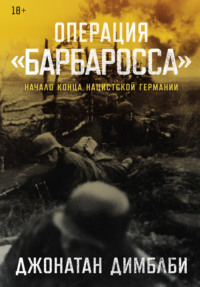Kitabı oxu: «Операция «Барбаросса»: Начало конца нацистской Германии», səhifə 4
В доказательство своей доброй воли он распорядился сократить американскую армию, которая и так имела весьма скромный размер в 140 000 военнослужащих (всего на 40 000 больше, чем Германии было позволено иметь по Версальскому договору). Этот шаг встретил яростное сопротивление со стороны Военного министерства США. В ходе бурных споров в Белом доме начальник штаба армии генерал Дуглас Макартур, как сообщалось, выразил надежду, что когда США проиграют следующую войну и «простой американский парень, лежа в грязи с вражеским штыком в животе и вражеским сапогом на горле, произнесет свое предсмертное проклятие», то он прохрипит имя Рузвельта, а не Макартура75. Рузвельт был взбешен таким вопиющим нарушением субординации, и Макартур был вынужден отступить. Но генерал не смирился. Много лет спустя он вспоминал: «Меня чуть не стошнило прямо на ступени Белого дома»76.
Инициатива президента не принесла результатов. Несмотря на его обращение ко всем 54 участникам с призывом «полностью ликвидировать все наступательные вооружения», дипломаты в Женеве продолжили поддерживать военный протекционизм, как их коллеги в Лондоне – протекционизм экономический. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Последний удар был нанесен в октябре 1933 года, когда по поручению Гитлера германская делегация (возглавляемая Йозефом Геббельсом, недавно назначенным министром народного просвещения и пропаганды) покинула переговоры. Вдобавок немцы одновременно вышли из Лиги Наций (в которую Веймарская Германия была принята в 1926 году), мотивируя свой шаг отказом других держав предоставить Третьему рейху право на военный паритет. Получив горький урок в Лондоне и Женеве, Рузвельт решил хотя бы на время увести Соединенные Штаты с политической арены по ту сторону Атлантики, устало заметив: «Нам предстоит пережить период отказа от любого сотрудничества… в течение следующего года или пары лет»77.
У этого отступления было одно важное исключение: Советский Союз. В октябре 1933 года президент вызвал двух своих самых доверенных помощников: Генри Моргентау, главу Сельскохозяйственного кредитного управления, которому в ближайшем будущем предстояло стать министром финансов, и Уильяма Буллита, опытного дипломата, который в 1919 году приезжал в Москву и пытался заключить мирное соглашение для прекращения Гражданской войны в России (он представил проект соглашения Уилсону, но конгресс отказался его поддержать). В отсутствие успехов в других частях Европы Рузвельт поручил им установить контакт с Москвой в надежде улучшить отношения между Белым домом и Кремлем – или, как он выразился на пресс-конференции, объясняя эту неожиданную инициативу, между «двумя великими странами, двумя великими народами»78. Превосходя своих противников-изоляционистов в конгрессе в стратегическом воображении, он полагал, что сближение с Москвой даст милитаристскому режиму в Токио четкий сигнал о недопустимости агрессивной политики в регионе, где пересекаются интересы СССР и США. В 1931 году японцы уже оккупировали Маньчжурию, что снова обострило давний пограничный спор с СССР, и, следуя лозунгу «Азия для азиатов», готовились к дальнейшей территориальной экспансии, что угрожало прямым столкновением с США в Тихом океане.
Москва не мешкала. После 16 лет дипломатической изоляции (с тех пор, как США приняли решение разорвать отношения после прихода большевиков к власти в 1917 году) соблазн восстановить официальные связи с самым мощным государством мира – и последней крупной страной, формально все еще не признавшей СССР, – был непреодолим. Уже через несколько дней советский нарком иностранных дел Максим Литвинов – изворотливый переговорщик, про которого говорили, что «он может сухим пройти через воду», – был на борту самолета, следующего в Вашингтон, куда он прибыл 8 ноября. Литвинов был идеальным кандидатом для этой миссии. Когда-то он был революционером-эмигрантом и вел жизнь, полную взлетов и падений, колеся по всей Европе и секретно закупая оружие, которое затем переправлялось в Россию для большевистской фракции запрещенной Социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Он жил в Лондоне, где в 1903 году в здании Лондонской библиотеки встретился с Лениным, жил в одном доме со Сталиным во время V съезда РСДРП в 1907 году и женился на англичанке79. Теперь, в свои 57 лет, он был интеллигентным и великолепно образованным дипломатом, искушенным в жизни и прекрасно подготовленным для того, чтобы выстраивать непринужденные отношения со своими западными коллегами. Его сопровождал вездесущий Уолтер Дюранти, чьи приторно хвалебные статьи о сталинской диктатуре в The New York Times обеспечили ему не только долговременную благодарность Кремля, но и восхищение Госдепартамента США.
Первые сигналы не обнадеживали. Переговоры на официальном уровне забуксовали почти сразу же после вступительных любезностей, и через два дня стороны оказались в тупике. Это побудило Рузвельта лично вмешаться в происходящее, и он пригласил Литвинова в Белый дом для разговора с глазу на глаз. Вдвоем они быстро установили контакт, настолько при этом очаровав друг друга, что к концу вечера набросали проект «джентльменского соглашения» между двумя правительствами.
Литвинов с радостью согласился на два ключевых условия. Во-первых, он должен был подтвердить, что правительство СССР не станет вмешиваться во внутренние дела США через пропаганду или подрывную деятельность, – пункт, который был не более чем жестом доброй воли и вряд ли стоил бумаги, на которой был написан. Второе условие – уважение религиозных прав американских граждан, живущих в СССР, – был более важен. Вопрос свободы вероисповедания имел большое значение для католической церкви и поэтому всерьез рассматривался в Вашингтоне как с политической, так и с моральной стороны.
Во время Великой депрессии несколько тысяч граждан США, разочаровавшись в таявших перспективах осуществления американской мечты, соблазнились заманчивой картиной рая для рабочих, которую для них рисовали такие люди, как Дюранти. Изображая советскую действительность в розовых тонах, он среди прочего уверял своих читателей, что все концентрационные лагеря ГУЛАГа «представляют собой нечто вроде коммун, где каждый живет сравнительно свободно, не в тюремных условиях, но при этом обязан трудиться на благо общества… Это определенно не заключенные в американском смысле слова»80.
И главное – там была работа. В 1931 году Генри Форд подписал сделку стоимостью в 40 млн долларов на строительство завода в Нижнем Новгороде (расположенном почти в 320 километрах от Москвы), на котором должна была производиться сборка 75 000 седанов несколько устаревшей модели «А». Более 100 000 американцев выразили желание там трудиться, и 10 000 были приняты на работу. К 1931 году в Москве проживало достаточное количество американцев, чтобы сделать рентабельным выпуск англоязычной газеты Moscow News. Школы с преподаванием на английском языке открылись в четырех советских городах – Москве, Ленинграде, Харькове (где располагался тракторный завод), Нижнем Новгороде81.
Хотя многие из этих искателей приключений вскоре разочаровались в большевистском режиме, их неудачный опыт мало повлиял на отношение к Советскому Союзу в США. Гораздо важнее было то, что множество законодателей и религиозных деятелей испытывали отвращение к коммунизму и атеизму, поэтому любое открытое соглашение с Москвой не смогло бы ускользнуть от их критики.
Чтобы успокоить скептиков в конгрессе, Литвинов с радостью согласился выплатить до 150 млн долларов в счет погашения задолженности, остававшейся после Первой мировой войны, что было несколько меньше 600 млн, на которых настаивал Госдепартамент, но вполне достаточно, чтобы заключить сделку. Утром 17 ноября 1933 года Литвинов и Рузвельт подписали договор, установив дипломатические отношения между двумя правительствами впервые со времен большевистской революции. Убедительные фальшивки Дюранти в The New York Times не определили отношение Вашингтона к Кремлю, но, несомненно, устранили некоторые весьма существенные препятствия на пути к этому сближению. Если бы американская общественность была встревожена правдой о сталинской «ликвидации» кулаков и массовом голоде среди советских крестьян, Рузвельт, который всегда был чувствителен к настроениям нации, был бы вынужден держать советского министра иностранных дел на расстоянии.
В реальности все опасения Рузвельта по поводу публичной реакции на его заявление о том, что Америка готова распахнуть свои объятия первому коммунистическому государству в мире, были быстро рассеяны. Соглашение было тепло встречено руководителями бизнеса и даже конгрессом, за исключением нескольких скептиков. Не менее значимым было то, что основные церковные конфессии, получив заверения, что их прихожане – в отличие от русских верующих – не будут подвергаться преследованиям со стороны большевистского режима, не стали протестовать. Политическое чутье Рузвельта его не подвело.
Первый официальный посланник президента США в СССР прибыл в Москву, намереваясь открыть новую эру согласия между двумя идеологическими соперниками. Уильяма Буллита, чей первый визит в Советский Союз в 1919 году не был забыт, приветствовали в Кремле как старого друга. Расточая радушие и поражая экстравагантностью, редкой даже по стандартам тех дней, новый посол распахнул двери американского посольства для всех сколько-нибудь значимых персон Москвы. Весь город только и говорил о приемах, которые он устраивал. По крайней мере однажды он пригласил около 500 гостей на кулинарную оргию изумительных деликатесов, которая, как говорили, могла сравниться с самыми расточительными дореволюционными банкетами8283. Но чем больше Буллит узнавал о советском режиме, тем меньше восторгов по отношению к нему он испытывал. Тягостная атмосфера всепроникающей секретности, подозрительности, слежки и репрессий, окутывающая город, постепенно стала внушать ему отвращение. Через три года он вернулся в Вашингтон и вновь появился на политической сцене уже как страстный и убежденный антикоммунист.
Перемена взглядов Буллита не повлияла на планы американского президента. Ничто не смогло разубедить его в том, что стратегические отношения с СССР крайне важны для американских интересов и должны быть сохранены любой ценой, – ни отказ Кремля погасить просроченные долги, ни продолжающаяся деятельность агентов советской разведки в США, ни сопротивление московских руководителей торговли, которые не желали заключать выгодные сделки с американскими экспортерами, ни все более красноречивые доказательства жестокости и тирании Сталина.
Поэтому не случайно преемником Буллита Рузвельт выбрал Джозефа Дэвиса. Умелый адвокат, опытный дипломат и давний личный друг Рузвельта, Дэвис поддерживал все его планы, доходя до такой степени преданности, что это сказывалось на его критическом мышлении. Полный решимости укрепить связи Вашингтона с Кремлем, он закрывал глаза на свидетельства сталинской жестокости, маскируя их юридическими формулировками, что подрывало те этические ценности, которые он, как ожидалось, должен был отстаивать. Неизвестно, одобрялось ли такое равнодушие в Белом доме, но его доклады никогда не проверяли всерьез, и это защищало президента от необходимости пересматривать свой стратегический приоритет – поддержания сердечных трансатлантических отношений с этой «великой страной».
Во время массового голода 1932–1933 годов Сталин обнаружил, как легко можно манипулировать международным мнением, чередуя постоянные отпирательства с умело сфабрикованными полуправдами, предназначенными для одурачивания легковерных. Это не означало, что он считал свое положение неуязвимым.
Советский диктатор появился на свет в 1878 году в грузинском городке Гори. Сын обедневшего сапожника, иногда поколачивавшего свою жену, Иосиф был миниатюрным ребенком, достаточно сообразительным для того, чтобы поступить в духовную семинарию в Тифлисе. Он был певчим в хоре и писал неплохие стихи; некоторые из них вошли в грузинские поэтические сборники. Но в возрасте 20 лет, прочитав недавно опубликованный «Капитал» Карла Маркса и с головой окунувшись в радикальные идеи, он покинул стены семинарии убежденным атеистом и начинающим революционером. Вскоре он оказался в центре хитросплетений различных идеологов, целью которых было свержение репрессивного царского режима Николая II. За годы подпольной работы по организации беспорядков его не раз арестовывали и бросали за решетку.
После печально известного расстрела демонстрации в Санкт-Петербурге в 1905 году он сформировал вооруженные группы, которые совершали нападения на армейские арсеналы, вымогали деньги у местных предпринимателей и иногда вступали в стычки с правительственными войсками. В том же году чуть позднее, присутствуя в качестве делегата на большевистской конференции в Санкт-Петербурге, он встретился с Лениным и вскоре стал одним из его близких соратников. К 1912 году он был не только членом Центрального комитета, но и редактором подпольной на тот момент партийной газеты «Правда». На протяжении своего взлета к вершинам власти он часто оказывался в тюрьме или в ссылке. Во время революции 1917 года он вместе с Лениным и Троцким входил в триумвират, определивший весь ход советской истории.
Во время Гражданской войны Сталин продемонстрировал свою необычайную готовность прибегать к государственному насилию и террору для подавления любых признаков контрреволюции. Он часто ссорился со своими единомышленниками (в случае со Львом Троцким это противостояние доходило до смертельной вражды), но при всей своей беспощадности и честолюбии был глубоко не уверен в себе. Ленин обращал внимание на его невоспитанность и не одобрял хамские и бесцеремонные манеры, но при этом доверил Сталину пост генерального секретаря партии. В том же году Ленин слег с инсультом, а в 1924 году скончался. После этого восхождение Сталина к вершинам абсолютной власти шло постепенно, но неотвратимо. За время своего возвышения он нажил много врагов и всерьез опасался, что его окружение может попытаться либо подорвать его авторитет, либо – как он сам уже много раз поступал с другими – избавиться от него совсем.
Поэтому, используя как предлог убийство Сергея Кирова, одного из руководителей советского Политбюро (при обстоятельствах настолько неясных, что в покушении можно было заподозрить самого советского лидера), Сталин развязал кампанию, которая войдет в официальную историю как Большой террор. За два месяца, прошедшие с 1 декабря 1934 года – даты убийства Кирова, были расстреляны почти 200 высокопоставленных коммунистов. В Советском Союзе не было слышно ни одного голоса протеста, а зарубежные апологеты режима вновь нашли оправдание этим злодеяниям. Как игриво заметил Бернард Шоу: «Вершина лестницы – очень неудобное место для старых революционеров, у которых нет административного опыта, нет опыта в финансовых делах, которые формировались как нищие, гонимые беженцы с одним Карлом Марксом в головах, а не как государственные деятели. Их часто приходится сталкивать с лестницы с петлей на шее»84.
Провести Большой террор оказалось несложно. Сталин уже имел под рукой необходимые инструменты: прочное полицейское государство, завещанное ему Лениным, который учредил ЧК85 для осуществления кампании Красного террора в первые годы революции, когда были казнены от 150 000 до 250 000 «контрреволюционеров». Ленин также организовал множество рабочих лагерей, в которых вместе с «обычными» преступниками содержались политические противники режима, подвергаясь всевозможным жестоким лишениям и издевательствам. Те, кто выживал в этих условиях, находились в полной власти тюремных надсмотрщиков, которым разрешалось выходить далеко за рамки гуманного обращения – вплоть до неприкрытого садизма.
Унаследовав от Ленина верховную власть, Сталин расширил сеть постоянной слежки, арестов, задержаний, пыток, внесудебных казней и каторги, в итоге создав систему ГУЛАГа, охватившую всю страну. Названия менялись (в 1922 году ЧК превратилась в ОГПУ, которое, в свою очередь, в 1934 году влилось в состав НКВД86), но карательная миссия ведомства оставалась неизменной. К середине 1930-х годов сталинисты из Политбюро получили полный контроль над рычагами государственной власти. За исключением кучки левых и правых уклонистов, бормотавших себе под нос слова протеста, но не имевших почти никакого влияния, вся оппозиция была уничтожена. Будучи формально всего лишь первым среди равных, для своих противников Сталин оказался практически неуязвим. Но паранойя нашептывала ему другое: ему нужно было уничтожить гораздо больше подрывных элементов в тщетной надежде изгнать мучивших его демонов. Мысли представляли для него неменьшую угрозу. Когда же они были облачены в форму поэтической иронии, то становились опасной заразой. Когда великий советский поэт Осип Мандельштам написал эти строки: «Чего ты жалуешься, поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают», он был обвинен в контрреволюционной деятельности. В 1938 году его приговорили к пяти годам исправительных работ, и он умер от холода и голода в сибирском пересыльном лагере до того, как добрался до пункта назначения. Одним из роковых преступлений Мандельштама стало стихотворение, известное как «эпиграмма на Сталина», где он прямо изобразил диктатора как ликующего убийцу, у которого «что ни казнь – то малина»8788.
Хотя в терроре, развязанном Сталиным в СССР, так или иначе были замешаны все члены Политбюро, именно он был его главным вдохновителем. Это он инициировал чистку низового состава коммунистической партии, и он же санкционировал повсеместное использование пыток для выбивания «признаний» из попавших под подозрение «врагов народа», их заставляли оговаривать других людей и приписывать им преступления, которые те не совершали. Наконец, именно он придумал показательные процессы, на которых вслед за карикатурной пародией на судебное разбирательство – действо, за которым он сам иногда наблюдал с галереи, расположенной над залом заседаний, – Верховный суд выносил приговор, словно издеваясь над самой идеей правосудия.
На первом из таких показательных процессов Верховный суд всего за шесть дней признал 16 человек виновными в заговоре с целью свержения правительства; после этого все они, как и планировалось с самого начала, были расстреляны в подвалах Главного управления НКВД в центре Москвы, на Лубянке, – там же, где невиновных людей регулярно пытали, чтобы выбить фальшивые признания89. На втором показательном процессе, в январе 1937-го, суду потребовались те же шесть дней, чтобы приговорить к незамедлительному расстрелу 13 из 17 обвиняемых. Оставшиеся четверо были приговорены к долгим срокам исправительных работ.
Посол США счел своим долгом лично присутствовать на всех судебных заседаниях и подробно фиксировал происходящее. На основании этих записей Дэвис составил длинное послание американскому госсекретарю Корделлу Халлу, назначенному на этот пост в 1933 году (и занимавшему его вплоть до своей отставки в 1945-м). В этом докладе он описывал, как обвиняемые сидели, «в отчаянии обхватив головы руками или прижавшись лицами к решетке», и слушали речь государственного обвинителя, который зачитывал их уже подписанные признания военному триумвирату, осуществлявшему над ними суд90. Он явно был задет за живое.
Несмотря на все это, посол докладывал госсекретарю Халлу, что «пришел к нелегкому выводу: суд доказал, по крайней мере, само существование разветвленного заговора в политическом руководстве, направленного против советского правительства». И добавил: «Полагать, что процесс был срежиссирован заранее… значило бы допустить участие во всем этом творческого гения, равного Шекспиру»91. В пьесах Шекспира не обошлось без дураков, а в лице Дэвиса Сталин обрел своего полезного идиота.
Одним из трех обвиняемых, избежавших смертного приговора, был Карл Радек, который получил десять лет исправительных работ в обмен на показания, уличавшие в измене ряд самых высокопоставленных фигур в советской иерархии. Среди разоблаченных им были ведущий марксистский теоретик Николай Бухарин и маршал Михаил Тухачевский, один из самых значительных военачальников Красной армии.
Во время Советско-польской войны 1920 года, будучи командиром в свои 27 лет, Тухачевский показал себя блестящим знатоком тактики, и его карьера быстро пошла в гору. К концу 1920-х он становится автором новаторских военных теорий и радикальным реформатором. К несчастью для него, однажды ему случилось упрекнуть Сталина, который в то время был членом Революционного военного совета Юго-Западного фронта, за вмешательство в военные вопросы. Сталин не забыл эту стычку. К 1929 году, когда он стал официальным лидером партии, Тухачевский поднялся до поста начальника штаба РККА. Видя в нем потенциальную угрозу своей власти, Сталин сразу же начал попытки подорвать несокрушимый авторитет харизматичного военачальника.
В 1930 году ложные обвинения в том, что Тухачевский планирует переворот, стали поводом для расследования, которое, несмотря на все старания ОГПУ, не обнаружило против него ни малейших улик. Удачный для Сталина момент наступил только во время показательного процесса в январе 1937 года, на котором Радек, пытаясь спасти свою шкуру, обвинил Тухачевского в измене. Судьба маршала была решена. Во время допросов и пыток он подписал протокол (испачканный его собственной кровью), в котором признавал нелепое обвинение в том, что он – немецкий агент, сотрудничавший с Бухариным с целью свержения советской власти92. Приговор был неизбежен. 11 июня 1937 года, на особой сессии военного трибунала, куда не допускались адвокаты, а решения не подлежали обжалованию, он и еще восемь военачальников Красной армии были приговорены к высшей мере наказания.
Тем же вечером, после того как Сталин утвердил смертный приговор, Тухачевского вывели из камеры на Лубянке и выстрелили в затылок. Исполнителем казни был главный палач НКВД генерал-майор Василий Блохин, назначенный Сталиным на эту завидную должность в 1928 году. Он руководил группой официальных убийц, которые по приказу НКВД осуществили множество массовых казней. За это Блохин удостоился всевозможных наград, включая орден Ленина.
После казни Тухачевского жена военачальника Нина и двое его братьев, бывших военными инструкторами, также были расстреляны. Его трех сестер отправили в ГУЛАГ, а маленькую дочь выслали, как только она достигла совершеннолетия (она оставалась в ссылке до самой смерти Сталина в 1953 году). Гораздо раньше пятеро из восьми судей, приговоривших Тухачевского к смерти, сами были расстреляны, как будто их настигло возмездие.
Сталинская паранойя опиралась на царившее в высших эшелонах партии навязчивое убеждение, что Советский Союз с момента революции находится в состоянии осады, сталкиваясь с опасностями как извне, так и изнутри. К середине 1930-х годов, когда над Европой начали сгущаться тучи большой войны, этот страх стал повсеместным. Источником вируса без всяких доказательств назвали советское высшее военное руководство. Некоторые из его высокопоставленных представителей действительно служили в старой императорской армии во время Первой мировой войны или воевали на стороне белых во время войны Гражданской. В нем стали видеть гнездо «внутренних врагов», которые замышляют подорвать большевистский строй при поддержке агентов иностранных держав, таких как Великобритания, Польша, Япония или Германия.
Жертвами репрессий стали множество маршалов, генералов, комкоров и комдивов, а также один адмирал. За месяц, прошедший с момента казни Тухачевского, более тысячи старших офицеров были «разоблачены» как участники «военно-фашистского» заговора против Советского государства. Одних расстреляли, других бросили в тюрьму, а прочих исключили из партии. К концу осени 1938 года 10 000 человек из руководства вооруженных сил были арестованы, а еще 35 000 – отстранены от службы (хотя 11 000 из них позднее были восстановлены в армии)93. Атмосфера террора затрагивала всех, независимо от звания. Младшие офицеры старались не проявлять инициативу и лидерские качества, предпочитая безропотно выполнять распоряжения начальства и стараться не привлекать к себе внимания. Уничтожение верхушки Красной армии не только лишило вооруженные силы многих талантливых и способных командиров, но и нанесло мощный удар по моральному состоянию как офицеров, так и рядовых солдат. В более широком смысле, хотя главной целью репрессий, возможно, и не было pour encourager les autres94, чистки произвели именно такой эффект на каждого советского гражданина, подавляя любую мысль о критике или неповиновении.
Исполнители Большого террора отныне орудовали по всему Советскому Союзу, выявляя и уничтожая все новые «антисоветские элементы». После «разоблачения» заговора Тухачевского многие тысячи людей были арестованы агентами НКВД, которые с бешеной энергией рвались выполнять произвольные квоты, спущенные из Политбюро. Под общим руководством главы НКВД, карлика-садиста Николая Ежова, из обвиняемых с помощью пыток дежурно выбивались признания. Избиения были настолько жестокими, что глаза жертв «буквально выскакивали из орбит»95. Трибуналы-тройки выносили бессудные смертные приговоры одним росчерком пера. Пост главы НКВД обеспечивал огромную власть, но был смертельно опасен для того, кто его занимал. Ежов сменил Генриха Ягоду (руководившего массовыми казнями кулаков) в 1936 году. В следующем году Ягоду признали виновным в измене и расстреляли. Еще через год Ежова сняли с поста, а его место занял Лаврентий Берия, который немедленно нашел повод расстрелять своего предшественника как «врага народа». Берия продержится на посту гораздо дольше (он был казнен только в 1953 году, после смерти Сталина) и станет ответственным за гораздо большее количество жертв, чем кто-либо из его предшественников.
Вместе с Молотовым и другими высокопоставленными членами Политбюро советский вождь лично утверждал расстрельные приговоры десяткам тысяч арестованных органами НКВД, просто поставив свою подпись напротив их имен в списках, которые регулярно представлялись в Кремль. Только за один день в конце 1938 года они вдвоем с Молотовым таким образом отправили на смерть 3167 человек96. Как впоследствии невозмутимо заявит его верный соратник, «спешка была всюду… Иногда попадались и невинные»97. К концу года, после того как Сталин приостановил Большой террор, количество жертв достигло, по самым скромным подсчетам, 750 000. Эти люди были «ликвидированы» не потому, что совершили какое-то преступление, а для того, чтобы не иметь возможности совершить преступления в будущем. Определяя «врагов народа» как тех, кто осмеливался сомневаться в «правильности партийной линии» не только на словах, но даже «в своих мыслях, да, даже в мыслях»98, Сталин своей деспотической властью во имя социалистической революции вершил судьбы 160-миллионного народа. Таково было положение в СССР, когда Европа стремительно приближалась к катастрофе Второй мировой войны.
Pulsuz fraqment bitdi.