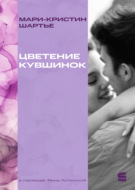Kitabı oxu: «Любовь, что медленно становится тобой»
Эрве, однажды пригласившему меня в Китай…
Действуй, не действуя.
Делай, не делая.
Находи вкус там, где вкуса нет.
Находи большое в маленьком и многое в малом.
Лао-цзы. «Дао дэ цзин», LXIII1
В переводе Нины Хотинской
© Original title: L’amour est un thé qui infuse lentement
Copyright: © Éditions Hervé Chopin 2022.
By arrangement with SO FAR SO GOOD Agency.

© Кристин Кайоль, 2024
© Нина Хотинская, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2024
Я хотел бы рассказать вам о себе, но, боюсь, не умею
Доктор Сунь был тайной. Вместо бейджа на отвороте наглухо застегнутого тергалевого халата он носил маленький китайский флаг. Контраст между ярко-красным цветом этого металлического значка и белизной одежды буквально гипнотизировал меня. Доктор Сунь жил в ритме Дао, ускорявшемся или замедлявшемся в зависимости от природы торможения, которое он ощущал в своих пациентах. Он едва слышно вздыхал, втыкая иголки в нужные точки, как научил его учитель, потом ненадолго присаживался и бормотал «хорошо», что успокаивало меня. Сознавал ли доктор Сунь, похлопывая меня по плечу, что возвращает мне потребность смеяться? Сам он смеялся много. Доктор всегда повторял, что радость – единственное лекарство, которое, распространяясь по телу, лечит его. Отсутствие усилия витало в этом кабинете, где от запаха дешевых благовоний, смешанных с остывшим табачным душком, у меня кружилась голова. Доктор Сунь курил после каждого сеанса, это маленькое баловство позволяло ему вновь обрести веселое настроение, которое он передавал приходившим доверить ему бесконечную палитру болей, не зная их происхождения и исхода. Я стал с нетерпением ждать этих встреч, подобно тому как другие дети ждут игру в мяч или охоту на кузнечиков с приятелями. Мне нечего было делать, кроме как отдыхать на высоком столе, и я всегда ожидал чуда. Каждый раз, когда через сорок пять минут ассистент доктора Суня вытаскивал одну за другой иголки, чуть надавливая большим пальцем, я верил, что выздоровел. Я бы тогда отдал все, клянусь, абсолютно все, чтобы получить «волшебное» зеркало, которое могло бы отразить другое, гладкое лицо, лицо до трагедии, лицо ангела, мое лицо. Увы, еще до того, как взглянуть на себя, еще не осмелившись это сделать, я ощущал под рукой, конечно, определенное затишье, но также и навсегда нарушенный извечный порядок.
Доктор Сунь похлопывал меня по «больной» щеке, он выглядел довольным собой, а потом его ассистент провожал меня с матерью до дверей, туда, где моя мать заранее успевала положить несколько красных банкнот в большую зеленую фарфоровую чашу, до краев наполненную деньгами.
Однажды доктор Сунь исчез, клиника закрылась, и я так и не узнал почему, но это было так, словно моему механизму выживания резко перекрыли кислород. Мать сказала мне, что сеансы закончились и теперь нам придется справляться своими силами. Так что мне ничего не оставалось, как продолжать работу самому. Большим и указательным пальцами под носом, под подбородком, за ухом – постепенно я привык ежедневно себя массировать. В Китае союз «голова – сердце – тело» сродни понятию Троицы у католиков. Никто толком не знает, как сообщаются эти священные сосуды, но все это чувствуют.
Однажды я вслух спросил, кем стану, когда вырасту, – мне было десять лет, я только что доел бульон с вермишелью, пробило шесть часов вечера, – и тогда дедушка вышел из прострации и сказал, встав за моим стулом: «Ни к чему спрашивать себя, кто ты или кем станешь, ты выдумываешь идеи, а это просто миражи в твоей пустыне; иди, наблюдай, шевелись! Ты должен чувствовать только одну вещь, она здесь, она в твоих глазах, но также и в том, что ты выберешь видеть, она предрасполагает нас все вынести и все понять, она впереди, и нам надо только следовать за ней, она – союз земли и неба. Эта действительность столь же материальна, сколь и духовна, это энергия, преображающаяся в надежду, и поэтому следует молчать».
Как это рискованно – писать автопортрет и желать рассказать о своей жизни! Почему же я так хочу это сделать – я, унаследовавший уважение к молчанию и культ скромности? Наверное, чтобы позволить вам поверить в чудеса или в то, что в моей культуре называется юань фэнь – предначертанная встреча, угодная небесам. Не где-нибудь, а в Париже произошла «та самая встреча», когда что-то или кто-то зовет вас и вы, отвечая ему, слышите собственный крик, тот, что сдерживаете в горле с самого начала, как воду в шлюзе, но он выдает вас в вашей манере держаться или ходить.
В Париже и я стал тем самым, кого всегда слышал в себе в мои спокойные ночи. Мой внутренний призрак улыбнулся мне, лицо расслабилось, как тело на пляже, и я словно танцевал с волнами под защитой предвечернего солнца. В Париже что-то во мне смягчилось; и, по мере того как я пробирался сквозь жилистую мускулатуру улочек, я вынырнул, как пловец, из ледяной глубины к тому сладостному восприятию себя, что было дано мне сюрпризом.
Надо сказать, я не больше верю в силу самоанализа, чем в действенность западного здравомыслия. Просвещенные китайские художники не рискнули, игре зеркал и портрета они предпочли духовные резонансы. И я рад был бы сказать, кто я, когда жду дождя. Я – бессмертный из разбрызганной туши, обезображенное существо без окончательных форм, своим взглядом и походкой играющее на многозначительной тайнописи. Я люблю, чтобы все двигалось быстро, но произвожу впечатление довольно медлительного человека. Я держу в голове, как образец и сожаление, портрет бессмертного мудреца, написанный Лян Каем2. Чтобы хватило пары штрихов, одного дуновения, но какого дуновения – и можно было бы сказать, кто он! Жест без видимых препон действен, как стрела. Но в живописи, как и в жизни, нет мишени – ее надо искать на стороне, вдали, там, где мы не рассчитывали быть тем, чем в конечном счете стали.
Чтобы вы отчетливо поняли, кто я такой, я поделюсь с вами кое-какими воспоминаниями. Воспоминаниями, которые служат мне доказательствами и всплывают, особенно когда я устаю, призывая меня на суд, где судьи – мои родные. Потому что я – тот, из-за кого моя семья в очередной раз пережила трагедию.
«С моей вдавленной щекой я никогда не найду женщину, которая согласилась бы стать моей женой. Я не буду зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать мою мать, когда она состарится. Мне придется всегда скрывать лицо под козырьком каскетки3 или под шляпой. Будет ли моя страна однажды гордиться моим вкладом? Никогда…»
Эти очевидные истины невольно и безмолвно внушало мне мое окружение. Они теснили мне грудь, обжигали и без того обнаженные нервы, подтачивали суставы и угнетали все мое существо. Только позже я понял, что значит жить под прессом невидимого зеркала, в смирительной рубашке, которая не дает дышать и искажает истину, шепча на ухо: «Вот чем ты никогда не сможешь стать, вот как ты никогда не сможешь жить».
О себе я все же должен сообщить один объективный факт, который не определяет меня как такового, но укореняет в образе жизни и мыслей: я – китаец. Никто, кроме, разумеется, моих соотечественников, не может догадаться, что это включает не только ряд конкретных обязательств, но еще и унаследованные эмоции, семейное и космическое сознание, тяжелое молчание предопределенного окружения, как это иногда бывает в еврейских семьях.
А так, чтобы не ударяться в лирику, я среднего роста, худой и бледный и, несмотря на мое изуродованное лицо, по словам моей матери, выгляжу красавцем.
I. Первые шаги китайца в Париже
Дежурный китаец
Париж. Январь 1991 года.
Я даю уроки китайского в частном даосском центре, расположенном на углу улицы Бак и бульвара Сен-Жермен. Один тайкун4 с Тайваня финансирует этот центр, и там я познакомился с шикарными женщинами, которым меня порекомендовали как человека, дающего частные уроки. В начале 1991 года большинство французов, несмотря на то что они люди образованные, совсем ничего не знают о моей стране, путают ее с Японией, а иногда даже и с Советским Союзом. Клиенты относятся ко мне с симпатией, порой с любопытством и зачастую навешивают на меня ярлык политического беженца. Я предпочитаю оставлять место сомнению. Мне бы и в голову не пришло отправиться на площадь Тяньаньмэнь весной 1989 года5 – уж слишком жарко там было. А поскольку мне не посчастливилось учиться в университете, я не чувствовал причастности к протестам студентов. И главное, мне не следовало терять времени – меня ждали полезные дела: например, я должен был помогать дяде в планах перестройки квартала или раз в неделю сопровождать мою мать к доктору для лечения ее диабета. Как бы то ни было, в моей семье в расчет принимается только работа.
С частными уроками, при всей их доходности, мне случалось попадать во всевозможные ситуации. Но сцена первой встречи, когда я прихожу на урок, всегда одна и та же: легкое движение назад, сопровождаемое неоднозначной тягой. Я китаец, и у меня изуродована половина лица. На втором уроке я чувствую, как настороженность постепенно исчезает и первоначальную неловкость сменяет притяжение, правда, тоже особого рода. Экзотика манит тех, кто проживает ее на диване, ни на йоту не сомневаясь в своем превосходстве. Я, конечно, интригую, но никоим образом не разрушаю предрассудки и светские правила моих клиентов, наоборот. По этой причине меня иногда приглашают на ужин, и, хотя такие мои вторжения в их мир – большая редкость, они позволяют мне лучше узнать Седьмой округ. Его аристократическая ледяная атмосфера чем-то притягивает меня физически, будто зрелая женщина без моральных устоев. Особенно меня оценил один юноша пятнадцати лет от роду. Волевой, не чета другим, он хочет увеличить количество индивидуальных уроков до отъезда семьи в Шанхай. Моя организация труда проста. Я даю по обусловленной цене двадцать два часа уроков, но, проявляя гибкость, предоставляю выгодные скидки тем, кто хочет большего. Этому парню кажется, что ему необходимо овладеть основами китайского, чтобы иметь «возможность ориентироваться в повседневной жизни». Это общепринятая формулировка – я и сам использую ее, когда продаюсь: «Через несколько месяцев вы усвоите основы, чтобы ориентироваться в повседневной жизни».
Моим ученикам плевать на идеограммы, сразу вызывающие у них отторжение. И без того все достаточно сложно.
Этот же амбициозный юнец, активно готовящийся к отъезду в Китай, сказал мне однажды, что в Шанхае, насколько ему известно, можно заработать кучу денег – гораздо больше, чем в Пекине. Это замечание, которое я наивно принял всерьез, встревожило меня. И я совершил ошибку, ответив: «Жить в Китае непросто, делать дела в Китае непросто, китайцы вообще непростые, особенно между собой».
Не успев произнести это, я устыдился своих слов и попытался смягчить суждение, потому что терпеть не могу чернить образ моей страны. Однако это замечание задело только меня, мой юный друг не обратил на него никакого внимания, как и его родители, которые уговорили меня остаться на ужин и показали фотографии красивых шанхайских домов во французском стиле – они колебались, какой же из этих особняков им выбрать.
Твердо решив избегать новых промашек, я постарался разделить их энтузиазм.
– Шанхай – великолепный город, правда, довольно грязный, а бывший квартал французской концессии, хоть он еще в упадке, вам понравится. Но я из Пекина, и Шанхай для меня чужой город, я не хочу вводить вас в заблуждение, давая еще какие-либо сведения…
Они не услышали этих слов и продолжали засыпать меня вопросами, неожиданными и, на мой взгляд, довольно несуразными: «Надо ли будет заказывать молоко из Гонконга?6 Правда ли, что там едят только мясо кошек и собак?» Ничто другое их, кажется, не интересует, и я их понимаю. Питание важнее всего.
Они видят Китай через культурные коды, через правила, которым надо следовать, и через рынок, который надо завоевать, и думают, что сделают это за три года. Им нужна схема, чтобы быстро освоиться, и я внушаю им, что таковая существует. Приняв меня за политического беженца, что, как я уже говорил, случается здесь часто, отец моего юного клиента попытался за десертом неуклюже связать мои шрамы, к счастью, сглаженные, с «культурной революцией», которую он путает с недавними событиями на площади Тяньаньмэнь.
– Мы знаем, как вам пришлось страдать все эти годы.
Какой период он имеет в виду? Его скорбный взгляд не отрывается от моей левой щеки. Потом он встает, приносит из книжного шкафа французское издание «Маленькой красной книжицы»7 в пластиковой обложке и с гордостью преподносит ее мне, полный решимости прийти к политическому консенсусу. Я беру книгу, листаю, стоически просматриваю несколько страниц, следуя китайскому правилу вежливости: никогда не отказываться от того, что тебе дают. Потом, улыбаясь, возвращаю книгу.
Мне удалось набрать четырех студентов в неделю, и клиенты ценят меня, потому что я умею быть требовательным и в то же время всегда улыбаюсь. Логично, что я решил увеличить стоимость обучения, отчего возникла лишь одна принципиальная проблема – морального, так сказать, толка. Поначалу родители моих учеников немного заартачились, но все в конце концов дали согласие, «потому что это – я».
Сказать по правде, я, крестьянский сын, всегда воспринимал зарабатывание денег как некое естественное явление, зависящее, разумеется, от ряда случайных факторов, но столь же предсказуемое, как урожай в хороший сезон. Есть время, есть желание и привычка к труду, так что достаточно применить на практике эти укоренившиеся с детства склонности, чтобы обеспечить себе пропитание. Я не беспокоюсь ни о будущем, ни о настоящем и чувствую себя свободнее, чем эти люди, которые с комфортом устроились в своих убеждениях и которым жизнь представляется чересчур сложной. Стреноженные жесткими социальными рамками и страхом за будущее, они всегда говорят, что у них «недостаточно средств для…». Это выражение, которого я поначалу не понял, теперь забавляет меня, и у меня даже вошло в привычку тоже им пользоваться. Я внушаю моим ученикам, что в Китае каждый, кому дали «средства» на что-то, думает, что станет богат или что у него, по крайней мере, «будут средства», превосходящие родительские. Работая в ресторане по вечерам и давая уроки китайского днем, я получаю «средства» без проблем. Не считать денег, хорошо питаться каждый день, посылать подарки друзьям и родным – разве этого недостаточно? И да и нет, потому что моя жизнь не заканчивается на удовлетворении этих нужд. Я хочу зарабатывать больше и гордиться чудесами, которые, быть может, встречу, дав себе шанс их добиться. Покупать одежду французских марок, водить красивую машину, приглашать женщин в роскошные отели и, главное, избавить мать от всяких материальных забот – все это звенья одной цепи, одного-единственного желания, создающего некую внутреннюю качку, заставляющую меня постоянно пребывать в движении. Я хочу быть уверенным, абсолютно уверенным, что смогу купить ей квартиру в одном из строящихся зданий в квартале Саньлитунь – в этом проекте мы с дядей партнеры. Работать, играть, выигрывать, проигрывать, снова выигрывать – для меня это психологическая динамика, приносящая плоды моей семье, та самая динамика, которую я разработал вместе с Шушу.
Я быстро понял, что из Парижа, где все, абсолютно все требует времени, а я остаюсь «дежурным китайцем», эта игра будет непростой.
Необходимое дезертирство
Почему Париж? Я этого еще не знал. Почему Париж, а не Нью-Йорк, где начинали жизнь многие артисты, хотя не только они, но и юные студенты тоже? Я выбрал Париж из-за книги, которую мать показывала мне в больнице после несчастья, а также свою роль сыграло то, что в детстве я усвоил основы французского языка благодаря моему другу-художнику, которого я звал Гэгэ, «старший братец», учитывая нашу разницу в возрасте и дружеские узы, связавшие нас естественным образом.
Дядя же и слышать не хотел о Городе Света. Он предвидел кое-какой доход от инвестиций, знал, что мы скоро разбогатеем, и не понял моего несвоевременного отъезда. Он говорил о «дезертирстве из семейного круга» и о «предательстве родины». Он понимал, что после несчастья моя душа укрылась в воображаемом мире и желание спрятаться частенько побуждало меня бежать в далекую страну, о которой и он знал совсем немного, разве что Эйфелеву башню, Виктора Гюго и генерала де Голля. Франция в его глазах походила на женщину – недоступную, но щедрую, улыбчивую, элегантную, этакую модель революционной эмансипации, которую изучают в школе. «Свобода, ведущая народ» Делакруа была единственной картиной, которую один из его учителей комментировал на уроке, когда он был подростком и только начал выстраивать свое политическое сознание. В этой волевой и чувственной Марианне8 было все, чтобы ему понравиться, но дяде была невыносима мысль, что я могу хотеть отправиться на встречу с ней. «Бали, Бали, Бали». – Он твердил эти два слога (так произносится Париж на китайский), сопровождая их горловым урчанием, выражавшим его недовольство.
Дядя никогда не чертил планов, но умел создавать подземные лабиринты, ведущие к выходу, будь то в моем мозгу или в мозгах его бизнес-партнеров. Со своим несравненным чутьем он всегда добивался поставленной цели, обходя всевозможные препятствия, в том числе психологические. Он сам по себе воплощал мудрость пословицы: «Всмотревшись в лицо, услышишь несказанное». Так что Шушу, всего лишь видя, как я молчу в иные моменты, угадывал зов Парижа. Впрочем, дядя мог бы одержать верх над этой блажью, что приказывала мне следовать за Марианной моей мечты и нашептывала с загадочной настойчивостью: «Покинь свою родину».
Да, Шушу сознавал силу своего убеждения и свой гений в делах. В считаные годы, опираясь на дружеские отношения, которые он сумел завязать с высокопоставленными чиновниками округа, дядя получил подряд на освоение обширного пустыря, прилегавшего к нашему хутуну9и служившего свалкой и импровизированным дансингом по вечерам. Так он стал «застройщиком», и в его обязанности входил поиск инвесторов и архитекторов, способных строить дома среднего качества – то есть не слишком высокие и без архитектурных излишеств – для тех, кто приезжал работать в Пекин, а также для тех, кто рано или поздно, по необходимости и благодаря дотациям, покидал хутун своего детства.
Шушу видел во мне идеального помощника, возможно, единственного, кому он безоговорочно доверял, кого знал с рождения и на кого мог положиться по праву сыновнего почтения, которое я питал к нему по определению. К тому же, не получив высшего образования, я мог располагать собой, так что мне сам бог велел вступить в то, чему суждено было всего за четыре года стать – и на много поколений вперед – семейным предприятием.
Первые два года мы с дядей, не зная усталости, трудились вместе, рука об руку. Наши рабочие дни начинались с восходом солнца, около пяти утра, и заканчивались после десяти вечера в массажном салоне или караоке, с клиентами или инвесторами, готовыми ступить на путь вечной дружбы. Бухгалтером мы наняли одного моего бывшего одноклассника, чьего отца Шушу жестоко избил во время «культурной революции». Причины столь сурового наказания казались в ту пору очевидными, по крайней мере для моего дяди и для многочисленных соседей. Этот человек оказался ослушником. Он сохранил у себя дома две книги стихов династии Тан, спрятав их в кухне на дне мешка с рисом, в то время как на вечер того же дня на границе хутуна было назначено аутодафе. Когда книги были обнаружены ретивым хунвейбином10, подростком лет четырнадцати, Шушу «счел своим долгом», по его собственным словам, «в назидание другим» отхлестать до крови «виновника, влюбленного в поэта Ли Бо11».
Лет десять спустя, ни словом не упомянув об этом случае, моя мать предложила сыну ослушника зарабатывать с нами деньги, и тот немедленно согласился. Не задаваясь иными вопросами, кроме тех, что позволяли нам справиться с задачей как можно скорее, мы начали следовать призыву товарища Дэн Сяопина12: «Обогащайтесь». «Вступим в новую эру, эру всех возможностей». Этот слоган был не просто очередным посулом, но разрешением и всеобщим примирением.
Дэн Сяопин был одновременно отцом для всей страны, наследником Мао и нашим спортивным коучем. Он позволял нам проявлять изобретательность и двигаться быстро, не задавая, однако, точного направления. Развивая бурную деятельность, мы вели себя как лозоходцы13, нюхом чуя, что оказались в нужное время в нужном месте. Мы шевелились, наблюдали, зачастую ходили кругами, предвидя, что из всевозможных пластов и неровностей почвы вскоре забьет фонтан изобилия. Первый проект мы выполнили стремительно, и один городской чиновник, новый дядин друг, предложил ему вложиться в квартал Саньлитунь, которому предстояла капитальная перестройка. Ближайшие тридцать лет обещали стать неудержимой гонкой вперед и вперед, организованной самими властями. Уже были представлены планы в мэрию, значительная помощь выделена тем, кто готов был всем рискнуть и вложиться не дрогнув. Надо было ловить отскочивший мяч или ждать следующих. Мы с дядей никогда не ждали.
Деньги текут естественным образом, если черпать из нужных источников. Банки предоставляли предприятиям – причем под выгодные проценты – специальные займы на проекты застройки. Держа голову в холоде, мы с дядей воспользовались этой политикой, чтобы вложиться в финансовое обеспечение квартала Саньлитунь, и купили две квартиры у парка Чаоян, предназначенные для сдачи. Тысячи людей в поисках работы и жилья прибывали из провинций, близких к Хэбэю14. Под кроватями и в стенных шкафах, в том числе на кухне, мы на всякий случай хранили большие пластмассовые чемоданы, набитые банкнотами по 100 юаней. Моя мать, как и дядя, чувствовала успокоение только при виде этих красных бумажек. Но, в сущности, она больше всего хотела, чтобы в ее жизни ничего не менялось, – она знала, что волны, которые быстро накатывают на песок, невозможно удержать и они все равно отхлынут. Чего она желала всей своей душой китаянки, рожденной в 1930 году, так это остаться в «своем» хутуне, на своей улочке, в своем дворике, на своей узкой кровати. Она держалась за устоявшиеся привычки, за ритм, запечатленный в ее теле, который заставлял ее подниматься в три часа утра и отправляться в общественный туалет, находившийся в ста пятидесяти метрах от нашего «дома», встречаться там с соседками или соседями, которые, как и она, не могли дождаться шести часов утра. Они приветствовали друг друга бесшумно, с той особой нежностью, к которой располагает глубокая ночь. Скромность и сердечный нейтралитет регулировали эту повседневную жизнь с точностью биологических часов. Ни моя мать, ни соседи не боялись зимних температур, до минус двадцати градусов Цельсия, заставлявших их надевать по несколько мяньку15, а руки она грела о термос с кипятком. Эту жизнь она знала и верила в нее больше, чем в какой бы то ни было прогресс.
После несчастья, чтобы возить меня в больницу и к доктору Суню, мать была вынуждена покинуть пределы нашего квартала и оценила размеры Пекина. Для нее эти поездки были подобны путешествиям в чужие края. В свой лабиринт грязных улочек она возвращалась как на родину. Ее хутун был всем Китаем. А те места, что окружали Запретный город16, как и моя мать, подвергались метаморфозам, на первый взгляд как будто вовсе не меняясь. В иных районах Пекин распускал хвост, словно павлин, и выглядел спокойным и уверенным в своей красоте, а в других уже чувствовалось приближение серьезных ремонтных работ на окружных дорогах, усиливающие его нервозность. Не говоря о важнейшем и в высшей степени политизированном проекте по другую сторону площади Тяньаньмэнь, где правительство запланировало строительство национального оперного театра. Здания вырастали будто из-под земли за считаные недели, и даже потрясающие бары появлялись за три дня вокруг продавленных диванов, курительных палочек, двух-трех бутылок «Джонни Уокера», стареньких электрогитар и изрядного количества пыли.
В соседнем хутуне однажды вечером парень лет двадцати, которого партнеры по игре называли «артистом», подставил свое обнаженное тело под пистолеты с черной тушью, превратившись на время перформанса, продолжавшегося четверть часа, в живой свиток каллиграфии. Соседи, испуганные его зловещими позами, боясь, что он одержим демонами, решили вызвать полицию. Не обращая никакого внимания на эти угрозы, возбужденные не столько своим импровизированным творением, сколько возможностью создать его вживую в сердце традиционного Пекина, в двух шагах от Запретного города, юные друзья-авангардисты продолжали экспериментировать. Двое полицейских, мирно поедавшие лапшу в нескольких метрах от происходящего, подошли не спеша и встали перед перформерами с удрученным видом. Медленно, устало и безрадостно они достали потрепанные бланки протоколов, решившись все же прекратить этот странный маскарад. Один из друзей артиста подошел к ним и протянул каждому по сигарете, непосредственно из рук в руки, в знак дружбы. Полицейские вздохнули и закурили, глядя на местных стариков, которые сидели на серых кирпичах, пристроив у ног свои клетки с птицами. Рождался новый мир, но прежний не собирался умирать. Здесь, в сердце переплетения улочек, еще помеченных стигматами страданий последних лет, между организованным контролем и стихийным доносительством, здесь, где четырехлетние дети играли в хунвейбинов со значками своих старших братьев, наконец высвобождалась новая энергия! Покуривая сигареты, полицейские беседовали со стариками о «старых добрых временах» и о Великом Кормчем17…
Потом шоу закончилось, и все разошлись по домам, отпуская разнообразные комментарии о происшедшем.
Возможным становилось все, абсолютно все. При условии, что под сомнение не будет ставиться народный порыв, что полиция еще сможет делать свою работу, а конфликт поколений не будет слишком глубоким. Предпринимать, пробовать, строить.
Нередко рестораны или предприятия закрывались так же быстро, как и открывались, потому что двадцатилетние юнцы, не учившиеся в школе, вообразили, что смогут ими управлять. Визитные карточки и титулы директора, президента, вице-директора, генерального секретаря множились, словно мухи на свежем мясе. Мы жили в смерче, взвихрившемся подспудно.
Эти потрясения тревожили маму. Да и как могло быть иначе? С каждым днем она все глубже погружалась в печаль, подточенную стыдом, и молча проклинала эти перемены, которые дяде, а стало быть, и мне, казались, однако, полными обещаний. Когда я приходил вечером домой и заставал ее ушедшей в свои мысли, склонившей голову над починкой штанов или стряпающей вместе с дедом лапшу к ужину, мне хотелось сказать ей: «Мама, я никогда тебя не оставлю, я всегда буду с тобой и постараюсь, чтобы тебе ничего не угрожало, ты не покинешь свой хутун, я сам его обустрою, чтобы тебе в нем жилось лучше, а вечером я помогу тебе сесть, не слишком крепко сжимая твои руки, сам опущу твои ноги в тазик с горячей водой и добавлю туда свежего имбиря».
Я бы дорого заплатил за эти несколько слов, которые мне так никогда и не удалось ей сказать, я хотел бы купить себе речь, как другие покупают одежду, чтобы принарядиться и выйти в люди вечером. Я приписывал иным фразам чудесную власть завязывать, разрушать и менять отношения, но сам привык молчать и метался, как обезьяна в клетке, голося про себя. Никто меня не слышал, и я думал тогда о моей глухонемой бабушке, которую мне не довелось увидеть, – я лишь чисто случайно узнал ее историю… Ее заточение, следствие случившегося с ней еще в детстве рокового несчастья, переместилось в мое тело, вкралось в мой облик, и люди, встречая меня, думали, что я либо глух, либо держу дистанцию, близкую к надменности. А между тем это было лишь унылое одиночество, внутри которого я ждал, не торопя события, возможности выйти наружу. Рядом с суетливым весельчаком, каким был мой дядя, я выглядел еще более странно. Думаю, я производил впечатление аристократа, равнодушного к мирским делам, но тем более опасного, когда надо было торговаться.
В этом вскипании, свойственном стране, которая поднимала голову, высвобождая жизненную энергию, ту, что оттачивается боевыми искусствами, все было, стало быть, за то, чтобы я оставался в Пекине и продолжал помогать Шушу в его многочисленных предприятиях. Вместе с дядей, учитывая эти почти чудодейственные для нас обстоятельства, мы должны были быстро преуспеть, послужив нашей семье и нашей родине. Это было нам на роду написано.
К тому же у матери появились признаки усталости, осложнился ее диабет, и все это тревожило нас с дядей.
Какой же процесс запустился тогда в моей душе, что я отринул мой долг сына, племянника и патриота? Трудно объяснить, но я попробую описать это в двух словах. Я нашел в себе силы уехать, потому что испугался.
Я, конечно, мог бы сказать себе, что должен бежать, чтобы научиться находить слова, которых мне недоставало, потому что другая культура допускает другие интонации и даже другие мысли; я мог бы также сказать, что мне необходимо было сбросить свою раковину ребенка-мученика, вылупиться из нее, как бог Пань-гу18 вылупился из яйца. Но это все надуманные доводы, постфактум оправдывающие мой отъезд, которого никто, даже я сам, до конца не понял. Честно говоря, я действительно думаю, что испугался и по этой, должен признать, довольно постыдной причине решил покинуть свою страну. Но с какой стати пугаться мира, внезапно открывающегося перед вами? Мира, в котором вам вдруг становится не так больно, не так холодно, не так серо жить? Я бежал от удовольствия, от положительных эмоций, слагающую и умножающую силу которых я постигал по мере работы с Шушу. Это удовольствие действовать, возбуждающее тебя с зари и удерживающее на ногах до поздней ночи, разливающееся в мозгу, стоит только подумать о планах, об удачах, о выгоде, обо всем, что прибывает и еще прибудет, наверняка! И я начал побаиваться воздействия моей повышенной активности на мое внутреннее равновесие, я начал побаиваться головокружения от успехов, которое само себя порождает и оправдывает, ведь надо же вносить вклад, самому становиться живой силой на благо общества. Я испугался действия, которое опьяняет, когда растет наша власть над временем и нам приходится чокаться за наши успехи. Я испугался действия, которое заставляет всем жертвовать и все забывать, потому что его стимулирует ощущение жизни.