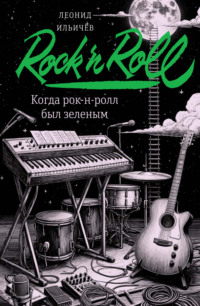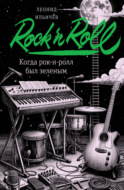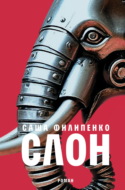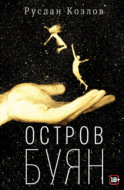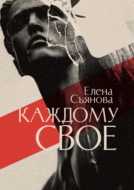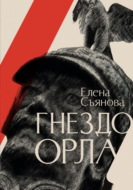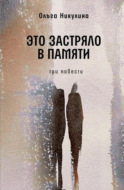Kitabı oxu: «Когда рок-н-ролл был зеленым»
© Леонид Ильичёв, 2025
© «Время», 2025
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ Валерий Калныньш


О романе Леонида Ильичёва «Когда рок-н-ролл был зеленым»
Долгие годы я испытывала нечто вроде легкого печального раздражения, сталкиваясь с текстами о позднесоветском прошлом, – мне казалось, что эта эпоха отошла в сумерки истории, где покрылась пылью, как детские лыжи или гитара, и на какое-то время перестала производить смыслы. Однако сейчас очевидно, что это было заблуждение – что-то вроде горькой иронии судьбы. История в своем обычном лукавстве изогнулась, вывернулась и предложила нам новый набор карт, в котором именно позднесоветский период оказался островажным для понимания, проживания нашего сегодня, да и, возможно, выхода из него. Именно в тех десятилетиях мы ищем сегодня ответы на наши зияющие вопросы.
Роман-воспоминание Леонида Ильичёва «Когда рок-н-ролл был зеленым» служит именно такой задаче внимательного исследователя – заново войти в поток времени, попытаться понять его и собственную личность в этом потоке. При этом складывается достаточно парадоксальная ситуация: автор-повествователь показывает нам пласт, который не слишком легко связывается с мифологией советскости, – существование молодых людей в мире музыки, причем именно рок-музыки. Таким образом, нам сразу заявлено, что позднесоветское – это не только блеклая вывеска «Слава КПСС!», не только пустые витрины магазинов и эзопов язык – все гораздо сложнее: перед нами борьба молодых (и не только) людей за свою внутреннюю свободу. Именно этот сюжет кажется мне наиболее важным и увлекательным в прозе Л. Ильичёва.
Какова же эта проза по своему существу, по своей фактуре?
Перед нами легкий, прозрачный, слегка улыбающийся рассказ о жизни, замечательно внимательный к ее подробностям, драгоценным деталям. Мне кажется, это сообщает литературной машине времени истинную власть: читатель переносится на десятилетия назад и вместе с рассказчиком теперь волен не знать исхода судьбы, но наслаждаться открытостью, возможностью – все роковые ошибки и сожаления еще впереди.
Я сердечно рекомендую эту прозу тем, кто хочет силой воспоминания перенестись в мир, где играть другую музыку было актом дерзости, где молодые люди посредством знания и искусства искали способы перехитрить угрюмого Левиафана. Но особенно я рекомендую это повествование молодым – возможно, именно им сейчас книга о поиске внутренней свободы, о борьбе со страхом, всегда с легкой насмешкой, может быть особенно полезна.
Полина Барскова
От автора
Хочу выразить благодарность друзьям, без которых этот роман мог бы не состояться: Александру Шикурову, Владимиру Стеценко, Владимиру Исаеву, Владимиру Еланскому а также Сергею Михайлову, Александру Донцу, Александру Мазуренко – за благожелательное согласие с тем, что автор кроил, придумывал и интерпретировал события по-своему, а А. Шикурову, В. Стеценко и В. Исаеву – еще за их воспоминания, которые были использованы в моем тексте; Андрею Бурлаке и его рок-энциклопедии (www.rock-n-roll.ru) – незаменимому источнику информации об истории рок-музыки; замечательному литератору Е. С. Холмогоровой за бесценные советы. Искренняя благодарность Сергею Князеву, Ольге Гренец, Галине Соловьёвой, Марианне Таймановой, Павлу Семёнову за прочтение и критические замечания рукописи, а Мустафе Ибрахиму – за создание аудиоверсии романа, куда вошли фрагменты записей с диска 2002 года и даже с магнитофонной пленки 1975 года.
И наконец, особая благодарность фактическому соавтору – моей жене и первому читателю и редактору Марии Зильбербург, которая своей глубокой вовлеченностью, критическим взглядом и осмыслением событий помогла превратить набор жизненных историй в повествование, в какой-то степени претендующее на воссоздание атмосферы студенческой жизни в послеоттепельные годы.
Когда рок-н-ролл был зеленым
«Зеленым муравьям» с благодарностью за полвека дружбы и с извинениям за художественные вольности
Пролог
Поезд опаздывает на полтора часа. Стоянка – минута, а у нас багажа на полтонны: инструменты, неподъемная басовая тумба, ударная установка, звуковая аппаратура, усилители, микрофоны, провода, новенький ревербератор, мои инструменты – скрипка с органолой, гитары. На областной слет «Мурманск-1971» едут студенты из стройотрядов со всего Кольского полуострова, и если бы не помощь попутчиков, пришлось бы рвать стоп-кран. Во Дворце культуры рыбаков собралось две тысячи человек. Концерт прервался, ждут нас.
В спешке мы разгружаемся, подключаемся, настраиваем инструменты, пробуем микрофоны, и все это под аккомпанемент ровного гула голосов из зала и коротких вспышек аплодисментов на каждый звук электрогитар.
Наконец занавес едет, полный свет, басист на сцене один, он начинает: «Та-та-та-а, та-та-та-та-а», и одновременно зал, разогретый за полтора часа ожидания, взрывается в две тысячи глоток, опознавая Deep Purple: «А-а-а-а!..» Мы выскакиваем из-за кулис, подбегаем к стойкам, ударник на бегу запрыгивает за барабаны – и… тарелка слетает с установки и со звоном скачет по сцене, а ударник за ней, ловит и водружает на место, но басист все это время непреклонно повторяет заход из «Smoke on the Water»1.
Ситуация спасена, и тут наконец мы набрасываемся на микрофоны:
На пригорке в красном домике живет дружная семья.
Там не люди и не слоники, там квартира муравья.
Слова дурацкие, самопальные, но со смыслом: группа называется «Зеленые муравьи». Впрочем, что слова! Главное – драйв.
Муравья цвета зеленого, муравья очень смышленого,
Маленького тихого веселого, милого смешного муравья!2
Дальше: гитарный запил, импровизация – и поехало. Битловские вещи, арии из рок-оперы «Jesus Christ Superstar»3, «July Morning»4 – сложнейшая композиция группы Uriah Heep, – и потом весь репертуар.
Неважно, на каком языке, – слов песен мы до конца и не понимаем, смысл передается через гармонию и ритм, рок шире своего времени и сильнее границ. Как поет Джон Леннон в «Imagine»:
Imagine all the people
Livin’ life in peace.
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one…
И мы вслед за ним повторяем:
Просто представь,
что больше нет границ
и не за что убивать и умирать.
И нет религий.
Представь, все люди живут в мире.
Ты можешь назвать меня мечтателем,
но я не один такой.
Когда-нибудь ты поддержишь нас,
и мир станет един5.
После концерта, в поезде на пути домой, в Ленинград, мы ощущаем себя звездами. В нашем купе толпится народ, девочки поглядывают с интересом, улыбаются, парни хотят дружить. Не знаю, как дальше сложится судьба группы, но такое чувство, что теперь я обязательно найду себя, теперь я не потеряюсь.
Начало
Абитуриент, 1967
Начало занятий в институте перенесли на октябрь, а четвертого сентября, сразу после зачисления, всех первокурсников отправили в совхоз на уборку урожая в Ленинградскую область. Поселили в дальней деревне, в заброшенной деревянной школе, до города вроде близко, но транспорта нет и пешком не дойти. Спали на двухэтажных нарах вповалку, одетыми, без простыней и наволочек. Лежали так плотно, что если кому-то надо было повернуться на другой бок, поворачивались все как по команде. Условия казарменные, зато быстро перезнакомились.
Вечерами сидели у печки, грелись, болтали, пели песни.
Длинный худой парень с детской застенчивой улыбкой на слегка скуластом лице выделялся своим сильным высоким голосом. Тенора, как мне казалось, должны иметь широкую и короткую грудную клетку, а у Саши была фигура голодающего ковбоя, только без лошади. Зато с собой у него была гитара, а рот он мог раскрыть так широко, что туда можно было вертикально поставить спичечный коробок. Все пробовали, но повторить такое никто не сумел. Он тут же оброс толпой новых приятелей. На поле в ожидании ящиков или бортовой машины, на которой нас развозили, мы дружно распевали то, что постоянно крутили по радио: народные песни, военные, украинские, революционные, даже шлягеры из репертуара Эдуарда Хиля и Эдиты Пьехи. Прежде я гордился силой своего голоса, но перепеть Сашу мне не удавалось, зато получалось твердо вести вторую партию, и у нас с ним сразу сложился дуэт. А иногда, когда кто-то из однокурсников был в состоянии заменить меня и петь втору, я подпевал басом, получалось красивое многоголосие.
За месяц вспомнили все, что знали с детства, слова всплывали сами собой:
Снова замерло все до рассвета —
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно – на улице где-то
Одинокая бродит гармонь…6
Эта песня была одной из самых любимых.
– А давайте сколотим ансамбль, – сказал Саша. – Все девчонки будут наши! У меня в школе была группа.
– Закончишь институт – делай что хочешь, – отреагировал отец, когда я уже дома обмолвился насчет ансамбля.
А раньше он говорил: «Поступишь в институт, делай что хочешь».
Поступить в институт, который мне выбрали родители, непросто, но если не поступишь, загребут в армию. Конкурс большой, а Механический институт – престижный и маленький, всего три факультета, вечерний не в счет. С медалью нужно сдавать только один экзамен – физику, но только на пятерку, и тогда можно претендовать на лучшую специальность. А какая лучшая? Факультеты, кафедры – названия одно туманнее другого: «Динамика полета и управление», «Летательные аппараты», «Двигатели летательных аппаратов». Чем отличаются? Мне семнадцать, и я ни сном ни духом, а ведь профессию, как жену, выбирают на всю жизнь.
Можно кинуть игральную кость, как повезет, а можно выбрать по расчету. По институтским правилам, если сдал экзамены на отлично – берут на первый факультет, значит, он самый-самый; сдал чуть похуже – на второй, а остальных – на третий. Так же четко калибруют и по специальностям. Отец обычно советует искать золотую середину: мол, не гонись за самой модной. И я не ведусь на понты, но и не кидаю жребий, а высчитываю средний факультет и среднюю специальность. Буду конструктором летательных аппаратов, хрен с вами!
Медаль – это преимущество, хотя могут быть и проблемы. Я этому не очень верю, но родители говорят, что еврею, или, как они выражаются, «с пятым пунктом», поступить в институт сложно, и для страховки нанимают мне репетитора по физике. Полгода я решаю с ним задачки, а в июле сижу на даче, читаю трехтомного Ландсберга, и не зря: дополнительные вопросы на экзамене – как раз по Ландсбергу, в школе мы этого не проходили.
Перед началом занятий отец проговаривается, что все же ходил к своему директору, а тот к проректору-однокурснику, чтобы меня специально не заваливали. Негласная норма для евреев – два процента, на нашем факультете это не больше шести человек на триста мест. Я злюсь, зачем, физику я и так знаю на отлично.
Большинство одногруппников – мальчики, много детей военных, в основном все после школы. Девочек всего две, да и то из них одна – вылитая комиссарша, а другая метит в космонавтки, – выходит, почти мужской монастырь, а зачем они пришли именно сюда и чему хотят учиться, знают только отдельные личности, как это выяснилось уже на морковных грядках. Один энтузиаст с горящими глазами наезжает на меня: давай, мол, не теряя ни минуты, на пару строить вертолет. Я вяло отнекиваюсь и предлагаю подождать хотя бы до возвращения в город. Все, что я умею к тому времени из дачного опыта, это выпрямлять кривые гвозди, выбитые из старых досок. Летательные аппараты меня пока не волнуют, другое дело литература, математика и даже теория музыки, в конце концов.
Другой парень из потока переживает, что попал не в ту группу: он мечтает стать конструктором космических кораблей, а это значит – двигатели на жидком, а не на твердом топливе! Ух ты! А я, значит, на жидком, вот счастье-то!
Но когда начинаются занятия, я все же решаю учиться всерьез: пора перестать всюду опаздывать, и учебники надо читать, и к следующей лекции готовиться заранее. В первый же день вернувшись домой, обедаю, раскрываю «Начертательную геометрию» и… обнаруживаю, что заснул на третьей странице. С тех пор живу как обычный студент, учебниками больше не заморачиваюсь, только железно хожу на лекции.
Саша, мой голосистый знакомый, учится в соседней группе и после каждой лекции караулит меня со своим проектом ансамбля «как у „Битлз“». Здесь же в институте учится ритм-гитарист их школьной группы, и на большой перемене Саша знакомит меня со своим одноклассником по прозвищу Стец. Тот попал на другой факультет и, чтобы укрепить конструкцию будущей мифической рок-группы, переводится в наш поток. Если Саша говорит об ансамбле в духе романтических мечтаний, то Стец кажется более прагматичным. Он загадочно молчит и открывает рот только, чтобы сказать «ты прав, мужик» или «ты не прав, мужик», но при этом всем своим видом показывает, что ансамбль делать надо.
Я киваю. С шести до шестнадцати лет меня держали в семилетней музыкальной школе, надеясь, что я все же пойду в музучилище, но зря, вундеркинда из меня не получилось. Больше, чем скрипка, мне нравилась теория музыки, потому что там учительница была добрая.
На сольфеджио я подружился с ровесником, у которого были оттопыренные уши и абсолютный слух, Сережей Белимовым. «Сережа, дай ля», – говорила учительница, и Сережа пел ля.
Мои уши, хоть и были слегка оттопырены, но без подсказки ноту ля я долго не слышал. Позже мы с ним писали диктанты, уже соревнуясь в скорости, и в этом виде спорта я ему больше не уступал.
За все эти годы я так и не научился как следует играть на фортепиано, но в наследство от музыкальной школы мне досталась способность «слышать нотами». Из-за этого я не получаю кайфа от процесса, потому что каждую мелодию, которую слышу, каждый аккорд я мысленно «сольфеджирую» и могу разместить на нотном стане со всеми палочками и хвостиками, длительностями и тактами. Для будущего инженера это умение бесполезно. Сережа поступил в музыкальное училище, мы живем в соседних домах, я встречаю его отца, и он говорит:
– Мой-то дурачок с медалью, а поступил в техникум!
– А я завидую Сереже, он знает, чего хочет, – возражаю я, – в институт я поступил, и учиться мне легко, но в инженерной профессии себя не вижу. Так же, как и с музыкой: петь люблю, а музыку – нет.
Но рок – это другое, рок, может быть, не в счет?
Регби, 1967–1969
Нам велели приехать на стадион Ленина на Петроградской стороне, на соревнования. По их результатам будут набирать в спортивные секции – в расписании два года обязательной физкультуры с зачетом в каждом семестре, а без физры к экзаменам не допустят. В школе были прыжки в длину, в высоту, стометровка, а тут надо сдавать еще и плавание в открытом бассейне, к тому же этот открытый бассейн на самом деле – запруда Малой Невы, настоящей волнующейся полноводной реки.
Захлебываясь, я проплыл дистанцию. Погода осенняя, в воде терпимо, а выходить холодно, и дождичек моросит. С непривычки я устал, побрел к выходу и уже подходил к воротам, как меня окликнули:
– Молодой человек!
Я обернулся. Меня догонял щеголеватый мужчина.
– Вы за какое время стометровку пробежали?
Вопрос неприятный, мало ли какое у кого время, чего он спрашивает, но я все же признался:
– Четырнадцать и шесть.
Он выдержал паузу и говорит:
– Приходи в регби, нам всякие нужны.
Несмотря на сомнительность формулировки, я обрадовался: меня еще никуда не приглашали, попаду, значит, хоть в какую-то секцию, а не с дохликами на общефизическую. Я сразу согласился, хотя слово «регби» услышал впервые.
– И друзей приводи, – добавил тренер, – спросишь Варакина.
И я привел в команду Сашу, уговорил его пойти со мной за компанию. Стеца тоже звал, но он уже записался в самбо.
Из спорта за плечами у меня были только избыточный вес и природная гибкость, но вряд ли способность достать локтями пол так уж важна в игре с мячом. Никакой спортивной подготовки у меня не было, однако тренер отнесся к неуклюжему новичку, как и ко всем, уважительно и ровно. Борис Александрович был неизменно вежлив, сдержан и здоровался со мной легким кивком головы. А я ходил на все тренировки и усердно отрабатывал главный прием регби: пас назад овальным мячом на беге вперед с разворотом корпуса в одну сторону и одновременным махом ноги в другую. Мало того, этот овальный мяч надо было закрутить так, чтобы он не кувыркался в полете, а летел, вращаясь строго вокруг длинной оси, иначе его не поймать. Не знаю почему, но меня это очень увлекало, так что через месяц-другой мои успехи в регбийной эквилибристике были замечены, и тренер стал отвечать на мое приветствие словом «здравствуй».
Но стоило только пропустить занятие, пусть даже и по уважительной причине, тренер переставал здороваться, а если много пропустить, то вообще переставал замечать. Такие у него были методы воспитания. Весной, когда начались тренировочные матчи, он стал подавать мне руку и пару раз даже назвал по имени. Как-то мы вместе шли к метро, и тренер обмолвился, что жена у него – кандидат филологических наук. Я подумал, надо же какой интеллигентный человек, еще сильнее его зауважал и решился спросить, почему регби у нас считается новым видом спорта.
– Наверное, он уже давно существует? Неужели раньше о регби ничего не знали?
– Конечно, знали. Первый чемпионат в стране был аж в тридцать шестом. Потом, как водится, начальству что-то не понравилось. Может, наша сборная выступила неудачно, так надо же в соревнованиях постоянно участвовать, чтобы было удачно. А может, идеологию какую-нибудь приписали. Короче, команды расформировали, спортсменов разогнали. Что уж с ними дальше произошло, не знаю. Сейчас, слава богу, времена другие.
– Но игра сложная, футбол намного проще. Поэтому футбол популярнее?
– Популярнее! Потому что законов никто не соблюдает. Я тут несколько лет работаю, дисциплины у студентов никакой, разве можно сравнить с англичанами! Лесгафт говорил: в регби сорок семь законов, научишься в игре соблюдать – всюду научишься. Есть, конечно, ребята увлеченные, вроде тебя. Не представляю, какие из вас инженеры получатся, а я сборную Союза слеплю обязательно.
Я даже загордился, хотя особых успехов за собой не замечал.
Кроме указаний тренера главными методическими материалами для нас были учебник «Регби на высоких скоростях» и комедия «Вперед, Франция!», с переодеваниями и эротикой, с настоящим лордом, английскими полицейскими и галльским петухом. Основное действие фильма крутилось вокруг приключений враждующих фанатов регбийных команд Англии и Франции. Сам матч показывали не больше пятнадцати секунд, и это было единственное доказательство, что регби вообще существует. Мы с Сашей четыре раза ходили на фильм.
Весной начались тренировки на открытом воздухе на задворках стадиона Ленина вокруг озерца с песчаным пляжем. Бегать по песку было тяжело, один круг – и ноги свинцовые, а надо еще изображать па со взмахом ногой и поворотом корпуса, которое мы отрабатывали в зале всю зиму. С тех пор я отлично танцую твист!
По сравнению с футболом, в регби все наоборот: защитники – худые и быстрые, нападающие – мощные и тяжелые, а гол – это когда мяч пролетает в створе ворот выше перекладины. Играют руками и ногами, да еще и силовая борьба разрешена.
И в схватке я – нападающий номер один, я – столб, я – тот герой, что бесстрашно, не жалея ушей своих, бодает противника. А высокий худой Саша – защитник номер десять, ему и остальным номерам, вплоть до пятнадцатого, надо забежать за линию ворот и прижать мяч к земле, чтобы заработать три очка и право забить гол. В общем, если хотите разобраться – смотрите фильм «Вперед, Франция!».
Костяк нашей команды составляли выпускники прошлых лет. Капитан Феля уже работал конструктором на Кировском заводе – небольшого роста, плотный, но быстрый и верткий, то есть Феликс, но не железный. Было еще двое опытных игроков, Бугай и Рычаг. Бугай – мощный в ширину, а Рычаг – мощный в высоту. Остальные – студенты.
Мы подавали надежды. Как-то раз нашим соперником была выдающаяся команда «Спартак» Ленинградского мясокомбината имени Кирова по прозвищу Мясо. Выиграть у них было непросто: ребята сыгранные, крепкие – мышцы как бычьи окорока. А мы дрались как львы! Отличную разыграли комбинацию: из-под одного вывернулись, другого уронили, кого-то грохнули, по рукам дали, пас – и мяч в руках у Саши. Отбиваясь и уворачиваясь от «мясных», он героически бежит к линии ворот, его преследуют, спурт – и он прижимает мяч к земле. Ура! Нам засчитывают законных три очка, и мы побеждаем со счетом 15: 13.
Когда мы попали в основной состав, у нас появились ошеломительные перспективы: чуть ли не рукой подать до мастеров спорта!
Саша, правда, энтузиазма не проявил:
– Послушай, мы зря теряем драгоценное время, девчонки на регби не ходят. Рок-группа намного важнее, – уговаривал он меня, а сам повадился пропускать тренировки.
Я вслед за ним тоже заколебался, ну и если подумать здраво, свою голову и уши можно употребить с большим толком, чем просто бодаться.
В финальной игре сезона решался вопрос, кто станет чемпионом города. В случае победы это были мы, в случае поражения – команда университета. Мы считались фаворитами.
Стец выразил желание быть нашим болельщиком. На стадион Медицинского института на Пискарёвке мы ехали на трамвае до самого кольца. Нам сказали, что надо пройти больницу имени Мечникова насквозь, и на задворках будет стадион. Больница оказалась целым городком из потрепанных временем и погодой двухэтажных корпусов дореволюционной постройки. Во время войны здесь был госпиталь, но по состоянию корпусов и дорожек казалось, что его бомбили совсем недавно, да и сумрак от густой листвы веселья не добавлял. По дорожкам прогуливались выздоравливающие в полосатых пижамах.
Вдруг меня громко окликнули по имени. Это была Татьяна, моя соседка, крупная женщина лет тридцати пяти. Глядя в упор на Стеца, она объявила:
– Меня сюда по скорой привезли с печеночными коликами. Условия ужасные, еще и горячую воду отключили, но врачи хорошие.
Мужественный самбист Стец, и так-то невысокий и щуплый, под ее пристальным взглядом как-то весь сжался, обратил взор в пространство и ничего не ответил.
– Сочувствуем, – промямлил я сбоку.
– Я тут пользуюсь бешеным успехом, – продолжала она, снова обращаясь к Стецу. – Видите, там мужики на скамейке, это сифилитики. Они меня почему-то Матильдой зовут. А вы тут чего?
– Мы на стадион, на игру, – ответил я.
Саша кивнул, Стец совсем вжал голову в плечи и снова промолчал.
– Пойду, пожалуй, с вами, поболею за вас, – решила Татьяна.
Мы пришли на стадион и оставили Стеца с ней на трибуне. Стадион выглядел неухоженным, трава возле ворот вытоптана, на скамейках сидят всего несколько болельщиков, скорее всего не наших, но музыка из громкоговорителей играет:
Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!7
Подошли к команде, начали переодеваться прямо на кромке поля, и тут выяснилось, что трое наших не явились – время-то какое, весенняя сессия! По регламенту число игроков должно быть не меньше двенадцати, а нас как раз двенадцать.
Музыку выключили, можно начинать.
Капитаны тянут жребий, мяч в игре, Феля бьет. Удар, и вся команда бежит вперед. Университетский ловит мяч, но выпускает из рук, набегают наши защитники, Саша подхватывает, отправляет ближайшему игроку, и все бегут вперед, перекидывая мяч веером из рук в руки. Команда университета в растерянности, наш крайний левый вырывается на открытый простор и делает «занос», прижимая мяч к земле за линией ворот противника. Счет 3: 0. Мы получаем право на «попытку». Лучший бомбардир – Феля. Точный удар, мяч пролетает в створе ворот над перекладиной, это еще два очка, и счет становится 5: 0!
Трибуны голосом Татьяны ревут:
– Парни, давай, давай!
Мы воодушевлены, противник обескуражен, нам удается все: в схватках мы успешны, передачи мяча проходят без потерь, я с игры ловлю свечу близко к воротам противника и сбрасываю мяч Рычагу, тот Бугаю, и новый занос. Еще три очка. Уходим на перерыв со счетом 8: 0 в нашу пользу.
Саша выглядит огурчиком: ему, с его весом пера, гораздо легче, чем мне, с моими восьмьюдесятью с хвостиком. За десять минут я едва успеваю отереть пот с лица, немного обсохнуть, отдышаться. Замечаю, что наши болельщики держатся кучно: Татьяна энергично жестикулирует, Стец смотрит на нее словно завороженный. На секунду она прерывается, машет руками в нашу сторону и возвращается к собеседнику.
Начинается второй тайм. Команда университета собирается, и их капитану удается забить нам дроп-гол с игры. Два очка, и счет 8: 2. Но мы в ударе и раскатываем их, как детей. Еще одна наша атака, снова «занос», удачная «попытка», счет 13: 2! И тут против нашего защитника применяется захват, налетают и другие игроки, наш падает и подняться не может. Судья останавливает игру. Защитника уносят на носилках, и нас остается одиннадцать. Игра окончена, нам засчитывают техническое поражение.
Татьяна провожает нас до трамвая, мы снова проходим по территории больницы, сифилитики кричат:
– Матильда, какой счет?
– Продули.
– Матильда, на кого же ты нас променяла!
На остановке продают мороженое, и Татьяна задумчиво говорит в пространство:
– А я-то думала, кавалер меня хотя бы эскимо угостит.
Но трамвай уже подходит, и мы прощаемся. Садимся в вагон в расстроенных чувствах, и Саша задумчиво произносит:
– Значит, не судьба. Не были мастерами, нечего и начинать.
– Ты прав, мужик, – решительно говорит Стец.