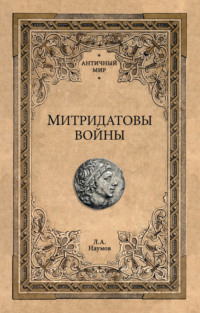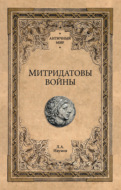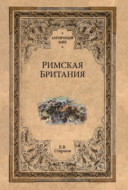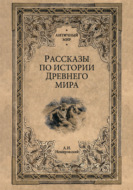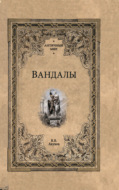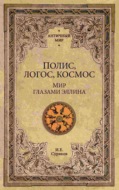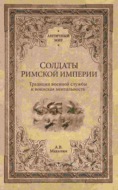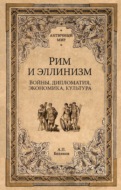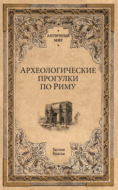Kitabı oxu: «Митридатовы войны»
© Наумов Л.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *

Предисловие
Начать свое исследование я хочу с одного, может быть, на первый взгляд, неожиданного сюжета. В книге одного из первых западных биографов Сталина Исаака Дон Левина есть такой эпизод:
«Однажды весной 1939 года я случайно встретил в Нью-Йорке Бертрана Рассела, который прогуливался по 64-й улице. Английский философ был одним из первых западных ученых-историков, посетивших в 1920 году Советскую Россию, и в своем докладе “Практика и теория большевизма” уже тогда предсказал возможность советских экспансионистских устремлений в Азии и возрождение традиций Чингисхана и Тимура.
Обменявшись взглядами относительно большой чистки и показательных процессов с их фантастическими признаниями обвиняемых и о крайне искаженных представлениях Сталина о современной и хорошо известной истории, я спросил Рассела:
– Известен ли вам в истории человечества другой такой феномен, как Сталин?
– Да, – ответил он, – в данный момент мне на память пришла одна историческая параллель. Этот человек был из числа парфянских прародителей Сталина. Я имею в виду Митридата Великого. Ведь родина Сталина – Грузия – входила в состав Древней Парфии.
…Возвратившись домой я решил посмотреть в энциклопедии о Митридате, бывшем единственным правителем, который на протяжении восемнадцати лет сдерживал натиск Римской империи в Малой Азии. И вот что я записал:
“Историки древности окружали личность Митридата ореолом романтики. Его мужество… его способность есть и пить… его проницательный ум… возносились почти до небес. Получив поверхностное греческое образование, он совмещал в себе одновременно коварство, суеверие и упрямство представителя Востока… Он раздавал награды выдающимся поэтам и лучшим едокам… Он никому не верил. Он убил свою мать, сыновей, сестру, на которой был женат. Пытаясь не допустить захвата врагами своего гарема, он умертвил всех наложниц, а его самые верные сторонники никогда не чувствовали себя в безопасности”».
Конечно, Бертран Рассел говорил о Митридате VI Евпаторе, царе Понта. Правитель государства на севере Малой Азии в конце II – нач. I вв. до н. э. присоединил к своей державе Северное Причерноморье, Западную Грузию и западное побережье Черного моря. Возникла огромная Всепонтийская держава, для которой Черное море стало практически внутренним озером. Митридат провел с Римом три войны, которые на поколение остановили движение легионов на Восток. Все, что сказано («восемнадцать лет войн с Римом», «ореол романтики», «ум и коварство», «убийство близких» и т. п.), относится именно к нему. Да и Колхида входила в состав Понтийского царства, а не Парфии. Почему английский философ считал Митридата «парфянином», сказать трудно. Может быть, это показатель его эрудиции, может быть, что-то напутал Дон Левин, а может быть, – переводчики. Интересно другое – два либеральных интеллигента накануне Великой войны сошлись в том, что Митридат – «прародитель» Сталина. Кажется, что это одно из самых ярких проявлений, с одной стороны, огромного интереса к личности великого царя – в ней ищут начало многих трагедий XX века, а с другой стороны – штампов и стереотипов, которые доминируют в сознании многих античных (да и современных) историков, описывающих этого человека.
Современная историография эпохи Митридата огромна, и в данный момент нет возможности делать ее подробный анализ. Советская историческая наука некоторое время пыталась применить для интерпретации этих событий классовый подход. Общая парадигма исследований, с одной стороны, строилась на описании борьбы народов против агрессивной политики Рима. С другой стороны, деятельность Митридата помещалась в контекст социальных конфликтов, которыми так богаты II–I вв. до н. э.1 Историкам неизбежно приходилось описывать противоречивую ситуацию, при которой «глава рабовладельческого государства» выступает в роли организатора социального протеста. Бывает, что оба тезиса соединяются даже в одном абзаце. Так Е.А. Разин пишет, что «Митридат VI выступал против Рима под лозунгом освобождения угнетенных римлянами народов. Он, как и его союзник Тигран II, вел войны с целью ограбления и порабощения населения переднеазиатских стран, прикрываясь лозунгами освобождения их от римского ига», и тут же вынужден признать, что «Митридат объявил об освобождении греков от римского ига. Освобожденными рабами он усилил свое войско, но освобождение рабов в завоеванных областях напугало рабовладельцев, которые перешли на сторону Рима и в дальнейшей борьбе способствовали победе римлян над армией Митридата»2 (выделено мной. – Л.Н.). Остается только догадываться, почему Митридат не понимал этой опасности. Вместе с тем вывод о том, что социально-экономическая верхушка в странах Восточного Средиземноморья («рабовладельческие классы») склонялись к «сознательной капитуляции перед Римом как наиболее надежной гарантии сохранения рабовладельческой общественной системы», кажется, не стоит забывать.
В 50-е годы ХХ века, после того как в советской исторической науке прошла т. н. дискуссия об эллинизме, утвердилась доминирующая и сейчас концепция понимания эллинизма «как конкретно-исторического феномена, сущность которого состоит в основном во взаимодействии греко-македонских и местных (преимущественно восточных) начал во всех областях общественной жизни государств, возникших на территориях Балканского полуострова, Переднего и Среднего Востока» после походов Александра Македонского3. Теория К.К. Зельина позволила в 70—80-е гг. ХХ века отечественным историкам постепенно уходить от однозначных социологических интерпретаций деятельности Митридата.
Наиболее полно новые подходы были развернуты в докладе замечательного историка и археолога Дмитрия Борисовича Шелова, которого называли отцом отечественного митридатоведения4. С его точки зрения «создание державы Митридата явилось закономерным завершающим этапом подготавливавшегося издавана объединения всех припонтийских земель в рамках одного политико-экономического целого»5. Подчеркивая, что сила царства Митридата основана на поддержке как варварских племен, так и античных городов6, Шелов в первую очередь говорит о «эллинской основе» царства. «Было бы ошибкой полагать, – пишет он, – что именно варварские племена были определяющим элементом для жизнеспособности державы Митридата. Основную цементирующую силу этого государства составляли, очевидно, торговые припонтийские города»7.
Основные постулаты этой концепции на десятилетия определили развитие отечественного митридатоведения и сейчас сохраняют свою актуальность. Споры вызывала и вызывает роль городов Северного Причерноморья в державе Митридата. Кажется, что в работах Шелова заинтересованность их в единстве Понтийского царства несколько преувеличена. Кроме того, ряд исследователей пытались более подробно обозначить роль «варварских начал» в державе Митридата. Так П.О. Карышковский обращал внимание на то, что царь (по крайней мере, на Боспоре) титуловался «царем царей», и высказывал мысль, что со временем социальная база его борьбы с Римом менялась: «Ведь Митридат начинает с того, что он ведет борьбу против варваров. А кто был его последней опорой в борьбе с Римом?.. Это силы именно варварского мира»8.
В этой связи следует учитывать, что в начале XX в. сложилась еще одна исследовательская парадигма. Знаменитый российский историк Михаил Иванович Ростовцев предложил рассматривать события, происходившие в Причерноморье, через призму взаимодействия и конфликта «иранских и эллинских начал». Постепенно все больше советских и российских исследователей прямо или косвенно опирались на парадигму Ростовцева, что совершенно естественно: собранный богатый археологический и нумизматический материал намного продуктивнее интерпретировать, опираясь на дуализм эллинских и варварских культур, чем искать «классовые корни», а концепция К.К. Зельина не противоречила этому. Кажется, что на известном III симпозиуме 1982 года этот подход фактически уже доминировал. И в настоящее время фактически в рамках именно этой концепции работает один из ведущих специалистов по этой эпохе Сергея Юрьевича Сапрыкин. С его точки зрения дуализм «филэллинизма» и «иранства» (часто он называет его «митридатовскими традциями») – основная «интрига» истории Понта: «в ходе войн с Римом рельефно проявились открытое филэллинство и исконное проиранство царя как две главные линии в антиримской борьбе. Вокруг них строилась и его внутренняя политика»9. Причина неудачи Митридата, по мнению исследователя, в том, что «греки поняли, что под маской их друга и союзника скрывался обычный восточный деспот, который стремился установить свое господство в лице сатрапов, тиранов и прочих ставленников из собственного окружения. А после перенесения Митридатом военных действия в Европу и вовсе стало очевидно, что на первый план выдвигаются не привлекательные идеи объединения наследственных земель под властью монарха-филэллина, а заурядное стремление к территориальным захватам»10. Иными словами, в политике Митридата имело место механическим соединение двух линий, которое не могло быть прочным и долговечным. По сути С.Ю. Сапрыкин продолжает развивать мысль Карышковского об изменении социальной базы политики Митридата – правда, он делает акцент на роли не столько варваров Северного Причерноморья, сколько коренного населения Понтийского царства и военных поселенцах (см. ниже).
Правда, в последнем исследовании С.Ю. Сапрыкина наметился некоторый отход от концепции дуализма «эллинства» и «иранства». В работе «Религия и культы Понта» он пытается показать, что, «несмотря на то что понтийские Митридатиды позиционировали себя как наследники персидских царей… как преемники Ахеменидов… в идеологии Понтийского царства прослеживается отчетливая тенденция использовать именно греческие культы для провозглашения величия царей»11. По мнению историка, эта тенденция стала наиболее заметна именно при Митридате Евпаторе. Когда царь, «получивший эпитет “Дионис” и объявленный богом, находился на вершине власти, то почитание греческих богов вообще стало подавляющим»12. Кажется, что это шаг в сторону тезиса Шелова о преобладающем значении филлэллинского принципа в политике Митридата.
Несколько десятилетий продолжаются исследования Евгения Александровича Молева. В работе «Властитель Понта» автору удалось найти удачное сочетание научной глубины и доступности для широкого круга читателей13. Работа Молева построена на анализе событий военной истории – Митридатовых войн. Была ли обречена его борьба с Римом на неуспех изначально, или была возможной альтернатива? – задается вопросом Е.А. Молев и сам же отвечает на него: «Мощь римской республики была неизмеримо выше. А политика Рима на Востоке не оставляла Митридату выбора. Подчинение и превращение во второстепенного правителя, послушного исполнителя, каковыми уже стали его соседи, – вот была его перспектива, с одной стороны, и борьба за подлинную независимость своего государства – с другой. Он избрал последний путь. Но, поступи он иначе, он не был бы тем Митридатом, образ которого оказался столь привлекательным как для минувших, так и для нынешних поколений и который, именно благодаря этому своему выбору, навсегда останется в истории»14.
Новые подходы к истории Митридатовых войн намечены в работах Кирилла Львовича Гуленкова. В его статьях15 намечены ключевые точки, которые позволяют найти в событиях неожиданные, на первый взгляд, аспекты. Собранные вместе, они по сути формируют неожиданную концепцию и личности великого царя, и всей эпохи. Историк акцентирует внимание на том, что «Понтийское царство при Митридате VI Евпаторе по своему политическому устройству отличалось как от соседних с ним эллинистических государств Сирии, Пергама, так и от Парфии и Великой Армении. Социальной основой власти царя было не греческое население (как в других эллинистических государствах) и не могущество местной знати, а синтез этих двух начал»16. Гуленков ставит крайне интересную проблему – размеры и источники богатства Митридата. Хорошо известно, что царь считался обладателем огромного состояния17, но как оно сформировалось? «При перечислении и анализе традиционных источников дохода выяснилось, что ни военная добыча, ни накопления предыдущих понтийских монархов, ни налоги не могли составить экстраординарного состояния Митридата VI Евпатора. Главный особо доходный источник был иным – это были торговые пошлины… В результате успешных военно-дипломатических действий Митридату VI Евпатору удалось создать большую державу, уникальное положение которой позволило ему стать «хозяином» всех транзитных торговых путей из Индии и Китая». По мнению исследователя, «монопольное» право Митридата VI Евпатора на обладание торговыми путями вытекало из его владения землями, по которым они проходили. Все возможные торговые пути, связывающие Восток и Запад, проходили через территорию Понтийского царства. Расширив пределы своей державы, Митридат VI Евпатор тем самым перехватил все торговые пути и стал своеобразным генеральным посредником между Востоком и Западом. Теперь ни один товар, провозимый с Востока на Запад (или наоборот), не мог миновать владений Митридата VI Евпатора.
Однако деньги сами не воюют – на смерть идут люди. История Митридатовых войн, на первый взгляд, кажется хорошо изученной темой, но это не совсем так. Военная история неотделима от детального анализа военно-политической ситуации, от изучения соотношения сил, планов сторон. И здесь мы сталкиваемся с большой трудностью: дело в том, что у античных авторов содержится подробная информация о численности понтийской армии, но цифры, которые они приводят, кажутся завышенными. С их точки зрения Митридат командует огромными полчищами варваров, которые терпят поражения от немногочисленных римских легионов. Правда ли это? На первый взгляд трудно проверить истинность этих сообщений. Даже если мы сомневаемся в них, исходя из логики и здравого смысла, – как узнать правду? Например, историки могут сомневаться, что у понтийского полководца Архелая при Херонее было 120 тыс. человек. Сомневаются, потому что трудно представить, как он разместил свои «полчища», каких размеров был лагерь, на какую длину должна была растянуться колонна на марше, где найти продовольствие, чтобы кормить эту армию, и т. п.? Сомнения могут быть обоснованы, но как узнать реальную численность понтийской армии? Допустим меньше 120 тыс., но сколько именно?
Е.А. Молев указывает, что накануне Первой войны у Митридата было 150 тысяч18. Численность армии Архелая при Херонее он определяет по Мемнону – в «60 000 человек. Из них 10 000 составляли всадники. Кроме того, в армии было 90 боевых колесниц»19. Накануне Третьей войны, пишет он, «общая численность его (Митридата. – Л.Н.) войска составила 140 000 пехотинцев и 16 000 всадников. Кроме того, в состав армии вошли 120 колесниц»20. Традиционных взглядов на численность армии Митридата придерживается и К.Л. Гуленков. Иногда авторы отдают предпочтение даже цифрам Аппиана21.
Кажется все же, что отечественные историки понимают: цифры Аппиана и Плутарха завышены и вызывают сомнения, но других-то все равно нет. Около ста лет назад известный военный историк Ганс Дельбрюк пытался доказать, что ситуация выглядела совершенно иначе. С его точки зрения «возможно, что римляне не только качественно, но и количественно имели перевес»22. Дельбрюк даже убежден, что сражения при Херонее не было: «вероятно, все это сражение – плод фантазии»23.
Аргументы его, на первый взгляд, просты: «Митридат был настолько умен, чтобы не выводить на поле сражения массы, которые требовали питания и не могли ничего дать взамен. Содержать же способных наемников много лет на военном положении слишком дорого – тем более что Митридат имел не только сухопутное войско, но и флот»24. Иными словами, знаменитый военный историк апеллирует к логике военной экономики. С его точки зрения, преувеличена численность и персидской армии Ксеркса, вторгшейся в Элладу, и армии Дария, сражавшейся с Александром Македонским.
Кроме того, он пытается применить к рассказам Аппиана и Плутарха методы литературного анализа и доказать, что «рассказы о войне Мария против кимвров и тевтонов и о войне Суллы против Митридата» похожи, как две капли воды. «Однотипность рассказов основана не на подражании, а на психологии. Чтобы усилить впечатление от славных подвигов, рассказчики затемняют основные исторические моменты и при разных полководцах в разных войнах выдвигают общие типы и картины, решительно похожие одни на другие; иногда только различаешь, что тут идет речь о грубом солдате Марии, там – об изнеженном аристократе Сулле; тут – о грубых сынах Севера, там – об азиатском царе Митридате»25. Что произошло на самом деле, мы не знаем и, по-видимому, не узнаем, считает Дельбрюк: «Как эта победа досталась, мы подробностей не знаем, так как описания ее не имеют большей цены».
Недавно исследователями была сделана еще одна попытка определить численность понтийской армии (правда, только в Первой войне)26. Сталкивая традиционную» точку зрения (Е.А. Молев, Н. Ломоури, С.Ю. Сапрыкин и др.) и «критическую» (Г. Дельбрюк и Й. Кромайер27), Д.С. Одинцов утверждает, что «отрицать действительно большую численность армии [Митриадата] было бы гиперкритикой», и считает, что с учетом гарнизонов в захваченных городах Азии и Эллады общую численность армии Понта в Первой войне следует определить в 70–80 тыс.
Может быть, у нас все-таки есть некоторые возможности для поиска истины. В этой работе я попытаюсь использовать прием, который пока не применялся в военно-исторических исследованиях, – анализировать не то, как античные авторы определяют общую численность армии Митридата, а то, с каким противником римляне вступают в реальное столкновение. Не то, какую цифру назвали перебежчики или какая цифра попала в донесение, направленное в сенат, а кого и сколько увидели перед собой на поле боя. Это позволит реальнее определить военный ресурс понтийского царя. Отталкиваясь от полученной информации, можно попытаться реконструировать военные замыслы Митридата и проверить реальность сообщений античных авторов.
Выше уже приводилась мысль Е.А. Молева о том, что война с Римом – это столкновение Митридата с заведомо превосходящими силами врага. Именно вызов Судьбе и придает образу царя притягательноть. Однако историки постоянно сомневаются в предопределенности поражения понтийского царя. «Ведь сумели же парфяне остановить римскую экспансию, где собственно доказательство того, что поражение Митридата не имело альтернатив?» – задавал вопрос себе и коллегам П.О. Карышковский28. В этой связи закончить вступление хочется очень точным наблюдением Юрия Алексеевича Виноградова: Митридатовы войны наполнены «славными подвигами и кровавой резней, примерами воинской верности и гнусного предательства»29, которое хорошо иллюстрирует замысел настоящего исследования. Самостоятельный прием, который попытаюсь применить, – анализ информации о том, что римские и греческие авторы считали ошибками своими, а что – ошибками Митридата, где, когда и в чем они видели предательство? Попытаемся вслед за историком определить, что «смог и чего не смог сделать» Митридат, что в его неудаче «объективного» и что «субъективного». Представляется, что это может дать нам ответ и на вопрос о границах применения той или иной научной концепции.
Настоящее исследование сопровождается публикацией классических источников по Митридатовым войнам:
Аппиан. Митридатовы войны. Публикуется по изданию: Аппиан. Римские войны. Сирийские дела. Пер. С.П. Кондратьева. Вестник древней истории, 1946, № 4.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Жизнеописание Суллы, Лукулла, Помпея. Публикуется по: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. / Изд. подг. С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. Отв. ред. С.С. Аверинцев. (Серия «Литературные памятники»). Издательство АН СССР. М., Наука. 1994.
Страбон. География. Публикуется по изданию: Страбон. География. Перевод Г.А. Стратановского под общей редакцией проф. С.Л. Утченко. М.: Наука, 1964.
Мемнон. О Гераклее. Публикуется по изданию: Мемнон. О Гераклее. Пер. В.П. Дзагуровой. Вестник древней истории, 1951, № 1.
Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae». Публикуется по изданию: Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae». Пер. А.А. Деконского и М.И. Рижского. Вестник древней истории, 1954, № 2–4; 1955, № 1.
В приложении есть также актуальная редакция статьи «Скажите этой лисице», которая была опубликована в журнале «Альфа и Омега». Статья является прологом ко второй книге серии, посвященной царству Аршакидов.
Хочу высказать огромную благодарность иерею Георгию Павловичу и жене Г.И. Наумовой за помощь в выпуске этой книги.