Kitabı oxu: «Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой»
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Научный консультант: Наталия Дядюнова
Редактор: Юрий Сапрыкин
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Татьяна Соловьёва
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Елена Рудницкая, Лариса Татнинова
Верстка: Андрей Ларионов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Лев Данилкин, 2024
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
⁂

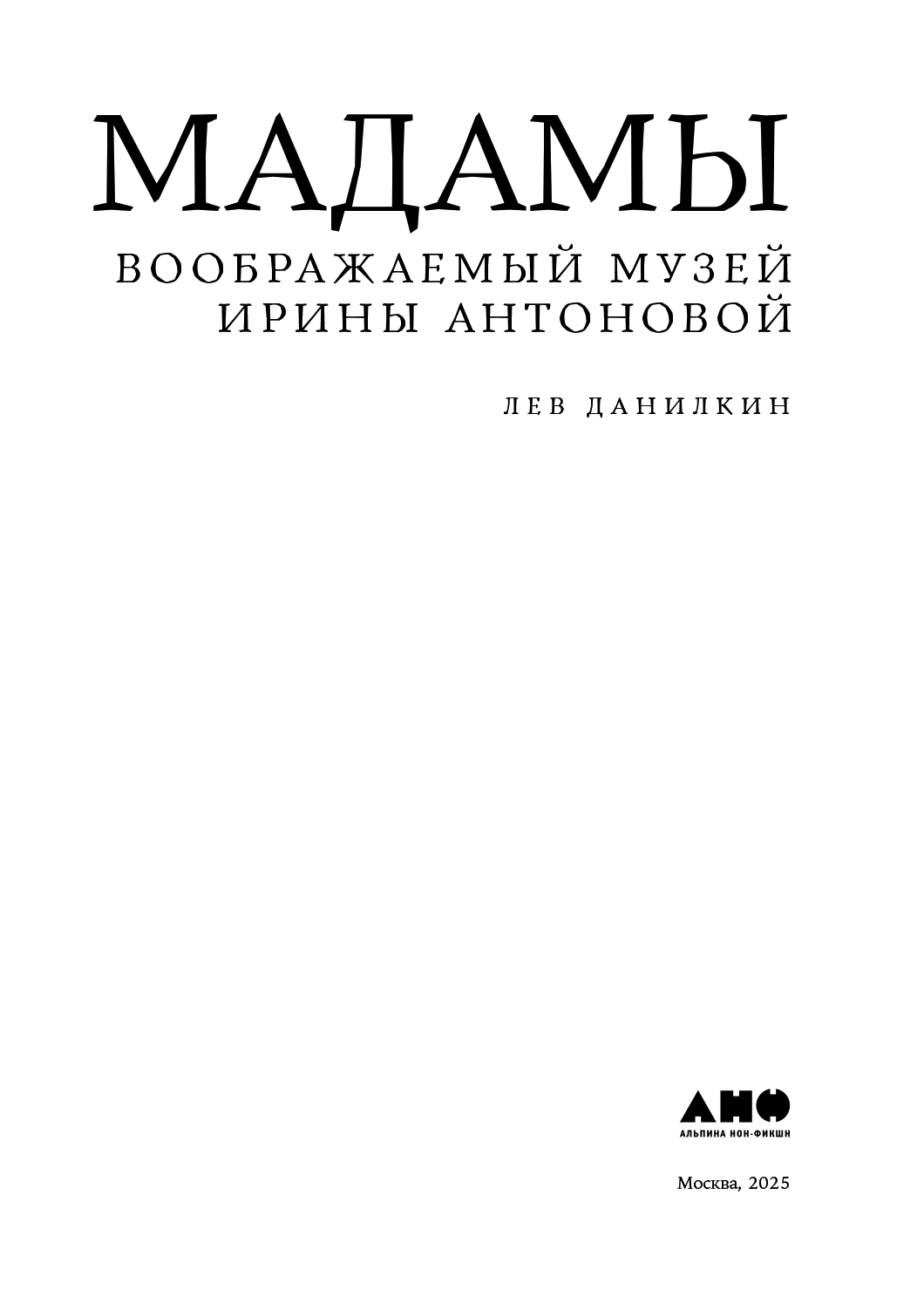

I

Ян Вермеер
Аллегория Живописи. 1666/1668
Холст, масло. 120 × 100 см
Музей истории искусств, Вена
Картина вырисовывается следующая.
Внутри – зритель снаружи, четвертой стены нет – двое. Художник изображен со спины, рассевшимся на табурете; выглядит скорее гофмалером, нежели ремесленником в домашней мастерской; Веласкес в «Менинах» и тот оделся поскромнее. Миниатюрная модель – тронутые улыбкой губы, театрально потупленные, будто ей велели симулировать Благовещение, глаза – укомплектована «неслучайными» аксессуарами и задрапирована в складчатую, многозначительно округляющую талию ткань, из-под которой торчит повседневное, в пол, платье.
Вермеера – за «лучезарный свет» и способность рисовать «как будто жемчужной пылью» – очень ценил Б. Р. Виппер – и ставил выше него из голландцев разве что Рембрандта. Вермеерофильство ему удалось привить и ученикам, и благодаря их усилиям в Пушкинском перебывало столько «Дам» и «Девушек», что, соберись они все вместе в Белом зале, следовало бы закрыть границы, лишь бы оставить там этот сераль навсегда: «Пишущая письмо» – из Вашингтона; «У вирджиналя» – из Лондона; «С лютней» – из Нью-Йорка; «С письмом» и «У сводни» – из Дрездена; «За верджинелом» – из Лейденской коллекции. И все же самым значительным «приобретением» оказалась «Аллегория Живописи» из Вены – натурщицу с трубой и книгой не отпустили даже в Рейксмузеум, на вермееровский «конклав» 2023 года; а вот в Пушкинском она позировала целых два месяца.
Приглашенный сочинить буклет к той «выставке одной картины» искусствовед (и, по совпадению, муж директора ГМИИ) Е. Ротенберг подметил (но не разгадал) аномалию, связанную с фигурой живописца: «Если представить ее не сидящей, а в полный рост, то она неожиданно гигантски вырастает, достигая высоты люстры». В самом деле, далеко не архангеломорфный, художник будто надувается от осознания своей способности «сконструировать» героиню, а она – лучится в предчувствии воплощения; бликующая накидка отражает не то свет из окна, не то как раз ее внутреннее мерцание. Живопись, подразумевается, есть непорочное зачатие, чудо, не требующее ни физического контакта, ни слов, ни сложных пластических поз, ни вообще движения. Актеры останутся замершими, пока длится люминесценция и занавес не закроется, – а в звенящей тишине являет свое присутствие антураж, бутафория, декорация: типично вермееровская «озаренная» комната – черно-белый, со знаменательным орнаментом из крестов, пол, светопроводящее, но скрытое полузабранной полихромной портьерой окно, свободный, в ожидании кого-то третьего, стул; маска на столе; на стене подробная карта Нидерландов.
Пушкинский – в высшей степени итальянизированный музей, однако в историческом плане он напоминает скорее один из участков Северной Европы, где за счет предприимчивости обитателей возник небольшой анклав, добившийся процветания: «голландское чудо».
Пушкинский не родился «с серебряной ложкой во рту» – и карты ему изначально были сданы если не посредственные, то во всяком случае далеко не козырные. Игра шла то так, то сяк, гармоничное клейновское здание время от времени пополнялось разными коллекциями, случались и очень драматические приобретения и утраты, однако в какой-то момент здесь стало происходить нечто особенное: кто-то не просто разыгрывал, сообразно расчету и везению, доставшиеся ему карты – но ставил словно бы именно на заветную комбинацию, «тройку, семерку, туз». «Квантовый скачок» – когда к середине 1980-х Музей, не совершив ни одной громкой покупки, обрел международную репутацию, суверенность и идентичность, которую так же непросто разрушить, как идентичность Польши или Эфиопии, и, оставив позади себя таких гекатонхейров, как Третьяковка, Русский, Исторический, открыто притязал на то, чтобы сдвинуть с первого места Эрмитаж, коллекция и архитектура которого едва ли поддаются качественной и количественной ревизии в принципе, – корректнее всего назвать «волшебством»: кабинет диковинок эксцентричного просветителя превратился в национальную институцию, университетская глиптотека – в иконический объект; гипс – в мрамор, набор пронумерованных единиц хранения – в единое полотно, в красочном слое которого изнутри теплится, разгорается, полыхает свет – до сих пор, хоть золотой век уже позади.
Трудно достоверно сказать, кто именно из обитателей этих «нидерландов» на Волхонке знал «тайну трех карт», однако «магия Пушкинского»1 стала проявляться не сразу – но начиная примерно с последней трети ХХ века, когда владычицей этого зачарованного острова стала Альцина по имени Ирина Александровна Антонова. Ей редко приходилось объяснять, кем именно она является, – и, когда все же требовалось, ограничивалась фамилией, как в известном анекдоте про себя2.
Да и как, собственно, она должна была представиться? Так, на «Аллегории Живописи» мы интуитивно – даже и не понимая, как именно следует расшифровать атрибуты натурщицы, – чувствуем, кто перед нами: само свечение, которое она источает, указывает на ее «должность». «Директор Пушкинского, умудрившийся продержаться на своей позиции более полувека»? Формально верно, но путаница между биографией и Книгой рекордов Гиннесса нежелательна. Распорядительница «Декабрьских вечеров», «инициатор учреждения Международного дня музеев 18 мая», «организатор многих знаменитых выставок»? Так же в молоко, как «талантливый искусствовед», «доверенное лицо Путина» и что там еще написано о ней в «Википедии» и газетных некрологах. «Муза Музея»? ИА без видимого неудовольствия присела на этот колченогий трон, однажды любезно подставленный ей А. А. Вознесенским, – и едва ли оказала серьезное сопротивление, если бы кто-то озаглавил книгу о ней именно так; но это все равно как если бы «Аллегория Живописи» называлась «Олицетворение красоты» – заведомое уплощение вермееровской трехмерной иллюзии.
⁂
Ближе к финалу своего жизненного пути ИА стала задаваться вопросом, насколько полно соответствует ее самоощущению слишком простое определение – не была ли она чем-то большим, чем «директор Пушкинского»? «Антонова», да – но в чем суть феномена «Антонова»? Не оставив откровенных, на манер Альмы Малер, дневников и не написав, к сожалению, настоящие – в духе «Моя жизнь в искусстве» – мемуары или программную автобиографию, где была бы изложена политическая история ГМИИ, она все же приложила значительные усилия, чтобы создать свой собственный «большой нарратив», и охотно публиковала материалы для будущего плутарха, чья задача – описать прогресс и моральное совершенствование одной замечательной личности, которой удалось изменить мир. Рассчитывая, небезосновательно, на добрую долгую память о себе, ИА представляла, надо полагать, будто однажды – скорее рано, чем поздно – некое также очень значительное, соответствующее масштабу ее личности творческое лицо, находящееся в поиске идеальной героини, найдет ее и, воспламенившись, возьмется рисовать ее аллегорический портрет. Он с кистью, палитрой и муштабелем – она в голубой тунике и лавровом венке, с книгой и медной трубой; он Офицер – она Смеющаяся Девушка, он Джентльмен в шляпе, она – застенчиво улыбающаяся Женщина; он Кавалер – она Дама с бокалом; комбинация типовых ролей: она – и некий «он», такой же блистательный, одаренный, рафинированный, особенный, как Рихтер, Шагал, Эренбург, Мальро, а лучше бы как все сразу…
Многие, однако ж, наши чаяния разбиваются о реальность; что-то, а по правде сказать, всё, пошло не так.
ИА принадлежала к закрытой статусной группе профессиональных искусствоведов, где происхождение вашего интеллектуального капитала, источник образования и репутация имеют решающее значение; где привилегия десятилетиями созерцать ауру абсолютных шедевров наделяет вас особенной осанкой, благодаря которой ваше сходство с гротескными аристократами из гринуэевского «Контракта рисовальщика» приближается к полному; где попытка того, у кого выявляется хоть малейшее отклонение от евгенического стандарта, войти в этот мир с черного хода, вызывает такую же четкую реакцию, как у музейных смотрителей, обнаруживших, что экскурсант тянет руку к картине и вот-вот дотронется до полотна. В теории идея обеспечить подобие объективности при рассмотрении столь «противоречивой» фигуры за счет «симплициссимуса» – автора, максимально удаленного от искусствоведческой среды, – не так уж и дурна; но книга про Антонову в исполнении человека, который вчера окончил НЕ ТОТ факультет, сегодня не отличит офорта с акватинтой от сухой иглы, завтра спутает, пожалуй, Тинторетто с Каналетто, а послезавтра, неизбежно, и Венецию с Винницей? Абсолютно постороннего, чьи познания в искусствоведении в лучшем случае аналогичны талантам рок-исполнителя, которые демонстрируют участники чемпионата по игре на воображаемой гитаре?
Кроме того, есть еще одно, видимо, наиболее вопиющее обстоятельство, состоящее в том, что автор этой книги – у которого было несколько десятилетий, чтобы хотя бы шапочно познакомиться со своей будущей героиней, – скандальным образом упустил эту возможность.
Все это абсолютно неприемлемо – и, как часто бывает в жизни, никого не остановило.
Судьбой, не сказать проклятием, биографа – который, так никогда и не увидев ИА вживую, влюбился, что называется, по портрету – было воспринимать свою героиню словно, как сказал бы профессор Б. Р. Виппер, «через морскую воду»: не напрямую, но при посредничестве плотной промежуточной среды. Надежда на то, что среда эта, насыщенная излучением искусства, даст особую светотень и что, несмотря на неизбежность искажающего эффекта, такая оптика позволит сделать из ее портрета нечто большее, нежели точную фотографию, разрушилась при столкновении с сопротивлением третьих лиц, чьи свидетельства могли бы дать автору твердую опору в его намерении заново написать образ ИА – в самом что ни на есть лучезарном свете, исключительно жемчужной пылью. Предупреждения держаться подальше от этих торфяных болот, поступавшие автору от сотрудников Музея – социального организма, напоминающего кроссовер «Имени розы» и «Театрального романа», – звучали очень недвусмысленно: (мхатовским шепотом) «Заклинаю вас, осторожнее! (россиниевским крещендо) Фигура ТАКАЯ!..» Такая – страшная, что может уничтожить даже с того света: одно неточное, недостаточно почтительное слово о ней – и весь мир тебя проклянет и забудет о твоем существовании. Такая, к которой применим только один переходный глагол – «боготворить»; «каждый ее осколочек, каждую пылинку», как сказано у Куприна. Бо́льшую часть проинтервьюированных автором – чей статус движущегося по странной траектории «одиночного посетителя» вызывал подозрения уже на самой ранней стадии общения – мемуаристов объединяет, как выяснилось, не столько любовь к искусству, сколько наличие в их организме специальной пружины, способной мгновенно захлопнуть створки раковины уже при приближении кончика носа того, кто при исполнении арии «Какой чарующий портрет!» позволял себе хотя бы одну ноту с интонацией, отличающейся от официального канона.
Впавший в меланхолию от осознания, что этой черепахе никогда не догнать Ахиллеса, автор много раз мечтал о том, чтобы ИА явилась ему хотя бы во сне или галлюцинации – как, пожалуй, Богородица св. Бернарду (который, как известно, сочинял ее жизнеописание и однажды настолько «изнемог», что его героиня возникла перед ним и «поддержала»); тщетно, несмотря на то что у ИА были все основания заметить признаки насущной необходимости такого рода визита. Однако ж, не сочтя нужным вмешаться напрямую, именно она, со своей одержимостью Мальро и его «воображаемым музеем», навела в конечном счете автора на мысль, что лучший способ точно воспроизвести историю – идеи, социального явления, стиля или чьей-либо жизни – представить ее «метонимически», через несколько неслучайных вещей, выстроенных в определенную структурную последовательность. Эта биография ИА есть не что иное, как посвященный ей «воображаемый музей» из 38 арт-объектов, осенивших своим, хотя бы временным, присутствием Пушкинский.
Контактные – хранящие в себе воспоминания о прямом соприкосновении с ИА – реликвии отобраны автором таким образом, чтобы указать при их посредстве на различные аспекты биографии героини и черты ее характера; некоторая гротескность – или даже карикатурность – портрета, «написанного», на манер арчимбольдовских, другими картинами и скульптурами, иногда курьезными и несущими в себе заряд экспрессии, – неизбежна; и все же есть шанс, что, прогуливаясь в том или ином направлении по этой несуществующей галерее произведений искусства3, читатель сможет не только получить представление о том, как на протяжении почти ста лет взаимодействовали друг с другом физическое тело ИА, ее государство, ее базовая институция, ее общество и ее искусство, но и, фигурально выражаясь, сунуть свой нос внутрь картины или даже, проникнув туда целиком, усесться, пожалуй, на лишний – как знать, не его ли как раз и поджидающий, – стул, углядеть, что происходит за не попавшим в кадр окном, подслушать, о чем молчат эти двое, и уразуметь, что за театр здесь творится – и что за актриса в нем играет.
II

Сандро Боттичелли
Клевета. 1495/1497
Дерево, темпера. 62 × 91 см
Галерея Уффици, Флоренция
Боттичеллиевскую «Клевету» – одну из «базовых» картин Уффици; чтобы убедить хозяев выдать ее хотя бы ненадолго, вы должны сочинить нечто экстраординарное – показали в Пушкинском в 2005-м на «России – Италии. От Джотто до Малевича», в компании с рафаэлевской «Донной Велатой», «Головой женщины» да Винчи, «Старухой» Джорджоне и еще сотней шедевров категории «никому-кроме-Антоновой».
На картине девять существ, большинство очень боттичеллиевских: фигуры и лица ни с чьими не перепутаешь. Странная или даже сумбурная – в огороде бузина, а в Киеве дядька – композиция: три клубка персонажей. Ладно скроенная – родная сестра Венеры с «соседней» уффициевской картины – Истина зачем-то оттеснена на фланг картины. Косишься на нее, но заглавная – и центровая – Клевета: миловидная дева в бело-синих одеяниях, с факелом – в огне которого теоретически должна сгореть Истина. Другой рукой она хватает за волосы мужчину, изображающего жертву; при этом ее собственная голова привлекает внимание Вероломства и Обмана, которые намерены то ли помочь ей с укладкой прически, то ли как следует оттаскать ее.
На Истину с недоумением или завистью смотрит Старуха в черном – а справа от группы вокруг Клеветы разворачивается сцена с Царем в компании с Невежеством и Подозрением; судя по ослиным ушам, у власти здесь явно не тот, кто может объяснить, что здесь творится.
Серия сцен производит впечатление если не хаоса, то чрезмерно сложной системы балансов, взаимозачетов, сдержек и противовесов – здесь динамично взаимодействуют друг с другом злодеи и жертвы, господа и слуги, лжи и правды, добродетели и пороки. Несмотря на то что картина выглядит пророческой аллегорической карикатурой на главную героиню этой книги и некоторых ее антагонистов, сходство двух историй про обман, вину, власть, глупость, гнев, зависть, невежество, подозрение, ярость, вероломство, покаяние, коварство и обиду наверняка мнимое. Смысл «Клеветы» крайне неочевиден; в сущности, это картина-загадка, на манер джорджоневской «Грозы» или беллиниевской «Озерной Мадонны». Возможно, он состоит в том, что очевидный магнетизм абсолютной истины – иллюзия и предполагаемая клевета на ее месте – ничуть не менее привлекательна.
4 апреля 1991 года в американском The Art Newspaper4 была опубликована статья Spoils of war: The Soviet Union's hidden art treasures.
В ней утверждалось, будто бы многие из шедевров, считавшихся утраченными в ходе Второй мировой войны, на самом деле стали военными трофеями СССР и на протяжении десятилетий прятались в спецхранах. В 1945-м в Москву прибыли вещи из разных собраний – причем далеко не только государственных вроде «Дрездена», берлинского Altes Museum или Бременского кунстхалле; выяснилось, что советские войска систематически вывозили и частные коллекции – при этом, что особенно пикантно, не только гитлеровскую и сименсовскую, но и вещи евреев, пострадавшей стороны, ранее реквизированные нацистами или приобретенные ими при сомнительных обстоятельствах и под давлением или просто хранившиеся в банках стран Восточной Европы; факт, вызывающий нечто большее, чем удивление. Список имен в разделе «живопись» выглядел ошарашивающим: Веласкес, Эль Греко, Моне, Сезанн, Курбе, Делакруа, Дега, Мане, Ренуар и т. д. Затем устами своих чиновников СССР тридцать лет лгал, что все перемещенные культурные ценности возвращены восточногерманскому государству и что особенно неукоснительно в стране соблюдаются законы, запрещающие вывозить в качестве военных трофеев собственность частных лиц, тем более ставших жертвами нацистского режима.
Несмотря на уверения авторов статьи, что в их распоряжении находится полный пакет документов, подтверждающий присутствие упомянутых ценностей в конкретных учреждениях, адреса спецхранов не назывались; однако даже и так складывалось впечатление, что СССР представляет собой подобие колоссальной пещеры Али-Бабы, набитой пропавшими шедеврами.
Текст, подписанный именами «Константин Акинша и Григорий Козлов», стал одним из самых резонансных за всю историю издания – и эталоном жанра: его обсуждали и перепечатывали во всем мире, он получил премии за расследовательскую журналистику; позже на его основе была создана целая книга. Словом, он именно что произвел «эффект разорвавшейся бомбы».
ГМИИ же – никогда не обращающий внимание на клевету и наветы – оказался, похоже, и единственным местом в мире, где осколки этой бомбы были напрочь проигнорированы. Меж тем директора, несомненно, могло бы заинтересовать в этом сочинении многое – и не только финал с упоминанием дворика перед Пушкинским музеем, где летом 1945-го разгружались ящики и, в частности, Пергамский алтарь, который, выяснилось, слишком громоздок, чтобы пролезть в скромные двери ГМИИ (описанная авторами сцена выглядела иллюстрацией более общего тезиса: есть же вот музеи, которые по свойственной им жадности слишком много на себя берут, чтобы в итоге попасть в глупое положение), – но и в особенности то, что текст подписан именем сотрудника ее музея. Вот это было нечто немыслимое: в ее, ИА, коллективе свил гнездо резидент, который устроил мировой скандал, при этом с намеком, что это только анонс и настоящие разоблачения еще последуют.
Теоретически пушкинского «сноудена» уже через десять минут после появления номера американского издания на столе ИА должны были вынести из кабинета директора с обширным инфарктом – и не на Белый пол, где обычно глотали валидол рутинные преступники, а далеко-далеко за пределы Музея, туда, где он должен был умереть в муках от осознания собственной ничтожности.
Странным образом ничего подобного не случилось ни через десять минут, ни через десять часов, ни через десять дней. «Сноуден» остался работать в «ЦРУ». ИА продолжала общаться с ним на совещаниях – как ни в чем не бывало.
Григорий Козлов – историк (с зоркими и цепкими глазами журналиста-расследователя) и искусствовед-популяризатор (с мертвой хваткой: у читателя ноль шансов выскользнуть). Он лауреат премии «Просветитель» и автор как минимум двух выдающихся книг – бестселлера «Покушение на искусство» и, с Константином Акиншей, Beautiful Loot: Soviet Plunder of Europe's Art Treasures, сенсационной работы о судьбе захваченных СССР в ходе Второй мировой художественных ценностях. Его конек – исследования истории циркуляции произведений искусства в обществе и разного рода смежных социальных практик, от мошенничеств и грабежей до аукционов и арт-стратегий диктаторов, одержимых коллекционированием. Козлов очень дотошный знаток послевоенной истории Пушкинского – особенно «альтернативной», ускользавшей от официальных хроник. Об ИА – стань Г. Козлов сам ее биографом, без этой книги, пожалуй, можно было бы обойтись – он говорит с некоторой иронией в голосе, однако она фигура, к которой он относится с почтением: высококлассный бюрократ, умный шахматист, дипломат, политик – но при этом малость, что называется, «с левой резьбой». Речь о ее странном желании быть директором не просто Пушкинского, а Эрмитажа-у-Кремля, «что, конечно, невозможно просто по житейским соображениям»; в силу этого, по мнению Козлова, она часто действовала исходя из «своих собственных целей, и цели эти, как мне кажется, не всегда совпадали с реальными целями музея. Ко всему этому, однако, всегда примешивался идеализм – потому что Антонова, безусловно, была человеком идейным, многие этого не понимали и считают ее абсолютным циником»5.
В конце 1980-х Г. Козлов был сотрудником готовившегося на тот момент к открытию Музея личных коллекций. Нанимая его на работу, ИА не подозревала о его «скрипке Энгра», как она сама бы выразилась, – втором призвании, однако с самого начала, по его словам, у них «были не совсем такие рабочие отношения, как у других сотрудников»6: они познакомились за несколько лет до ГМИИ – потому что он работал в Минкульте, инспектором в отделе музеев и Пушкинский входил в число тех музеев союзного подчинения (Эрмитаж, Третьяковка, Музей Востока), которые он курировал. Это была, по его словам, невеликая должность, однако он, несомненно, представлял организацию вышестоящую, перед которой ИА обязана была отчитываться. «Например – ежегодно готовился план работы, чем тот или иной музей будет заниматься. И прежде чем этот план утверждала коллегия Министерства культуры, его должен был кто-то просмотреть, собрать подписи. Вот во всем, что касается Пушкинского, таким человеком был я. Я собирал все эти бумажки – мы сидели, сопоставляли – что надо, что не надо, и потом все это подписывалось. Я ничего не решал – но я был человеком, который постоянно мелькал перед глазами Антоновой»7.
Г. Козлов, таким образом, был не просто человек с университетским искусствоведческим образованием, но и ответственный чиновник с бюрократическим опытом; неудивительно, что в тот момент, когда он захочет покинуть свою должность ради чего-то более «творческого», ИА – опрометчиво – сама предложит ему работу; причем, в силу того что он «видел Антонову в совершенно другой обстановке», их рабочие отношения не подразумевали тотального подчинения; это объясняет ее реакцию на выход «пашквиля».
Еще даже до Минкульта – на тот момент молодой сотрудник ВХПО им. Вучетича, готовя порученную ему внутриведомственную выставку к 40-летию Победы, Г. Козлов обратил внимание на странные воспоминания ветеранов, художников и музейщиков, которые как об абсолютно естественном факте рассказывали о том, что после войны в СССР попали не только Дрезденская галерея и Пергамский алтарь, но и сокровищница драгоценностей саксонских курфюрстов Грюнес Гевёльбе, и некие коллекции графики, и ценности из многих немецких городов. Поняв, что набрел на своего рода Клондайк, Козлов попытался найти документальные подтверждения слухам о вывозе арт-объектов, дальнейшая судьба которых неизвестна. Те самые ветераны либо сами участвовали в отправке, либо знали людей, имевших к этому непосредственное отношение.
Уже в Минкульте он обнаружил, что слухи ходят и там. А уже внедрившись в Пушкинский, как-то раз зашел – и это один из наиболее оспариваемых оппонентами Г. Козлова моментов в его показаниях – в Министерство культуры, чтобы по старой памяти отксерить документы для ученого секретаря (в Пушкинском своего ксерокса не было). Зашел и обнаружил, что там был субботник – и сотрудники выбрасывали старые бумаги, ненужные копии. Заинтересовавшись, он с разрешения рабочего, который все это сваливал в кучу макулатуры, принялся их проглядывать – и, вот те раз, наткнулся на разрозненные копии документов, вывозы, приемки и т. д. С этого момента в голове Г. Козлова стала вырисовываться общая картина – поэтому, приступая к сканированию РГАЛИ, он уже точно знал, что помимо общеизвестной есть еще и не фиксирующаяся стандартными радарами часть деятельности музея; именно ее следы и следовало искать. Пазл, что называется, сложился окончательно, когда исследователь рассказал о своих догадках приятелю – однокурснику по МГУ, киевскому искусствоведу К. Акинше, который самостоятельно обнаружил примерно то же самое – в Киеве; а еще тот с 1990 года работал внештатным корреспондентом The Art Newspaper.
Непостижимо, почему ИА выбрала именно эту стратегию: сделать вид, будто она незнакома с публикацией The Art Newspaper, игнорировать участие в ней своего сотрудника и отвечать «нет» на все вопросы журналистов, дежуривших у входа в музей, касательно «награбленного», – но ровно так она и поступила и придерживалась этой перспективной линии на протяжении нескольких месяцев. Это работало вплоть до 4 апреля 1991-го, потому что все «разоблачения», просачивавшиеся в печать ранее, относились скорее к категории публицистики – неприятных вопросов, от которых можно было отделаться пожиманием плеч: мало ли чего секретного и неучтенного есть в СССР; есть, конечно, – почему не быть. 4 апреля 1991 года были предложены ответы, и в какой-то момент об апрельской сенсационной статье Акинши и Козлова раструбили «Известия». Вот тут песок, в котором ИА спрятала свою светлую голову, раскалился – и в кабинете Г. Козлова раздался звонок: вызов к директору.
Чувствовал ли Г. Козлов, что рано или поздно ему придется не только подвергнуться допросу в КГБ в связи с подозрением на разглашение гостайны, но и оказаться один на один именно с ИА, которая наверняка обвинит его в вероломстве и «предательстве»? Понимал ли он, что протест против незаконных действий СССР приведет его к охоте именно на своего директора – просто потому, что из всех на тот момент живущих она была лучшим претендентом на то, чтобы оказаться воплощением этой проблемы? Пожалуй, нет; и наверное, когда публикации только появились, даже и сама ИА не предполагала, что ее фотография во дворе Пушкинского, среди ящиков с немецкими надписями, станет «иконической». Штука в том, что никто другой на тот момент просто не мог привлечь к себе нежелательное внимание: в Киеве и других республиках все и так начинало шататься: сенсации там были покрупнее музейных; в Эрмитаже как раз только что умер Б. Б. Пиотровский, и никакой крупной фигуры, с которой можно связать в общественном сознании «укрывательство краденого», там не было. Оставалась Антонова – которая легко могла сойти за идеального монстра.
Объясняя причины своего поступка, Г. Козлов настаивает: «У нас была иллюзия, что есть люди старшего поколения, которых мы уважаем, и они могут что-то такое сделать, чего мы сами не в состоянии… Это сейчас звучит как тотальный идиотизм, но в то время [1991 год] казалось единственно возможным решением: мы считали, что после публикации статьи мы на себя возьмем ответственность перед партийно-государственными органами, а настоящие толковые люди – к которым мы причисляли и Антонову тогда – воспользуются этой ситуацией и, используя свое влияние, от этого утаивания шедевров избавятся. Откроют их миру. А нас – возможно – возьмут в сотрудники для того, чтобы мы просто рассказали им то, что мы уже собрали. Вот я шел на встречу с Антоновой – с надеждой, что она мне скажет: "Молодец! Всю жизнь мы не могли сказать, а вы сказали. Слава тебе господи, и давай работать над тем, чтобы эту историю разрулить"»8.
Уже в 1995-м авторам Beautiful Loot было ясно, что Антонова – не просто ноунейм-чиновник, представляющий вляпавшуюся в нехорошую историю институцию, но фигура, любопытная сама по себе; и поэтому Козлов охотно рассказывал интервьюерам (включая автора этой книги) об обстоятельствах этой «кошмарной» встречи, да и в их собственной книге есть целая сцена с Антоновой. Всего таких встреч у него было две, обе без участия третьих лиц, и мы знаем о них только со слов Г. Козлова – который публиковал их содержание; ИА ни разу не выразила свой протест.
Итак, «она выгнала всех из своего офиса и, усевшись за свой массивный дубовый стол XIX века, немедленно приступила к обвинениям. Любопытный штрих: за ее спиной висел трофейный гобелен XVII века «Времена года»9. «Это невозможно: вы сотрудник советского музея. Как можно сотрудничать с зарубежными СМИ? Как вы посмели написать о трофейных произведениях искусства, когда вы не имеете никакого отношения к ним, – да еще в иностранном журнале?» – спросила она. «Вы знаете о государственной важности этой проблемы и о вашей ответственности – не распространять информацию об этом»10.
Так она знала уже, что именно им известно?
«Когда Антонова начала со мной разговаривать, она читала пока только выжимки» – и, видимо, полагала, что ей придется вразумлять сотрудника, который, как и много кто в последнее время, слышал звон про «сокровища Третьего рейха», да не знает, где он. «И вот когда я начал говорить об именах, о справках, – у нее было такое лицо, как будто я проник в ее тайные мысли. Она была очень сильно потрясена, это было видно», потому что перед ней сидел человек, ее собственный сотрудник, который, среди прочего, не просто знал, что в Пушкинском находится золото Шлимана, но и указывал также и на конкретный документ, доказывающий, что принимала «Шлимана» в 1945-м именно сама И. А. Антонова11, – и, получается, очевидным образом годами – десятилетиями! – публично лгала, отрицая факт его существования.
