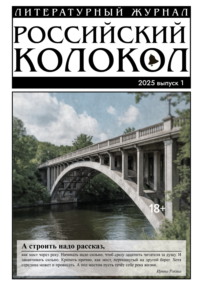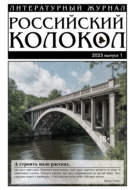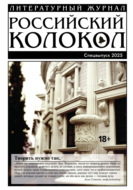Kitabı oxu: «Российский колокол № 1 (50) 2025»

© Российский колокол, 2025
Редакция не рецензирует присланные работы и не вступает в переписку с авторами.
При перепечатке ссылка на журнал «Российский колокол» № 1 (50) 2025 г. обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Слово редактора
Дорогие читатели журнала «Российский колокол»!

Этим выпуском журнала «Российский колокол» мы открываем новый, 2025 год.
Как всегда, в новогоднюю ночь мы загадываем, что ждёт нас впереди. Убеждаем грядущее не скупиться – подарить нам всё, о чём мечтаем. Бегут месяцы, и ворчим мы и хмуримся: что-то не торопятся наши желания исполняться. А провожая год за праздничным столом, с грустью вспоминаем самое лучшее и доброе, что свершилось. И опять мечтаем и загадываем. Год, в который мы вступили, сулит нам много важных событий. Это год юбилея нашей Победы. И мы готовы к новым победам, вспоминая давнее и недавнее, всё, о чём скорбим и чём гордимся.
Этот выпуск журнала мы открываем рубрикой «Время героев», посвящённой юбилейной дате. В этой рубрике начинается публикация романа профессора МГИМО, поэта, прозаика, Дмитрия Необходимова «Город-герой». Роман, повествующий о легендарном Сталинграде и его защитниках, обращён к нам, прошедшим через советский «застой» и бурные 90-е годы, уставшим от бесконечной переоценки ценностей и вернувшимся к истокам нашей духовности.
Повесть «Ребята с нашего двора» лауреата российских и международных литературных конкурсов Ольги Семёновой о детях Донбасса 2014 года, которым досталось трудное и героическое детство. И читатель 2025 года прочтёт между строк о судьбах тех, кто вырос под грохот обстрелов и сейчас защищает свою родину.
В поэтическую рубрику журнала вошли фрагменты из книги замечательного крымского поэта, прозаика, публициста, лауреата литературных премий Валерия Митрохина «Юго-Восток». Порадуют изысканной метафоричностью, неожиданным видением мира, глубиной мысли стихотворения Марии Керцевой, Светланы Крюковой, Алексея Казанского.
В рубрике «Проза» мы завершаем публикацию романа Анастасии Писаревой «Игроки». Автор намеренно оставляет финал открытым. Она признаётся, что сделала это сознательно, ради сотворчества с читателем.
В рубрике «Метафора» по сложившейся традиции публикуются произведения, где события развиваются на грани реальности, где возможно всё невозможное и этим открываются новые истины. Здесь читатель найдёт рассказы Ольги Небелицкой «Органный комплекс» и Павла Алексеева «Я – опухоль».
Рубрика «Сатира» всегда интересна читателям злободневностью тематики и возможностью увидеть обыденность с иного ракурса. В этом выпуске журнала мы публикуем фрагмент из романа Светланы Чвертко «Райтер-хаус» о том, к чему приводит бесконечная писательская борьба за тиражи.
В новой рубрике журнала «Золотой фонд» мы планируем публикации произведений авторов, чьи имена давно стали достоянием нашей отечественной культуры. Ирина Ракша – писатель, кинодраматург и публицист поколения 60-х годов, кавалер государственных наград, лауреат многих литературных премий.
Вниманию читателей предлагаются фрагменты из последней книги, которая скоро выйдет в издательстве Интернационального Союза писателей «Верю, надеюсь, люблю».
И наконец, в рубрике «Литературоведение» мы представляем статью петербургского филолога, культуролога и философа Александра Крейцера с интригующим названием «Ложь Невского проспекта», посвящённую творчеству Гоголя.
Итак, в путь! Авторы первого выпуска журнала «Российский колокол» 2025 года ждут встречи с читателем.
Ольга Грибанова,
шеф-редактор журнала «Российский колокол», филолог, прозаик, поэт, публицист
Время героев

Дмитрий Необходимов
Город-герой
Рвались сердца, тела сливались с камнем, кипела сталь…
Разил бойцов, стоявших насмерть, железный град…
«За Волгой нет земли!» – неслось с Кургана – в вечность, вдаль…
Так устоял, не дрогнул и навек остался – Сталинград
Часть первая
1
…Смерть летела в лицо.
Иван вдруг отчётливо осознал её неотвратимость.
Время словно остановилось. Вернее, оно неимоверно замедлилось – для него одного. В это мгновение ему показалось, что он смог заглянуть за край времени, так бесконечно долго оно длилось. Заглянуть и успеть увидеть, что будет дальше, после той яркой вспышки и оглушительного разрыва перед ним. После того, как эти летящие с бешеной скоростью осколки врежутся в него, войдут в тело, размозжат и расплющат его. И он перестанет жить и чувствовать.
Иван увидел, как продолжится наша атака – уже без него. Как город, отвоёванный и спасённый высокой ценой, будет освобождён и возродится. А на земле воцарится мир. Возможно, он не будет прочным и долговечным, но всё-таки это будет мир, а не война.
И каждый день, как это было всегда, продолжит восходить, рождаясь, а потом закатываться за горизонт, точно умирая, большое, красивое, огненное солнце. Так и земная жизнь будет идти по кругу, подобно родившейся весной траве, что цветёт летом, стареет осенью и умирает зимой. Чтобы новой весной снова воскреснуть. И так – по извечному кругу жизни и смерти этого мира.
Только его, Ивана, в этом мире не будет.
Всю свою жизнь он, оказывается, шёл по этому кругу – к своей смерти. И пока он шёл, он радовался и печалился, приходил в отчаяние и надеялся. Он сражался и ненавидел. Он любил. Неужели именно сейчас всё кончится?
А почему бы всему и не кончиться? Разве как-то иначе это происходит? В этом мире, которому не было и нет никакого дела до твоей жизни. И до твоей смерти. В мире, который идёт своим чередом, а ты – своим. И лишь ненадолго тебе с ним было по пути.
Неожиданно громыхнул второй разрыв, позади него. Иван почувствовал, что его подхватывает ударной волной, подкидывает над землёй и с невероятной силой швыряет вперёд, туда – навстречу неумолимо летящей на него смерти.
И перед ним стремительно пронеслась одним длинным, но сжатым в единый миг воспоминанием, вся его непостижимая и необъятная, но такая короткая жизнь. Он успел ощутить, как она промчалась сквозь него, словно огненный вихрь, с размаху ударив в лицо потоком горячего воздуха.
2
Потоки горячего воздуха, разносимые ветром, дующим сразу со всех сторон, медленно струились вдоль улиц, приподнимая завитушки жёлтого песка на площадях и улицах. Несла, плавно огибая город, свои воды верная и давняя его спутница, величественная в своём спокойствии, – река. В жаркий июльский месяц 1942 года Сталинград жил своей обычной жизнью.
Однако город чувствовал нарастающую тревогу, она стягивалась к его окраинам, ткалась из незримых потоков, которые, подобно порывам ветра, раскалёнными струйками проносились сквозь него. Тревога эта сгущалась над ним, ощущалась в воздухе, пропитывала всё вокруг.
Город смутно помнил то время, когда он начал осознавать себя. Воспринимать себя живым. Живущим. Почти так, как, наверное, ощущают себя все его многочисленные обитатели, в особенности самые главные – люди. Ему никак не удавалось до конца понять этих созданий. Они всегда вызывали в нём огромный интерес, но он осознавал, что многие люди совсем не чувствовали его. Не понимали и не догадывались, что город, в котором они живут, тоже – живой.
Городу нравилось наблюдать за людьми. Они были очень похожи друг на друга, но у каждого из них был свой особенный свет. Это свечение, как и у любого живого и разумного организма, растения или существа, переливалось разными цветами, усиливая: от белого к ярко-красному, до темно-серого и опять – к белому. Наблюдая за людьми, город научился распознавать, какому настроению и состоянию соответствовал цвет, а также видеть причины и последствия изменений этих состояний.
Свет всегда сопровождал любого живущего человека. С самого момента появления жизни и раньше, ещё в материнской утробе, когда там зарождалась и начинала расти новая жизнь, необыкновенно маленькое, пока не сформировавшееся тельце человека соединялось с этим приходящим откуда-то сверху светом. И не расставалось с ним до самой смерти, после чего свет опять слабым, едва различимым бликом устремлялся вверх. А тело оставалось на земле и растворялось во времени.
Но город также видел, что не все сгустки света сразу устремлялись ввысь. Иногда они скользили вдоль поверхности земли, сливаясь с другими бликами. Многие из них летали, не отдаляясь слишком далеко от своего остывшего тела, как будто какая-то незримая связь прочно удерживала их. Часто это было связано с принятой у людей традицией погребения тел усопших в землю. И некоторые огоньки устремлялись вверх только после того, как тело было похоронено. Но многие, несмотря на захоронение, всё равно продолжали долго блуждать по городу, то исчезая, покидая его, то возвращаясь в город. Иные просто растворялись, как к полудню рассеивается утренний туман.
Неумолимо текло время по Земле. Ничто, никакая сила, помимо воли самого времени, не могла нарушить его ход. Невозможно было замедлить, ускорить или остановить его движение, если только время само так не хотело. Время проносилось и сквозь город. И видя, как сменяют друг друга поколения людей, наблюдая бесконечное движение их света по кругу, город не переставал удивляться тому, что все они были разными и каждый человек светился своим, принадлежащим только ему светом.
Однако некоторые из них помимо света излучали ещё и особое тепло. Оно было чем-то неуловимо похоже на тепло всех женщин, носящих внутри себя ребёнка и сиявших во время беременности гораздо ярче других людей. Ведь к их свечению добавлялся ещё и свет не родившегося пока ребёнка. Но у них это тепло со временем уходило, а у этих, особенных людей, теплота появлялась с самого начала и вела себя как и свет: то затухала, то усиливалась, в зависимости от текущего состояния человека. Город дал таким людям своё название – светлячки. Он подслушал это название у людей, и оно ему очень понравилось. Мысленно окрестив их так, он почувствовал, что тепло исходит из самого этого названия. Он знал, что в этом мире от имени зависит очень многое.
Городу особенно нравились эти люди-светлячки, он старался постоянно держать их в поле своего зрения. Он ждал возвращения одного из таких людей. Человек был далеко, но двигался в сторону дома. Город чувствовал это и ждал.
Он сам согревался от тепла таких людей, и это было очень приятное ощущение. Он и себя осознавал огромным живым существом-светлячком, от которого тоже исходят удивительные тепло и свет. А люди, живущие в нём, представлялись ему неотъемлемой частью его самого. Ему представлялось, что он, как беременная женщина, носит все эти находящиеся внутри него создания, как своих детей.
В такие моменты большой и сильный, очень многое повидавший на своём веку, суровый, спокойный, невозмутимый и беспристрастный город отчётливо, беспокойно и пронзительно осознавал необычайную хрупкость и незащищённость человеческой жизни в этом мире.
А тем временем в жаркий июльский воздух города подмешивалось не менее обжигающее дыхание людской войны. Высоко-высоко в небе летали чужие и враждебные самолёты-разведчики. Далеко на западе глухо звучали пушечные разрывы. На улицах города, в подъездах домов появлялись ящики с песком и бочки с водой для тушения пожаров после возможных бомбёжек. Во внутренних дворах предприятий и многоквартирных домов выкапывались изломанные узкие траншеи-щели для укрытия от авианалётов. Когда на улицы города спускалась вечерне-ночная темнота, электричество уже не включалось. Окна в домах закрывались, завешивались, затемнялись. Светились только прожекторы, механически ощупывающие ночное небо.
Вокруг и внутри города было беспокойно и тревожно. Он видел сплошное тёмно-серое свечение, надвигающееся на него издалека, с запада, а также беспокойные всполохи красных огней внутри себя и вокруг. Наблюдая всё это общее движение людских потоков из Сталинграда и в Сталинград, город чувствовал, как время само начинает изменять свой ход, незримо и почти неощутимо огибая город, и как неумолимо подступает в этом жарком июльском месяце к границам города грядущее.
Шёл уже второй год этой тяжёлой войны. Отлаженная, безукоризненно чётко работающая военная машина врага, прокатившаяся победным маршем по многим странам, не встретив практически нигде серьёзного отпора, увязла и забуксовала. И сейчас Сталинград ощущал себя центром притяжения для всей изломанной, разделяющей страну полосы фронта. Городу казалось, что решающая схватка с врагом будет здесь. Именно в этом месте и будет решаться судьба всей войны. Возможно, что здесь в итоге и решится, погибнет ли страна, раздавленная под фашистской пятой, или будет жить.
3
«…Жить. Жить! Только жить!» – стучало в голове старшего лейтенанта. Это была не столько мысль, сколько всеобъемлющее ощущение единственно оставшейся для него возможности, зародившееся где-то внизу живота, поднявшееся до груди и теперь побуждающее его бежать вперёд. Вперёд! Прочь от смерти!
Это чувство билось в нём, гудело кровью в висках, заставляло петлять в этом грохоте, не разбирая пути, уворачиваясь, как ему казалось, от постоянных разрывов то сзади, то спереди, то сбоку, от свистящих вокруг него пуль, чей горячий и тугой воздушный след обжигал ему руки и лицо. Ему казалось, что от следующей пули, от ещё одного взрыва ему уже не увернуться. Ведь нельзя, невозможно избежать того, что предназначено именно тебе. Но очередной снаряд, летящий прямо в него, как казалось ему по нарастающему гулу, каким-то чудом разрывался в стороне. И это заставляло его бежать ещё быстрее, снова и снова пригибаться и отчаянно петлять.
Не так он представлял себе свой первый бой с немцами.
На изнуряющем марше в эти душные майские дни и ночи сорок второго года, когда с каждым километром, приближающим его роту к линии фронта и передовой, приближалось и к нему то неизбежное и неведомое, чего он внутренне и пока ещё не вполне осознанно так страшился.
Старшему лейтенанту представлялось, когда они шли маршем, что местом его первого боя будет огромное, бескрайнее поле. Как в легендах про былинных богатырей, что сходятся с неприятелем в «чистом поле». С одной стороны ровной линией враг, с другой – наши ряды.
Но здесь чёрт знает что творилось с самого начала боя, который длился уже несколько часов. Ни в одном учебнике такого не было, ни на одном занятии с младшим комсоставом такие ситуации не рассматривались. Не было никакого поля, сплошная пересечённая местность, через которую непонятной изломанной линией проходил фронт, смешивая в одно целое и наши, и немецкие позиции. Весь участок наискось перерезался глубокими оврагами, которые сходились в огромную балку, и такими перепадами высот, что, отклонившись и пройдя вдоль оврагов в сторону, можно было оказаться в расположении врага.
В этом хаосе и беспорядке они сначала получили приказ удерживать позиции, а не наступать. Но не могли они удерживать позиции, когда на отдалении от них, вокруг, как слышалось по шуму и разрывам, кипели бои, а на них никто не нападал. И это непонятное ему ожидание и отсутствие неприятеля в такой момент выматывало ещё больше, натягивая канатом и без того натянутые нервы. Когда шум боя справа и слева от них начал затихать, уходя, как показалось старшему лейтенанту, далеко вперёд, к ним пришла команда атаковать противника.
И вот он бежал с поля боя.
Хотя в самом начале он в числе первых выбежал из окопа с криком «В атаку!». Первым роту в атаку поднял не он, а политрук. Теперь-то старшему лейтенанту было ясно, что политрук был по-настоящему смелым человеком. Не то что он сам.
Старший лейтенант так и не успел сблизиться со своим политруком. С самого начала встало между ними какое-то непонятое и невысказанное недоверие. За глаза он называл его особистом, хотя понимал, что никаким «особистом» тот не был. Он знал, что политрук ещё до войны получил военный опыт: побывал сначала на Халхин-Голе, потом сразу – на «зимней войне» в Финляндии. Почему после всего этого он стал политруком в их роте, а не, например, комбатом, было непонятно. Старший лейтенант опасался его. Он считал, что тот придирается к любой мелочи, ищет любой повод найти в нём изъян в том, как он командует подчинёнными. Но главное, он подозревал, что политрук чувствует его постоянно нарастающую тревогу и страх.
И когда поступила команда атаковать, в голове у старшего лейтенанта закрутилась навязчивая мысль: «Меня сегодня непременно убьют».
Тело одеревенело, ноги стали чужими и приросли к земле. Наверное, он сильно побледнел, потому что политрук посмотрел на него и, бросив: «Давай вперёд. Ничего не бойся», первым выскочил из окопа.
«Неужели он увидел, что я испугался?» – подумал он.
Старший лейтенант побежал из окопа тоже – от страха, что останется здесь один.
А теперь он бежал назад. Бежал и успевал удивляться тому, как непрестанно работает его мысль, с какой стремительной скоростью и удивительной отчётливостью в голове прокручиваются воспоминания о различных отрезках из его жизни: от секунды назад до нескольких лет. Мысли разбегались и смешивались, наскакивая одна на другую. Но отчётливее всего, заглушая всё и довлея над всеми мыслями, большими чёрными буквами на огромном белом плакате в его сознании пропечаталось: «Тебе нельзя умирать. Не сегодня. Не сейчас. Никогда! Надо сберечь себя. Надо любой ценой остаться жить».
Вихрем пронеслось в памяти детство. Он вспомнил, как пошёл в первый класс. Как сильно тогда он испугался бегущих с громким ором по школьному коридору его одноклассников-мальчишек. Он встал рядом с нарядными, в белых бантах, тихо стоящими девочками и только так успокоился. В классе он был самым лучшим учеником. Гордость родителей, гордость класса. Школу он окончил с отличием. Он всегда всё делал старательно, по правилам.
Потом было военное училище. Он лучший курсант. Он видел, как командиры одобрительно смотрели на него и невольно любовались его чёткими движениями, отменной выправкой во время смотра строевой подготовки. Потом, во время войны, была школа лейтенантов, успешно им оконченная. Он самый молодой лейтенант. Потом – старший лейтенант.
Многие вещи давались ему легко, он и сам всегда был лёгок и непринуждён. Многим он был обязан и своей внешности. Он знал, что он «хорош собой» и красив. Высокий, стройный, правильные черты красивого лица, прямой нос, высокий лоб, обаятельная улыбка, открывающая ровные ряды белых зубов. Он всегда нравился девушкам, женщинам.
Женился на красавице, словно из сказки. У них с ней двое чудесных детей. А как они прощались с ним перед его отправкой на фронт…
– Папа, я тебя буду очень шдать, – смешно прошепелявил ему младший, надувая бархатные щёчки.
– Береги себя, папочка, – проворковала дочурка, прижавшись к нему.
– Главное, вернись, – прошептала, целуя его, жена.
Как он может позволить себе не вернуться к ним?
Перед глазами у него вдруг встала другая картина, увиденная им, когда, простившись с семьёй, он ехал на вокзал: девушки – хрупкие, худенькие – несут по улице огромный аэростат. Их должно было быть двенадцать. Если хотя бы одной не хватало, их общего веса недоставало, чтобы удержать на земле громадную конструкцию аэростата. Старший лейтенант с интересом, как всегда он это делал, рассматривал тоненькие, стройные фигурки девушек. Внезапно подул сильный ветер, он дул всё сильнее, а они так и не выпускали из рук канатов, бежали, влекомые надувной громадиной, но продолжали держаться. И аэростат уже волочит их по земле, обдирая о тротуар незащищённые локти и коленки, того и гляди унесёт их неведомо куда, но девушки вцепились в канаты мёртвой хваткой, казалось, что их руки невозможно разжать.
«Почему они так упорно продолжают держаться? Странные…» – подумал он тогда.
А сейчас в голове старшего лейтенанта отчаянно крутилось: «Да пропади ты пропадом, война. Я здесь и не нужен никому».
Он бежал, словно его тащил какой-то невидимый аэростат, как тех девушек, и ему представлялось, что он совсем крошечный и бежит по чистому белому листу бумаги, но этот лист неведомые, враждебные ему силы подожгли с двух сторон. И огонь быстро приближается к нему, и надо успеть проскочить туда, вперёд, где пламя его не достанет. Он нёсся по дну одного из многочисленных бывших здесь кривых оврагов. Бежал, подстёгиваемый огнём, совершенно не зная, куда этот овраг его выведет.
Когда все поднялись в атаку, и он тоже, он начал постепенно замедлять бег. Не пробежали и двадцати шагов, как спереди и справа по ним открыли огонь. Засвистели пули – и начали, вскрикивая, падать ребята рядом. Иные, упав, продолжали кричать, иные падали молча и уже не двигались.
Впереди, высоко подняв руку с пистолетом, маячил политрук. Он бежал первым. Бежал прямо навстречу пулям и увлекал за собой остальных.
На бегу старший лейтенант споткнулся и, перекувыркнувшись, упал, оставшись лежать.
– Командира ранило! – закричали рядом с ним.
Один из бойцов, он не смог вспомнить его фамилию, подбежал к нему и, нагнувшись, тронул за плечо.
– Товарищ старший лейтенант, что с вами?
Повернувшись, старший лейтенант посмотрел на бойца и хрипло сказал:
– Ничего. Споткнулся я.
Боец изменился было в лице, но, подобравшись, спросил:
– А почему вы не встаёте? Вставайте, вам вперёд надо…
Ему показалось, что это было сказано с укором. Рассердившись и на бойца, и на себя, он, сморщив лицо, выдавил из себя:
– Ногу зашиб. Сейчас встану. Ты беги, беги вперёд.
«Зачем я соврал ему про ногу?» – успел подумать старший лейтенант, как вдруг боец неестественно широко и удивлённо распахнул глаза. Взгляд его застыл, и он бросился на старшего лейтенанта. Они столкнулись лбами. Боец цеплял одной рукой его за гимнастёрку, другой странно размахивал, как будто пытаясь что-то смахнуть со своей спины. На лицо, на шею, под гимнастёрку старшему лейтенанту потекло что-то горячее и липкое. Он закричал и только потом понял, что у бойца пошла ртом кровь.
Смертельно раненный дёргался и хрипел на старшем лейтенанте, а тот, оцепенев, не сбрасывал его с себя. Смотрел в подёргивающиеся мутной поволокой глаза и видел, как медленно и бесповоротно, с каждым толчком крови, из бойца утекает жизнь.
Откуда-то спереди и справа захлопало, в воздухе протяжно завыли мины, которые враг обрушил на их наступающую роту. Несколько осколков глухо, по касательной ударили в мёртвое тело бойца, которое как щит закрывало старшего лейтенанта. Эти глухие удары вывели его из оцепенения. Сбросив с себя тело бойца, он вскочил и увидел, что многие тоже залегли, прячась от мин, а теперь вскакивают и снова бегут в атаку. Далеко впереди, там, где всё ещё маячила крепкая фигура политрука, была какая-то стычка. Тёмные фигуры накатывались и рассыпались, разбиваясь, словно волны о берег, о передний край нашей атаки.
Старший лейтенант бежал за удаляющимися от него бойцами, всё замедляясь, прихрамывая, хотя не чувствовал никакой боли, весь перепачканный чужой кровью. В воздухе снова протяжно завыло и засвистело. Вражеские миномётчики скорректировали огонь. Мины летели и рвались теперь далеко впереди него, там, где был политрук.
Сквозь дым он увидел, как политрук начал взбираться на высокий край оврага. Остальные бойцы устремились за ним. До вершины оставалось каких-то три шага, как вдруг прямо перед политруком несколько раз рвануло, вздымая вверх комья земли вместе с травой и остатками низкого кустарника. Старший лейтенант увидел, как отбросило вниз политрука и бежавших за ним и как странно отлетела в сторону рука политрука, сжимавшая пистолет.
С того места, где он был, хорошо просматривался весь склон этого оврага. Старший лейтенант остановился, заворожённо, словно в тумане, глядя, как политрук поднялся на ноги и, пошатываясь, пошёл куда-то в сторону, как вместо правой руки у него висели, болтаясь, какие-то рваные полоски, как, наклонившись, политрук поднял с земли свою оторванную руку и зубами вырвал из мёртвой своей ладони пистолет. Отбросив руку, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, взяв пистолет в левую руку, он что-то кричал и снова пытался подняться вверх по склону оврага, поднимая оставшихся бойцов в бой. Вокруг него полыхнуло, и он рухнул, растворившись в этих новых взрывах вокруг него, посечённый тяжёлыми осколками.
Очнувшись от навалившейся на него оторопи, старший лейтенант побежал, пока ещё вперёд, хотя уже и не прямо, а вдоль оврага, огибая его низом, по дуге, осторожно глядя туда, где в низине бесформенной массой, смешанной с землёй плотью лежало то, что осталось от их политрука.
Овраг кончился. Впереди открывалась, уходя в серый, смешанный с пылью и порохом туман, широкая балка. Старший лейтенант, спустившись в балку, пробежал так ещё какое-то время, пока не осознал, что бежит совершенно один. Вдруг он резко остановился и замер.
Впереди, всего в каких-то тридцати шагах от него, серой ревущей громадиной стоял заведённый немецкий танк. Ещё один, чуть в стороне, был подбит и горел, извергая густой чёрный дым. Поодаль в тумане угадывались очертания ещё нескольких, быстро удаляющихся, танков. Ближайший танк был повернут к нему правым бортом. Под башней, в обрамлении стальных рядов клёпок, старший лейтенант отчётливо видел чёрный, с белой окантовкой крест.
Но ужаснее всего были красные, как он сразу догадался – от крови, гусеницы танка. В этих гусеницах он разглядел перемешанные с землёй и тканью бурые ошмётки плоти. В одном месте белела, вся ободранная, застрявшая в гусенице человеческая кость. К горлу подступила вязкая дурнота, и согнувшегося пополам старшего лейтенанта обильно стошнило.
От башни танка в сторону одного из склонов балки пунктиром пульсировали две трассирующие линии. Это непрерывно били пулемёты, прижимая огнём, вдавливая в землю горстку залёгших в низине, за небольшим холмиком, бойцов из его роты. Вернее, то, что ещё от неё оставалось.
Со своего места старшему лейтенанту ясно было видно отчаянное положение бойцов. Среди них были тяжелораненые. Они редко отстреливались.
Бойцы его заметили, кто-то замахал стволом ППШ, ему что-то кричали. Послышалось «лейтенант» и «граната».
Его чёткий ум, как всегда, работал быстро. Старший лейтенант сразу точно оценил обстановку. Немецкие танки уходили с этой позиции. Возможно, тут было их боевое охранение, а теперь они передислоцируются. С задержавшегося здесь последнего немецкого танка, обстреливающего укрывшихся бойцов, его не видно. Правильным было бы воспользоваться этим и попытаться уничтожить танк гранатой. Он потянулся было к висящей у него на поясе гранате, но где-то глубоко в нём, заглушая и отодвигая голос разума и совести, заскреблось сомнение: «А вдруг не получится, не разорвётся граната или отскочит от танка и бесполезно рванёт рядом, как это, рассказывали, не раз бывало? Надо ли рисковать и высовываться?»
В его голове пронеслось: «Зачем они кричат и машут мне? Они же меня обнаружат и погубят».
Мелькнула предательская мысль: «Почему танк не стреляет по ним из пушки, а только пулемётами?»
Ему опять показалось, что он слышит, как со стороны бойцов до него доносится пронзительное и настойчивое «товарищ старший лейтенант…». Он стал осторожно пятиться, как вдруг танк взревел и двинулся с места. На миг ему показалось, что башня танка разворачивается в его сторону.
Этот миг решил всё в дальнейшей его судьбе.
Старший лейтенант резко развернулся и бросился бежать. Сняв с ремня всё это время мешавшую ему противотанковую гранату, он просто отбросил её в сторону. В сторону полетел и ставший теперь отчётливо ненужным во время бегства автомат ППШ с почти полным диском патронов.
До его ушей ещё слабо доносился отчаянный крик «товарищ старший лейтенант…», но он уже бежал. Бежал от зловещего немецкого танка, бежал от этого крика звавших его на помощь товарищей.
Сзади что-то оглушительно разорвалось. Спотыкаясь, падая, вставая на бегу, старший лейтенант, не оборачиваясь, почувствовал и не глядя – увидел, что выстрелом в упор фашистский танк разметал весь этот холмик, всё это ненадёжное укрытие и последнее пристанище его бойцов, весь остаток его роты. Но он не оборачивался, он бежал петляя, а ему навстречу, в лицо, бил поток горячего воздуха.
Страх хлестал его по глазам, по спине, по подгибающимся в коленках ногам. Он и представить себе раньше не мог, как много в нём страха. А ещё его терзало острое чувство обиды на свою судьбу, которая так несправедливо и подло забросила его сюда.
4
«Как же это подло и несправедливо, что я попал сюда именно сейчас, – думал младший сержант Иван Волгин, лёжа на своей узкой, сбитой из обрезков деревянной койке заволжского госпиталя. – Быть раненым в первый день боёв на улицах своего родного и любимого города! Вот же не повезло!»
Тесно заставленная рядами таких же коек палата представляла из себя, по сути, землянку, вырытую на глубине почти четырёх метров. Как ему рассказал сосед по койке, раненный в обе ноги говорливый мужичок Василий Маркин, землянки под подземный госпиталь рыл весь персонал, от санитарок и медсестёр до начальника госпиталя. Копали и днём и ночью, сооружали сначала землянки для своего жилья, а затем палаты, перевязочные, операционные и большую землянку-сортировочную. Проводили вентиляцию и обустраивали септики. Из брёвен и досок делали перегородки. Электричество на первое время обеспечивалось тремя тракторными двигателями.
На всём Заволжье, на берегах Ахтубы, по приказанию начальника санитарной службы армии было построено более сотни таких зарытых в землю госпиталей. Учитывая интенсивные бомбёжки и скудную местную растительность, прятать объекты военной инфраструктуры под землю было чуть ли не единственным выходом. Вот и размещали, зарывая под землю, штабы, блиндажи, склады и медсанчасти.
В отличие от своего соседа Маркина, Иван уже не был лежачим больным. Он мог передвигаться. Это в первые дни в госпитале ему было тяжело. Своё состояние он считал нормальным. Поэтому переживал, что его пока не выписывают и он вынужден терять время, когда другие воюют.
Он лежал на больничной койке, а в памяти его само собой возникало и медленно проплывало перед глазами всё, что было с ним до этого.
Иван родился и вырос в Сталинграде. Он не помнил и не осознавал прежнее, бывшее до 1925 года, название своего города. Гордился звучным и сильным именем – Сталинград, мысленно связывая его почему-то не с именем Сталина, а с чем-то другим – сильным, стальным. Было для него в этом имени что-то крепкое, грозное, несгибаемое и упрямое. Но вместе с тем родной город всегда был для Ивана добрым, тёплым и живым.
Семья Волгиных: отец Сергей Михайлович, мать Александра Ивановна и младшая сестрёнка Варенька – жила практически в самом центре города, на улице Советской, в доме номер 13. Это число Иван считал для себя счастливым, как и номер своей квартиры – 55. У него с детства сложилось так, что всегда, когда надо было что-то решить, важное или не очень, либо были сомнения, он мысленно считал до пятидесяти пяти и только потом действовал. Это могло касаться всего: незначительных мелочей и вещей вполне серьёзных.