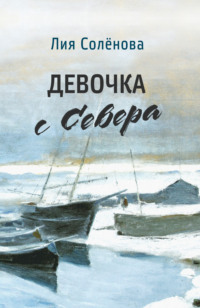Kitabı oxu: «Девочка с Севера», səhifə 2
За казармой было подсобное хозяйство, которое снабжало маленьких детей свежим молоком. Его отпускали по карточкам, выдаваемым детскими врачами. Это был именной листочек с тридцатью одним маленьким прямоугольником, на каждом из которых стояло 0,5 литра. Из окна бабушкиной комнаты не только казарма, но и весь скотный двор с огромной спрессованной за годы кучей навоза были как на ладони. Свежий навоз вывозили на тачке на вершину кучи, она росла и росла ввысь и вширь, всё ближе подступая к казарме.
Примечательностью скотного двора был бык необыкновенных размеров, настоящий зубр. Он был такой огромный, что во избежание того, чтобы он не задавил корову во время покрытия, во дворе был построен специальный станок, в который заводили быка, и он ставил передние ноги на подставки. Бык был свиреп, стоял в яслях, привязанный за кольцо в носу. Подпускал к себе только одного скотника, с которым у него были прямо-таки тёплые отношения, тот иногда и ночевал рядом, в сене. Бык не терпел пьяных, а скотник однажды пришёл к нему пьяным, к тому же напившись одеколону, за что и поплатился жизнью. Бык боднул его и, как потом выяснилось, пропорол ему мочевой пузырь. Молодой врач, осмотрев пострадавшего, сказал: «К утру проспится, будет как огурец!» А к утру тот умер. Дело замяли. Мать врача занимала какой-то пост в горкоме.
Я помню время, когда в городе спиртное продавалось свободно. Водка продавалась полулитрами, чекушками и даже шкаликами (100 грамм). Но потом был введён сухой закон, поэтому накануне праздников или каких-то торжественных событий кого-нибудь отряжали в Мурманск за спиртным. Ушлые люди регулярно совершали такие поездки. Потом продавали водку по завышенной цене в Полярном. Сейчас их назвали бы челноками, а тогда звали спекулянтами. Жаждущим спиртного их адреса были хорошо известны. Время от времени на них устраивала облавы милиция, были показательные суды, их сажали за решётку, но зло не переводилось. Особо страждущие пили одеколон. Самым лучшим для этой цели считался «Тройной», но его быстро раскупали. Однажды у бабушки печник ремонтировал печь. Закончив работу, от денег он отказался, попросил выпить. У бабушки не оказалось ничего, кроме одеколона «Сирень» сиреневого цвета. Вылив его в стакан, который подала ему бабушка, он тут же его осушил, закусил и ушёл удовлетворённый.
– А он не умрёт? – спросила я бабушку, боясь, что она его отравила.
– Не умрёт, – ответила та, выбрасывая стакан в мусорное ведро.
Я как-то забежала в аптеку купить витаминов и гематоген. Витамины сосали без разбору вместо конфет, а гематоген мы, дети, потребляли вместо шоколада. Он был гораздо дешевле шоколада. В аптеке толпились солдаты, спрашивали, какой есть одеколон. Остался только «Золотая осень». Пошушукавшись, они его и закупили. Фармацевт, поняв, для чего они его покупают, стала их увещевать: «Ослепните, калеками станете!» Перспектива слепоты их не остановила: купив, ушли, а та ещё долго изливала своё возмущение мне.
Скотного двора и бараков давно нет. Стоят многоквартирные блочные или панельные дома.

Карта побережья

Церковь Святителя Николая в Старом Полярном до революции. Впоследствии в ней помещалось управление тыла флота. К тому времени купола и колокольню снесли. Оба входа тоже упростили, они стали безо всяких архитектурных излишеств – крыши над входом и поддерживающих её резных колонн

Вид на школу. Справа от неё новый кинотеатр. Правее его одноэтажное здание – ресторан «Ягодка». В одноэтажном здании на переднем плане размещались ателье по пошиву одежды и сапожная мастерская. 1960-е годы

Дом Красной Армии и Флота (ДКАФ). Начало 1950-х годов

Советская улица в Старом Полярном. 1960-е годы

Стадион. Вид со стороны госпиталя. 1940-е годы

Стадион. На заднем плане – госпиталь, слева от него – ДКАФ. Круглые окна в нижнем этаже – бассейн. 1950-е годы

Вид от школы на деревянный мост, прямо – ДОФ, справа – госпиталь. 1960-е годы

Слева от ДКАФа виден торец дома с колонами, в котором одно время жила семья Черанёвых – маминой средней сестры – Людмилы. Фотография, скорее всего, военной поры, т. к. на лозунге написано приветствие маршалу Сталину, а после войны он был уже генералиссимусом

Памятник Сталину перед фасадом Циркульного дома. Сталин смотрит на Екатерининскую гавань. 1950 год

Причал. Подплав. 1970-е годы

Новый Полярный. Наши дни. Старые двухэтажные дома снесены, на их месте построены панельные
Мои родители
Мой отец, Геннадий Павлович Рожков, был родом из Белоруссии, местечка Высочаны Витебской области, из крестьянской семьи. Отец был последним, шестнадцатым ребёнком, рождённым в 1916 году. Его родители, отец Павел и мать Наталья, умерли до моего появления на свет. Дед Павел имел крутой нрав, а бабушка, наоборот, была мягким и добрым человеком. Половина детей умерла в младенчестве, одного взрослого сына убили во время коллективизации. Говорили, закололи вилами в яме. Да… Коллективизация… Судя даже по нашей семье, это была ещё одна гражданская война. Старший сын Арсений жил в Свердловске, дочь Анна – в Караганде. Трёх братьев отца – Степана, Ивана и Николая – я знала: после войны мы к ним ездили в гости в Белоруссию.

Крайний слева – отец, Геннадий Павлович Рожков. На побывке в Белоруссии до войны. Рядом – один из его братьев
Я не могу простить себе того, как мало знаю о семье отца, его родителях. Почему я никогда не расспрашивала его?! Когда я в детстве клянчила у родителей какую-нибудь вещь, отец неизменно приводил в пример себя. Говорил, что в мои годы у него была одна нарядная вещь – красная сатиновая рубашка с короткими рукавами, на длинные не хватило материала. И в школу он бежал без сапог, которые нёс на плече и надевал, подходя к школе. А мне, мол, всё мало того, что у меня есть. По моему тогдашнему и теперешнему мнению, было-то совсем немного, меньше, чем у некоторых других девочек. Я плохо представляла себе, как я в Полярном без туфель бегала бы в школу. Видимо, красная рубашка, которой отец размахивал перед моим мысленным взором, меня так достала, что расспрашивать о чём-то ещё более тягостном, чем единственная рубашка и сапоги на плече, мне уже не хотелось.

Брат отца – Рожков Николай Павлович. 1963 год
В 1936 году отец был призван на Северный флот. Служил на эсминце «Урицкий», который был приписан к Полярному. Там он и познакомился с моей матерью. Мама окончила семь классов, потом поступила в горный техникум в Кировске. После первой же практики в шахте техникум бросила и больше уже нигде не училась. К моменту знакомства с папой ей было девятнадцать лет. На фотографии того времени она хорошенькая, среднего роста, тоненькая, с тёмными, слегка вьющимися волосами и карими глазами.
Она замечательно пела красивым сильным голосом. А уж как лихо дробила каблуками!.. Многих могла переплясать.
Характер её нельзя было назвать покладистым, уж скорее наоборот. Отметина о юности, прошедшей в Полярном, осталась на всю жизнь: на тыльной стороне левой кисти между большим и указательным пальцами у неё была татуировка – синий якорь.

Мама в возрасте 18 лет

Отец – вахтенный на корабле. Фото времён войны
Папа был среднего роста, блондин с вьющимися волосами и серо-голубыми глазами. У нас в комнате на стене по обычаю того времени висели портреты родителей в молодости, примерно одном и том же возрасте. Приходящие гости всегда задерживали взгляд на портрете отца – до чего он был хорош! Я его таким красавцем не увидела – после войны к тридцати годам он выглядел по-другому. Все песни папа пел на мотив любимой «Степь да степь кругом…». Танцевать и плясать не умел, но, похоже, умел неплохо говорить, или скорее – уговаривать. Словом, был златоуст. Был добрым, но очень ревнивым. При этом, похоже, сам был небезгрешен.
Они поженились в начале 1941 года. Летом того же года заканчивался срок его службы на флоте, уже были поданы документы на демобилизацию, но началась война… Служба продолжалась уже в боевых условиях. Он служил на эсминцах «Урицкий» и «Сокрушительный», которые сопровождали морские конвои союзников. Отцу повезло – остался жив, а мог погибнуть. Спас случай. Отец до призыва на военную службу окончил финансово-экономический техникум и по тем временам считался образованным человеком. Как специалист по финансовой части, был начфином на корабле. В тот роковой день «Сокрушительный» стоял на рейде в Екатерининской гавани. Был день зарплаты, и отец поехал в банк за деньгами для экипажа. Возвратившись, с чемоданом денег стоял на пирсе в ожидании катера, который должен был доставить его на корабль. Начался воздушный налёт. Бомба попала прямо в середину корабля, разломив надвое. Половина команды погибла. Какова бы была судьба отца, окажись он в это время на корабле, неизвестно.
До знакомства с ним у мамы был воздыхатель – тоже краснофлотец, как тогда называли моряков, Николай, скромный хороший парень, влюблённый в неё без ума, без памяти. Мой отец, Геннадий Павлович, оказался, по-видимому, более речистым и нашёл ключ не только к сердцу Тони, но и к сердцу будущего тестя. Как бы то ни было, мама вышла замуж за моего отца. Она уже была беременна мною, и это было уже совершенно очевидно для всех, а Николай всё не оставлял попыток убедить её бросить мужа и выйти замуж за него. Похоже, мама уже пожалела о своём выборе (их отношения с отцом на протяжении всей семейной жизни трудно назвать идиллическими), но дед сказал: «Вышла замуж, никто не гнал, живи!» Мама побоялась ослушаться. Уже полным ходом шла война, Николай стал проситься на фронт. Как отличного механика по сборке торпед, его долго не отпускали. Только после шестого рапорта отправили в морскую пехоту. Вскоре там же на севере, где-то под Печенгой, он и погиб. Мама всю жизнь считала себя косвенной виновницей его гибели.
Я родилась в эвакуации в родной маминой деревне, в том же Боброве, куда мама эвакуировалась незадолго до родов. Она бы не уехала, но был приказ всех, не имеющих отношения к армии и флоту, эвакуировать, т. к. Полярный был прифронтовым городом, его постоянно бомбили. Дед строил и ремонтировал причалы, бабушка стирала армейское бельё, Людмила работала на заводе. Её муж и мой отец служили на флоте. Все они имели прямое отношение к обороне города, а беременная мама не имела, хотя делала самое важное во время войны дело – увеличивала народонаселение. К домам подогнали грузовики, погрузили эвакуирующихся, отвезли в Кислую губу, оттуда на буксирах в Мурманск – и в теплушки. Под Кандалакшей над эшелоном, в котором ехала мама, появился немецкий самолёт. Состав остановили, все бросились бежать подальше от него, мама осталась в вагоне. Бегать в её положении было тяжеловато. Немец покружил, покружил и улетел. «Видимо, увидел, что бегут одни бабы и ребятишки, и не стал стрелять», – рассудили все.
Был январь 1942 года. В Вологду, куда она приехала, прибывали эшелоны из блокадного Ленинграда. Она стала свидетельницей разгрузки такого эшелона. Выгружали в основном трупы и клали их прямо на перрон. И плотно покрыли ими весь перрон.
Из Вологды до нужной станции Бушуихи, которая в часе езды от Вологды, уехать было невозможно. Шли только воинские эшелоны. Мама стала проситься к военным.
– А муж где: воюет или в тылу отъедается?
– Воюет. Моряк на Северном флоте.
– Ну раз моряк, довезём.
В деревне во время войны остались только женщины, дети и старики. Все мужчины ушли на фронт. Уходили и отцы, и сыновья. В некоторых семьях было по несколько взрослых сыновей. Многих забрала война. В деревню вернулись единицы. Младший брат деда, Фёдор Аполлинарьевич Калинин, погиб 9 мая 1942 года под Ленинградом у деревни Трегубово. Я узнала об этом из «Книги памяти Грязовецкого района». Это объёмистая книга страниц на четыреста. В ней только фамилии воинов, призванных на войну из Грязовецкого района: где родился, когда был призван, где и когда погиб или в каком госпитале умер от ран. 9323 имени из одного только Грязовецкого района. На Северо-Западном фронте, где погиб Фёдор Калинин, сложили головы многие вологжане.
Жена Фёдора умерла во время войны: простудилась, заболела, лежала на печке, попросила детей достать порошок – лекарство, спрятанное на божнице за иконой. Вечером, в темноте не разглядела, что ей подали дети, выпила – оказалось, марганцовка. Умерла в страшных мучениях. Остались сиротами три девочки и мальчик, все мал мала меньше. Их воспитывали сёстры деда, в детский дом никого не отдали. Даже мысли такой не возникало, хотя время было голодное. Уже после войны одну из девочек, Иду, взяла в свою семью Полина, мамина сестра, и привезла в Полярный. Там Ида вышла замуж, переехала в Мурманск, родила трёх детей. Позднее к ней в Мурманск приехали её младшая сестра Саша и брат Николай. Их старшая сестра Лия до замужества жила в семье своей тёти – сестры деда – Анны Аполлинарьевны в Боброве.
Все, кто мог работать, работали в колхозе. Подростки работали не только в колхозе, но и на лесоповале. Много лет спустя, в 1974 году, мы с мужем купили дом в соседней с Бобровом деревне. На повети среди прочего хлама обнаружился жёсткий картонный корсет на худенькую девушку. Мои мальчишки надевали его как рыцарские доспехи при сражениях на палках. Оказалось, бывшая хозяйка дома (Катерина Хомутова) во время войны пятнадцатилетней девчонкой вместе с такими же, как она, подростками работала на лесоповале. Зимой иногда приходилось работать по грудь в снегу. Она заболела туберкулезом позвоночника, лечилась, потом несколько лет носила найденный нами корсет.

Леонид Калинин (мамин брат) – новоиспечённый лейтенант. 1943 год

Леонид Калинин и его двоюродный брат Виталий Горохов – сын Анны, сестры деда. Германия. 1945 год
Другая деревенская соседка, Ангелина Присмотрова, рассказывала, как во время войны такой же девочкой работала формовщицей в литейном цехе на заводе в Вологде. Работа тяжёлая и вредная. На такие работы запрещается брать лиц моложе 18 лет. А во время войны брали, можно сказать, детей. По её словам, они нередко и ночевали в цеху на деревянных ящиках. В свободные от работы дни их, полуголодных и слабосильных, на товарном поезде посылали на погрузку леса. Закатывали брёвна в вагон или на открытую платформу, огороженную по углам торчащими вверх брёвнами. На такие платформы было особенно трудно закатывать тяжёлые бревна. Начинали и заканчивали работу по гудку паровоза. «Однажды, – говорит, – только начали работать, гудок! Что случилось? Оказывается, сорвалось бревно и ударило девчушку. Удар пришёлся на шею. Состав тотчас же отправился в Вологду, но до города её не довезли – умерла». С полным основанием можно сказать, что эта несчастная девочка погибла на войне.
Детство. Деревня
Мама родила меня февральским вечером 1942 года на русской печке, в которой сразу же и обмыли новорождённую. Оправившись от родов, мама пошла работать в колхоз. Сельсовет, где надо было выписать свидетельство о моём рождении, был в Нехотове, что в пяти километрах от Боброва. Маме было некогда идти туда. Случилось, что в сельсовет шла соседская бабка, и мама попросила её зарегистрировать меня и записать Татьяной в честь моей прабабушки. По дороге соседка решила, что Татьян в деревне и без меня полно, а вот Лии – ни одной. «Запишу Лией», – решила она и записала. Так я и обрела своё библейское имя. Меня крестили, моей крёстной матерью стала мамина сестра Поля.
Нянчиться со мной было некому. Меня навязали моему двоюродному брату Феликсу, Полиному сыну, и его одногодку Валентину – маминому двоюродному брату – сыну сестры деда – Анны. Оба были старше меня на восемь-девять лет. Я была толстой рахитичной девочкой. Мама завела козу, и я утром и вечером выпивала по кружке парного козьего молока. Коза была нашей спасительницей. Возиться со мной мальчишкам было в тягость, но деться-то было некуда! Они и таскали меня, толстуху, повсюду с собой. Играя в городки, сажали рядом с городками, чтоб на виду была. Городошные биты со свистом летели мимо моей головы, чудом её не задевая. Случалось, ставили меня босыми ногами в свежую коровью лепешку – пусть девочка погреется. У меня был рахит, и ноги, которые впоследствии выправились, тогда были такими кривыми, что Фелька, поставив меня, на спор пролезал между ними. Мальчишки тайком курили.
– Я скажу, что вы курили-и-и…
– Скажешь – сожжём!!!
Словом, методы воспитания, о которых они много позже сами весело рассказывали мне, гуманностью не грешили. Мальчишки учили меня петь вологодские частушки, в основном матерные. Я их распевала, ковыляя по деревне на кривых рахитичных ногах. Единственной приличной была такая частушка:
Зарезали сапожничка,
В канавушке лёжи-и-ит.
Эх, жалко его молодости –
Не дали пожи-и-ить!
Пела очень прочувственно – до слёз было жаль молодого сапожничка!
В нескольких километрах от Боброва начинается большое клюквенное болото и тянется на десятки километров. Когда поспевала клюква, за ней съезжались даже из других областей. Во время войны мама, чтобы заработать немного денег, нагружённая корзинами с клюквой, ездила продавать её в Ярославскую область. Денег на билет не было. Ехала, стоя на подножке вагона и уцепившись за поручень, благо что в вагонах того времени подножки были не внутри вагона, как сейчас, а выступали по его бокам. Ехать приходилось несколько часов, стоя на холодном, пронизывающем до костей ветру, крепко держась за поручень, чтоб не свалиться с мчащегося поезда, держа при этом тяжеленную корзину с клюквой. После такого путешествия болело всё тело.

Боброво. Мама с Лией на руках. Стоят Полина (мамина старшая сестра) с сыном Феликсом. 1942 год
В войну деревня жила впроголодь, но как-то выживала. Настоящий голод пришёл в 1947 году. Тогда съели всю крапиву, а лебеда была чуть ли не лакомством. Спасала только корова. Траву толкли, заливали молоком и ели. Несколько человек в округе умерли от того, что наелись древесной муки, из которой делали столярный клей.
Соседка, которая в войну работала формовщицей в Вологде, рассказывала: «Когда отменили продовольственные карточки, мы с девчонками побежали в магазин и накупили чёрного хлеба. Сели в общежитии за стол, ели чёрный хлеб, макая его в соль и запивая кипятком. Плакали от счастья.
Неужели мы, девчонки, дожили до такого времени, что можем вдоволь поесть хлеба!»
Возвращение в Полярный
К этому времени нас с мамой в деревне уже не было. Мы вернулись в Полярный сразу после окончания войны. С этого времени я себя и помню. Первым моим воспоминанием было воспоминание о том, как меня несёт под мышкой высокий мужчина в чёрном флотском кителе. В другой руке у него чемодан. Он несёт меня по пришвартованным друг к другу катерам, между бортами которых колышется свинцового цвета вода. Палубы катеров качаются. Он перешагивает через леера. Боюсь, что он меня выронит и я упаду в воду. Спустя много-много лет я рассказала об этом маме, думая, что это мои детские фантазии. Оказалось, нет. Это был знакомый отца, а впоследствии наш сосед – мичман Барболин.
Много позже я узнала, что отец, пока мы были в эвакуации, сошёлся с какой-то женщиной в Мурманске. Она родила девочку. А тут мы приехали, и отцу пришлось выбирать. Выбрал нас с мамой. Мама поставила условие, чтобы он никоим образом не общался с той женщиной и её дочкой, материально не помогал им. Мне кажется, он не очень строго выполнял это условие. Мама в конце жизни, когда отца уже давно не было в живых, сокрушалась, зачем она тогда поставила такое условие. Считала это своим грехом, за который впоследствии пришлось расплачиваться мне – воспитывать чужого ребёнка. У моего мужа была дочь от первого брака, которая росла в нашей семье.
Отец демобилизовался, остался работать в Полярном. Мы поселились у деда и бабушки в бараке на Советской улице. Там жило много народу, в том числе и сосланных на Север во время коллективизации. Барак был двухэтажный деревянный, длинный, с краном холодной воды и туалетом в конце коридора. По обе стороны коридора шли комнаты. В каждой комнате была печка и народу как клопов. Наша комната в двадцать квадратных метров была на втором этаже в середине барака. Помимо бабушки и деда в ней жили мои родители со мной, Людмила с мужем и дочерью Анжелой. Людмила вышла замуж в 1939 году за моряка – Черанёва Афанасия Ильича. До и во время войны он служил на кораблях, которые назывались морскими охотниками, и торпедных катерах. Катер подбили, начался пожар. Афанасий Ильич вынес из огня какие-то ценные корабельные документы, за что был награждён медалью Ушакова. До войны у них родилась девочка, которая умерла в 1941 году. Анжела родилась в 1943-м. Её чаще называли не Анжела, а Элла.

Антонина и Геннадий Рожковы с дочерью Лией. Полярный. 1945 год
Кроме родственников в этой же комнате ещё жил приятель – Фёдор Семёнов, который потом к деду с бабкой привёз свою жену Ольгу, предварительно испросив их разрешения. Жили дружно, ссор никогда не было. Фёдор работал на заводе «Красный горн» и скоро получил комнату в бараке рядом с заводом. Дружба с его семьёй продолжалась всю оставшуюся жизнь. На праздниках, на которые собирались все сёстры с семьями, обычно бывали и Фёдор с Ольгой.

Людмила Калинина (Черанёва) с дочерью Анжелой. 1945 год

Михаил Аполлинарьевич и Надежда Игнатьевна Калинины, в середине – Фёдор Семёнов. 1946 год
В комнате стояли две кровати и стол со стульями, большой деревенский сундук. На ночь пол застилали матрацами. Пока был жив дед, бабушка не работала, вела хозяйство. Дед был суров! У него были прокуренные жёлтые усы. Курил он исключительно махорку, делая самокрутки из газеты. Ел только своей деревянной ложкой, привезённой из деревни и щербатой с одного края от длительного употребления. Он и в ход её мог пустить, и я его жутко боялась. Похоже, дед не очень-то меня любил. Я была предоставлена сама себе, обычно играла около барака, а заигравшись, не успевала добежать до помойного ведра. Надо было добежать до подъезда, подняться на второй этаж, добежать до комнаты, которая была в середине барака. Где тут успеешь в три с половиной года! Прибегала с мокрыми штанами, а они были у меня одни на все случаи жизни: голубые, толстые, фланелевые. Бабушка со вздохом их снимала, полоскала и вешала на створки духовки для просушки. Я сидела в ожидании, когда они высохнут, часто подходя и проверяя, не высохли ли, в надежде, что до прихода деда они высохнут. Штаны, как назло, не сохли! Дед входил, бросал суровый взгляд на штаны, потом на меня и говорил: «Ну что, опять штаны намочила, зассыха!» Я в ужасе сжималась.
Моей голубой мечтой того времени был ослепительно белый эмалированный горшок, на котором почти постоянно сиживал, хныча, наш сосед снизу Сашка. Он был младше меня и почему-то всё время маялся животом. Этот фантастический горшок запал мне в душу на всю жизнь. Когда много-много лет спустя я рассказала об этом маме, она вспомнила, что Сашкина мать во время войны работала официанткой в английской миссии, которая была здесь же, на Советской. Оттуда этот роскошный горшок, по-видимому, и приплыл.
Однажды летом около барака свалили кучу свежей металлической стружки. Мне было строго-настрого запрещено к ней приближаться. Куча стружки ослепительно сверкала и играла на солнце всеми цветами радуги. Я, конечно, подошла и взяла стружку в руки и стала её вертеть так и сяк и любоваться блеском. Вдруг стружка как-то мгновенно ввинтилась в палец. Брызнула кровь. Я, плача, пошла домой. Плакала больше от страха, что накажут за непослушание. Так оно и случилось. Стружку вытащили (у меня от неё осталась отметина на всю жизнь), палец перевязали, а меня отшлёпали.
Но с детьми случались и настоящие трагедии. В то же лето в тёплый солнечный день в открытом канализационном колодце, до краёв наполненном водой, утонула двухлетняя девочка – любимица всего барака, гулявшая около барака сама по себе, пока мать на работе, а остальные тоже были делом заняты. Кто-то видел, как она полоскала в колодце ленточку. Как она туда упала, никто не видел. Собралась толпа народу. Её мать, одиночка, с плачем и криком билась в руках державших её людей. Горевали все. К слову сказать, матерей-одиночек было немало, в том числе и в нашем бараке, хотя общественным мнением, как известно, они порицались.
Два года спустя после этого случая умерла моя подружка Валя, тихая, спокойная девочка, которая была на год меня постарше. Ей было шесть лет. Мы вместе играли, ходили в Кислую губу, это за три километра от дома. Носили на причал обед: она – отцу, а я – деду. Тогда не думалось, что с нами по дороге может случиться что-то плохое. И не случалось. Потом Валя неожиданно заболела. Меня к ней не пускали, и я всё спрашивала у её родителей и братьев (их у неё было трое, она младшая), когда Валя поправится. Мне отвечали, что всё болеет. Ответы с каждым днём звучали всё грустнее. Как-то вечером меня позвали: «Иди попрощайся с подружкой». Я вошла. В комнате тускло светила лампочка. За столом, тихо переговариваясь, сидели мужчины, молча плакала Валина мать, тётя Тася. Мальчишки жались по своим топчанам. Раньше у них всегда было шумно и весело, часто собирался народ по вечерам – поговорить. У них и фамилия была весёлая – Шутовы. Сейчас же было непривычно тихо. Валя лежала с закрытыми глазами, прозрачным бледным лицом. Я спросила: «Она спит?» «Нет, без сознания». Я не знала, как надо с ней прощаться. Было как-то неловко: на меня все смотрели. Я стояла и смотрела на неё, потом тихо позвала. Она не ответила. Постояв ещё немного, я ушла и долго сидела у бабушки, оглушённая, так и не понимая, простилась я с ней или нет. Думаю, она умерла от пневмонии. Позднее у Шутовых родился ещё один мальчик, его назвали Валентином. Кстати, отец семейства, Василий Шутов, не был расписан со своей женой Таисией. Он был из раскулаченных и сосланных на Север. А не расписывался из-за боязни, что могут сослать ещё дальше, хотя дальше уж некуда. Если и сошлют, то одного, а не всю семью.
В бараке было несколько многодетных семей. Кто как живёт, ни для кого не было секретом, особенно для детей. Зайти в гости в любую комнату было обычным делом. Мы часто и ходили по гостям по всему бараку. Среди прочих в бараке жила семья Токаревых. Жена шила на заказ одежду, стегала ватные одеяла на больших параллельных пяльцах. Была весёлой и приветливой, пекла очень вкусные маленькие булочки, которыми охотно меня угощала. Мне нравилось приходить к ним и смотреть, как она ловко и весело стегает одеяло или раскатывает тесто. Муж её работал водителем грузовика. В свободное время он писал картины. Переносил изображение с репродукций на большие холсты. Делал он это, расстелив холст на большом столе. У них над кроватью висела картина во всю длину кровати и до потолка. Меня, маленькую, удивляло, зачем он такое повесил в комнате: голые мужчины и женщины. И все такие толстые – на первом плане мужчина вполоборота с мощной обнажённой спиной и зверским и одновременно весёлым выражением лица. Потом я увидела эту картину в каком-то музее или на репродукции. Фавн, нимфы, то ли Рубенс, то ли Тициан, не помню. Господи, где же я это уже видела? У Токаревых, в бараке!
Соседкой бабушки была тётя Клава, как и Шутов, из раскулаченных и сосланных на Север. Муж её утонул в Кольском заливе при неясных обстоятельствах, детей у них не было. Она жила со своим престарелым и немощным отцом. Тётя Клава была спокойным и очень добрым человеком. Плела кружева и много читала. Бабушка моя была неграмотной, и тётя Клава вслух читала ей книги. Однажды, уже учась в классе седьмом, я забежала к бабушке.
У них был час чтения. «Что читаем?» – спросила я. Читали они «Порт-Артур», бабушка слушала с раскрасневшимися щеками и блестящими глазами.
У деда с бабушкой мы жили недолго – кажется, несколько месяцев. Вскоре родители и я откочевали в дом через дорогу – получили комнату. Там на весь день меня родители запирали, уходя на работу. Я, высунувшись в форточку, с завистью смотрела на вольно гуляющих подружек. Однажды с их помощью удалось выбраться из заточения. После этого случая родители не оставляли форточку открытой. Первой книжкой была, конечно же, классика детской литературы – книжка стихов Агнии Барто, которую мне читали родители. Я выучила её наизусть: и про Таню, которая громко плачет, и про бычка, который идёт, шатается, и делала вид, будто читаю сама. У соседей был радиоприёмник, и я, как заворожённая, сидела перед ним и смотрела на шкалу, светящуюся зелёным светом. Мне казалось, что там, за стеклом, как за светящимся занавесом, движутся маленькие человечки, голоса которых я слышу.
К этому времени относится появление у нас нескольких красивых вещей. Эти вещи, по-видимому, были из тех, что поступили во время войны по ленд-лизу: две белые батистовые блузки для мамы, пуховое одеяло, просуществовавшее в нашей семье долгие годы, и белый роскошный свитер для меня. Мне прописали пить рыбий жир, и мама предпринимала безуспешные попытки напоить меня им. Я была в этом свитере, когда она в очередной раз попыталась всунуть в меня ложку рыбьего жира. При его виде и запахе у меня сразу сработал рвотный рефлекс, и всё содержимое ложки я тут же излила на свитер, испортив его навеки. Мама, отшлёпав меня (это уж как водится!), навсегда оставила попытки накормить меня этой гадостью.