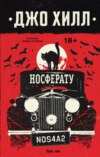Kitabı oxu: «Сияющие»
© Т. Чамата, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *

Посвящается Мэттью
Харпер
17 июля 1974
Он сжимает в потной ладони пластиковую оранжевую лошадку, спрятав руку в карман пиджака. Для самого разгара лета одежда слишком уж теплая, но у него давно вошло в привычку переодеваться в рабочее, когда он выходит на дело. В частности – в джинсы. Его шаг уверенный и твердый, несмотря на хромоту, – по нему видно, что он вышел не на бесцельную прогулку. Харпер Кертис далеко не бездельник. И время не ждет. За редкими исключениями.
На земле, скрестив ноги, сидит девочка. У нее голые коленки, белые, острые, словно птичьи косточки, и на них виднеются следы от травы. Заслышав шорох гравия, она вскидывает на него взгляд, но ненадолго. Все, что он успевает увидеть, – карие глаза под занавесью спутанных грязных волос, а потом она вновь возвращается к своему занятию.
Харпер немного разочарован; он надеялся, что глаза у нее будут синими – как озеро вдали от побережья, где бескрайние воды становятся похожи на океан. А коричневый – цвет мелководья и поднятой со дна грязи, в которой ни черта нельзя разглядеть.
– Что ты делаешь, золотце? – интересуется он у девочки с фальшивым энтузиазмом и присаживается рядом с ней в жиденькую траву. Да уж, он в жизни не встречал детей с таким гнездом на голове. Ее словно изрядно помотало по пыльной буре, а потом выбросило вместе с мусором, который остался валяться вокруг. Его много: проржавевшие консервные банки, стоящее на боку велосипедное колесо с выскочившими из обода спицами, щербатая чайная чашка, которую девочка поставила перед собой вверх дном, из-за чего серебристые цветочки у ободка утонули в траве. Ручка у чашки сколота – на ее месте осталась лишь пара притупившихся обрубков. – Пьешь чай?
– Нет, – бурчит она в скругленный воротничок своей клетчатой рубашки. Для ребенка с веснушками она слишком серьезная. Ей это совсем не идет.
– Ну и ладно, – говорит Харпер. – Я все равно больше люблю кофе. Не нальете мне чашечку, мадам? Черный, пожалуйста, и три ложки сахара. – Он тянется к обшарпанному фарфору, но девочка с возгласом шлепает его по руке. Из-под перевернутой чашки раздается низкое, весьма недовольное жужжание. – Господи, что у тебя там?
– Не чай, я же сказала! Я играю в цирк!
– Правда? – Он улыбается, нарочито глуповато и беззаботно, показывая, что не обижается, и ей не стоит принимать все так близко к сердцу. Но ладонь саднит от удара.
Девочка смотрит на него с подозрением. Не потому, что боится его – или того, что он может с ней сделать, – а потому что злится на него за недогадливость.
Теперь, оглядевшись, он действительно замечает раскинувшийся вокруг них разваливающийся цирк: его арену, выведенную на земле пальцем, канат в виде сплющенной соломинки для питья, устроенной на паре жестяных банок, и колесо обозрения – стоящее у куста погнутое велосипедное колесо, которое девочка подперла камнем, а между спиц засунула вырванных из журналов бумажных человечков.
А ведь этот камень прекрасно бы уместился у него в кулаке. И велосипедная спица легко проколола бы девочке глаз – прошла бы насквозь, словно через желе.
Он сильнее стискивает лошадку в кармане. Яростное жужжание, доносящееся из-под чашки, вибрацией расходится по позвоночнику, отдается в паху.
Чашка подпрыгивает, и девочка тут же прижимает ее к земле.
– Ой! – смеется она, и наваждение рассеивается.
– Да уж, еще какой «ой»! Кто там у тебя? Лев? – Он легонько толкает ее плечом, и ее недовольство сменяется на улыбку, пусть и почти незаметную. – Так ты, значит, дрессировщица? Будешь учить его прыгать через горящие кольца?
Она улыбается шире, сверкая белоснежными зубками. На ее округлых щеках россыпью выделяются яркие веснушки.
– Не-а, после прошлого раза Рэйчел не разрешает мне играть со спичками.
Один из клычков у нее вырос неровно: слегка налезая на резец. А благодаря улыбке даже мутная грязь карих глаз кажется сущей мелочью – теперь в них виднеется блеск, от которого трепещет сердце. Зря он сомневался в Доме. Она идеальна, как и все остальные. Его сияющая девочка.
– Я Харпер, – представляется он, затаив дыхание, и протягивает руку. Она пожимает ее, придерживая чашку свободной ладонью.
– А вы незнакомец? – спрашивает она.
– Уже нет. Я ведь сказал, как меня зовут.
– А я Кирби. Кирби Мазрахи. Но когда вырасту, буду Лори Стар.
– Это когда ты приедешь в Голливуд?
Она подтягивает чашку поближе, вызывая в запертом насекомом новую вспышку гнева, и Харпер понимает: не стоило это говорить.
– А вы точно не незнакомец?
– Ну, ты же хочешь выступать в цирке? Кем же Лори Стар будет? Воздушной гимнасткой? Наездницей на слонах? Клоуном? – Он прикладывает палец к верхней губе, шевеля им. – Или дамой с усами?
К его облегчению, Кирби хихикает.
– Ну не-е-ет!
– Будешь укрощать львов! Метать ножи! Глотать факелы!
– Я буду ходить по канату. Я даже немножко умею! Хотите, покажу?
Она хочет подняться, но он перебивает ее, охваченный отчаянием:
– Нет, подожди! Можно посмотреть на твоего льва?
– Да там не лев, если честно.
– А вдруг ты обманываешь? – не сдается он.
– Ладно, но только осторожно, а то он улетит. – Она самую чуточку приподнимает чашку. Харпер, уложив голову на землю, щурится, заглядывая внутрь, и вдыхает успокаивающий запах примятой травы и чернозема. Под чашкой кто-то шевелится. У него мохнатые лапки и черно-желтое тельце; его усики касаются края чашки, и Кирби, ахнув, вновь прижимает ее к земле.
– Ничего себе, какой большой шмель, – говорит он, присаживаясь на корточки.
– Знаю, – гордо отвечает ему Кирби.
– А ты нехило его разозлила.
– По-моему, он не хочет выступать в цирке.
– Хочешь, покажу тебе фокус? Ты мне только доверься.
– А какой?
– Тебе же нужен канатоходец?
– Нет, мне…
Но он уже поднял чашку и накрыл взвинченного шмеля ладонями. Глухой звук, с которым отрываются его крылышки, напоминает о вишне, которую Харпер целое лето собирал в Рапид-Сити, – с точно таким же звуком он срывал ее с черенков. Он ведь колесил по стране в поисках работы словно ужаленный. Пока не нашел Дом.
– Что ты делаешь?! – кричит Кирби.
– Так, теперь нам нужна липучка для мух. Натянем ее между банками, и наш шмелек сможет по ней ходить, но точно не упадет. Есть у тебя липучка?
Он усаживает шмеля на край чашки. Тот цепляется за нее лапками.
– Зачем ты с ним так?! – Она бьет его по руке открытыми ладонями быстро и буйно.
Такая реакция его удивляет.
– Мы же играем в цирк?
– Ты все испортил! Уходи! Уходи-уходи-уходи-уходи! – повторяет она, продолжая его колотить.
– Ну хватит, хватит, – смеется он, но она не останавливается. Он перехватывает ее руку. – Сказал же. Заканчивай-ка ты нахрен, малышка.
– А ты не ругайся! – кричит она и вдруг начинает рыдать. Не этого он ожидал от их первой встречи – хотя планировать их всегда довольно бессмысленно. Дети непредсказуемы, и это так утомляет. Поэтому он их и не любит. Лучше дождаться, пока они подрастут – вот тогда-то все будет по-другому.
– Ну ладно, ладно, прости. Только не плачь, хорошо? У меня для тебя подарок. Не плачь, пожалуйста. Смотри. – Он не знает, что еще делать, поэтому достает из кармана лошадку. Точнее, пытается, потому что ее голова за что-то цепляется, и ему приходится выдергивать ее силой. – На, бери. – Он пихает лошадку девочке в руки. Как талисман – один из тех, что связывают все воедино. Не поэтому ли он взял ее с собой? Лишь на мгновение в его мыслях мелькает сомнение.
– Что это?
– Лошадка. Не видишь, что ли? Лошадка-то явно лучше, чем какой-то дурацкий шмель, согласись?
– Но она игрушечная!
– Да знаю я, чтоб тебя. Бери уже, а? Это подарок.
– Не хочу. – Она шмыгает носом.
– Ладно, это не подарок, а вклад. Я отдам тебе лошадку, а ты будешь ее охранять, как в банке.
Солнце припекает затылок. В пиджаке становится слишком жарко. Ему сложно собраться с мыслями и хочется поскорее уйти.
Шмель, свалившись с края чашки в траву, заваливается на спинку и беспомощно сучит лапками в воздухе.
– Ладно.
Ее слова успокаивают его. Все так, как и должно быть.
– Самое главное – не потеряй ее, хорошо? Я за ней вернусь. Договорились?
– А зачем?
– Потому что она мне очень нужна. Сколько тебе лет?
– Шесть, но через три месяца будет семь.
– Вот и отлично. Просто чудесно. Самое то. Планета вертится, как твое колесо обозрения. Когда подрастешь, мы снова встретимся. Не забывай обо мне, золотце, ладно? Я обязательно за тобой вернусь.
Он встает и отряхивает джинсы, а потом разворачивается и быстро уходит, лишь немного прихрамывая. Девочка провожает его взглядом – он переходит дорогу, а потом идет к железнодорожным путям и вскоре скрывается среди растущих вокруг деревьев. Только тогда она смотрит на пластиковую лошадку, влажную от его пота, и кричит ему вслед:
– Да? Как будто мне нужна твоя дурацкая лошадь!
Она бросает ее на землю, и игрушка, отскочив, падает рядом с велосипедным колесом обозрения. Под безучастным взглядом ее нарисованных глаз по земле ползет шмель, сумевший перевернуться.
Но за лошадкой Кирби еще вернется.
Куда она денется.
Харпер
20 ноября 1931
Песок проваливается под ногами – не песок даже, а зловонное льдистое месиво, от которого ботинки с носками насквозь промокли. Харпер ругается себе под нос, тихо, так, чтобы не услышали его преследователи. В темноте раздаются их крики: «Где он? Вы его поймали?» Если бы не было так чертовски холодно, он бы рискнул уйти по воде. Но его и так трясет от дующего с озера ветра, заползающего под рубашку, – залитое кровью пальто пришлось бросить за баром.
Он пробирается дальше по пляжу, чавкая грязью, среди сваленного повсюду мусора и гниющей древесины. У самой кромки воды стоит какая-то халупа из картонных коробок, склеенных между собой просмоленной лентой, – неплохое место, чтобы укрыться. Сквозь щели коробок просачивается свет фонаря, и вся развалюха будто бы светится. Харпер не понимает, почему люди вообще уходят жить так близко к воде. Может, думают, что все и так пошло под откос, и хуже уже просто не будет. Ну да, ведь никто не придет и не насрет им под дверь. И уровень воды не поднимется после дождя, ко всем чертям смыв их насквозь провонявшее жилище. Проклятый Гувервилль1. Пристанище всеми забытых людей, для которых неудачи стали привычным делом. Никто не будет скучать по ним. И уж точно никто не будет скучать по сраному Джимми Грэбу.
Он не ожидал, что кровь будет хлестать из Грэба так сильно. Но урод сам напросился – дрался бы честно, и ничего бы с ним не случилось. Но нет, он был пьяным в стельку жирдяем, который не придумал ничего лучше, чем полезть к яйцам Харпера, потому что не смог ему врезать. Ублюдок даже успел схватить его за штаны своими жирными пальцами. А на грязные приемы отвечать нужно еще грязнее. Харпер не виноват, что острый осколок стекла задел артерию. Он-то метил Грэбу в лицо.
А все из-за того, что хренов туберкулезник начал кашлять на карты. Нет, Грэб, конечно, стер кровь рукавом, но все знали, что он заразный – видели, как он постоянно отхаркивается в испачканный кровью платок. Болезни, разруха да шалящие нервы. Вот что погубит Америку.
Но разве докажешь это «мэру» Клейтону и его геройской шайке самовлюбленных линчевателей? В подобных местах плюют на законы. Как и на деньги, и на собственное достоинство. Можно было бы догадаться – он же видел висящие на каждом втором магазине вывески о взыскании имущества банком. Стоило посмотреть правде в глаза: американцы сами на это напросились.
По пляжу скользит тусклый луч фонаря, ненадолго останавливаясь на следах, которые Харпер оставил в грязи. Но вскоре он пропадает и вспыхивает в другой стороне, а дверь халупы отворяется, и пляж заливает светом. На пороге стоит женщина, тощая, как помойная крыса. В свете керосиновой лампы ее лицо кажется серым и дряхлым, как и у всех местных жителей, словно пыльные бури унесли за собой не только посевы, но и остатки человеческой индивидуальности.
На ее острых плечах болтается темный пиджак, который был велик ей на несколько размеров. Шерстяной, теплый. Словно шаль. Харпер сразу понимает, что отберет его, – и лишь затем замечает, что женщина слепа. У нее пустой взгляд, гнилые зубы, а изо рта несет кислой капустой. Она касается его руки.
– Что такое? – спрашивает она. – Что за крики?
– Бешеный пес сбежал, – отвечает ей Харпер. – Они его ловят. Идите лучшей домой. – Он мог бы сорвать с нее пиджак и уйти. Но вдруг она закричит? Вдруг будет сопротивляться?
Она стискивает его руку сильнее.
– Стойте, – произносит она. – Это вы? Бартек, это вы?
– Нет, мэм. Не я. – Он пытается отцепить от себя ее пальцы. Но она продолжает, и голос ее становится громче. Такой привлекает внимание.
– Это вы. Это ведь вы. Он предупреждал, что вы скоро придете! – В ее голосе слышны истеричные нотки. – Он сказал, что…
– Тише, все хорошо, – говорит Харпер. Прижать ее к навесу за шею, навалившись всем весом, не составляет труда. Он просто хочет, чтобы она замолчала. Сложно кричать со сдавленным горлом. Женщина распахивает рот, пытаясь вздохнуть. Ее глаза лезут из орбит. Глотка под рукой содрогается. Она стискивает его рубашку, будто выжимает мокрую тряпку, а потом хрупкие костлявые пальцы разжимаются, и она безвольно оседает, привалившись к стене. Харпер склоняется вместе с ней, осторожно укладывая на землю, и снимает с нее пиджак.
В лачуге он замечает мальчишку. Тот смотрит на него огромными глазами.
– Чего пялишься? – шипит ему Харпер, натягивая пиджак. Он слишком большой, но его это не волнует. В кармане что-то бренчит. Может, ему повезло, и там мелочь? Нет, как он выяснит позже, его находка окажется куда ценнее, чем деньги.
– Иди, принеси маме попить. Не видишь, ей плохо.
Мальчишка смотрит на него не моргая – а потом вдруг заходится криком, привлекая лучи фонарей. Их свет падает на лачугу и лежащую на песке женщину, но Харпер уже бежит прочь.
– Вон он! – кричит кто-то из приспешников Клейтона, а может, и самопровозглашенный мэр собственной персоной, и преследователи бросаются к пляжу.
Харпер мчится по лабиринту из хлипких лачуг и палаток, жмущихся так тесно друг к другу, что между ними не протолкнешь и тележку. «Муравьи – и те живут лучше», – думает он, сворачивая в сторону Рэндольф-стрит.
И тут же оказывается, что некоторые люди и сами ведут себя как муравьи.
Брезент, на который он наступил, проваливается под ногами, и он падает в узкую яму, длинную и очень глубокую. Видимо, она служит кому-то домом, а брезент был подобием крыши.
Приземляется он неудачно: левая рука задевает деревянный настил, служащий кроватью, и что-то резко трещит, словно лопнувшая струна. От удара Харпера ведет в сторону, и он всей грудью врезается в самодельную плиту. Дух вышибает; лодыжка болит, будто в нее всадили пулю, но выстрела он не слышал. Не получается ни закричать, ни вздохнуть – сверху падает парусина, сковывая его по рукам и ногам.
Так Клейтон с дружками его и находят – барахтающимся в полотне и проклинающим сраного бродяжку, у которого не хватило рук и мозгов построить нормальную халупу. Собравшиеся у края ямы мужики светят вниз своими фонариками. В их свете от них видны одни только силуэты.
– Нельзя приходить в чужой монастырь со своим уставом, – нравоучительно говорит ему Клейтон.
Харпер с трудом глотает воздух. От каждого вздоха становится больно. Он сломал ребро, это точно, но ноге еще хуже.
– Соседей нужно уважать, и они будут уважать тебя, – продолжает свою проповедь Клейтон. То же самое он говорит на собраниях, когда убеждает людей, что нужно наладить отношения с местными предпринимателями. А потом эти предприниматели жалуются в администрацию, и на всех халупах в округе появляется уведомление о необходимости освободить землю в течение недели.
– Сложно кого-то уважать с того света, – смеется Харпер, но хрипло, и живот стягивает болью.
Он опасается, что мужики принесли ружья, но успокаивает себя: вряд ли они на это пойдут. А потом свет фонаря смещается в сторону, и он замечает в их руках трубы и молотки. Снова становится страшно.
– Ну что, сдадите меня властям? – с надеждой спрашивает он.
– Не, – отвечает Клейтон. – Нечего им здесь делать. – Он взмахивает рукой с фонариком. – Вытаскивайте его, ребята. А то узкоглазый скоро вернется, а в его яме всякие отбросы валяются.
За мостом на горизонте появляются первые лучи рассветного солнца, и вместе с ними приходит спасение. Помощники Клейтона не успевают к нему спуститься – с неба на них обрушивается обжигающе-ледяной ливень. А где-то среди трущоб раздается крик:
– Полиция! Это облава!
Клейтон оборачивается посоветоваться с дружками. Они что-то орут и размахивают руками, как обезьяны, а потом сквозь дождь прорывается пламя, заревом освещая все вокруг, и разговоры стихают.
– А ну не трожь!.. – доносится с противоположной стороны Рэндольф-стрит, а потом кто-то вопит: – У них керосин!
– Ну, чего ждете? – спрашивает Харпер негромко. Дождь и раздающиеся крики заглушают его голос.
– Сиди на месте. – Клейтон грозит ему обломком трубы, но его подельники расходятся. – Мы с тобой еще не закончили.
Не обращая внимания на хрипы, вырывающиеся из груди, Харпер приподнимается на локтях. Один край брезентовой крыши все еще цепляется за крепление, вбитое в землю, и Харпер дергает ткань, заранее понимая, что чуда можно не ждать. Но гвозди выдерживают.
Где-то над головой раздается голос дражайшего мэра, который пытается перекричать шум драки.
– Где судебное постановление?! Что, думаете, можете просто прийти и жечь наши дома? Мы и так уже все потеряли!
Харпер стискивает тяжелый брезент в кулаке, опирается здоровой ногой на перевернутую плиту и резко подтягивается. Лодыжка задевает стену ямы – и взрывается ослепительной болью. Его рвет, и он отплевывается от вязкой слюны и кровавой желчи. Но ткань из рук не выпускает – просто моргает, пока не пропадают пляшущие перед глазами черные точки.
За барабанной дробью дождя криков почти не слышно. Времени мало. Харпер карабкается вверх по мокрому сальному брезенту, как по канату. Еще год назад сил бы ему не хватило – но трех месяцев в Нью-Йорке на строительстве моста Трайборо достаточно, чтобы руки стали как у орангутана, которого он как-то видел на сельской ярмарке ломающим арбузы пополам.
Брезент подозрительно трещит, и Харпер боится, что сейчас снова рухнет в проклятую дыру. Но ткань выдерживает, и он кое-как вылезает из ямы, навалившись грудью на торчащие из крепления гвозди. Да и плевать. Чуть позже, когда он осмотрит царапины, то решит, что они похожи на следы от ногтей какой-нибудь запальчивой шлюхи.
Но пока он лежит под хлещущим спину дождем, уткнувшись лицом в грязь. Крики раздаются где-то вдали, но в воздухе чадит дым, а всполохи горящих повсюду лачуг разгоняют серость рассвета. Откуда-то доносится обрывочная мелодия; видимо, жители близлежащих домов открыли окна, наслаждаясь зрелищем.
Харпер ползет в грязи на четвереньках. Каждое движение обжигает болью – а может, его пожирает настоящее пламя. Костер, из которого он восстанет перерожденным.
Где-то на земле находится палка, и Харпер поднимается, опираясь на нее. Он хромает; левая нога подворачивается, волочится за ним бесполезной тряпкой. Но он не останавливается. Так и идет сквозь тьму и сквозь дождь, оставляя за спиной пылающие трущобы.
У всего в этой жизни есть причина. Ему пришлось сбежать – и он пришел в Дом. Он взял пиджак – и от Дома нашелся ключ.
Кирби
18 июля 1974
Раннее утро опускается на землю тяжелыми, темными сумерками; это странное время – последние электрички давно уже перестали ходить, дороги опустели, но птицы еще не начали петь. Ночь дышит жаром. От душного влажного воздуха на улице полно насекомых: мотыльки и мошки выстукивают неровную дробь о фонарь на крыльце; где-то под потолком тонко пищит комар.
Кирби лежит в кровати, поглаживая нейлоновую гриву лошадки, и вслушивается в стоны пустого дома. Он урчит, словно голодный желудок, – «утихомиривается», как говорит мама. Но мамы нет дома. На улице стоит глубокая ночь, – или раннее утро, – а Кирби не ела ничего с прошлого завтрака, который состоял из застарелых кукурузных хлопьев, и в стонах дома нет ничего тихого или мирного.
– Он просто старый. Ветер гуляет, наверное, – шепчет Кирби лошадке. Но входная дверь хлопает, хотя заперта на засов. И пол скрипит, словно к Кирби крадется грабитель с большим черным мешком, в который он ее засунет. А может, и не грабитель. Может, это ожившая кукла из того страшного фильма, который ей запрещали смотреть, перебирает по полу своими пластиковыми ножками.
Кирби выбирается из-под одеяла.
– Я пойду проверю, хорошо? – говорит она лошадке, потому что не может просто лежать и ждать, пока к ней придет жуткий монстр. Дверь в ее комнату расписана причудливыми цветами и переплетающимися виноградными лозами – мама Кирби разрисовала ее четыре месяца назад, когда они только въехали в дом. Кирби приближается к ней на цыпочках; она не знает, кто – или что – поднимается по лестнице, но она готова обороняться.
Прячась за дверью, как за щитом, она вслушивается в ночь, ковыряя ногтем шершавую краску. Она уже ободрала тигровую лилию до голого дерева. Кончики пальцев покалывает. Тишина звоном отдается в ушах.
– Рэйчел? – шепчет Кирби, совсем тихо, так, что слышит ее только лошадка.
Где-то совсем рядом раздается глухой стук, а потом грохот и звон разбитого стекла.
– Черт!
– Рэйчел? – громче повторяет Кирби. Сердце грохочет в груди, как ранняя электричка.
На мгновение воцаряется тишина. А потом раздается голос мамы:
– Иди спать, Кирби, все хорошо.
Кирби знает, что она врет. Но она хотя бы не Говорящая Тина, живая кукла-убийца.
Оставив в покое слезающую краску, она выходит в коридор, обходя осколки разбитой вазы. Среди увядших роз, плавающих в пованивающей воде измятыми лепестками и сморщенными бутонами, они блестят как алмазы. Мама оставила дверь приоткрытой.
С каждым новым переездом дома становятся все хуже и хуже. Их старость не скрыть даже за рисунками, которыми Рэйчел украшает шкафы, двери и даже пол, словно показывая: этот дом теперь их. Рисунки они с Кирби выбирают из большого серого графического альбома: там полно тигров, единорогов, ангелов и загорелых островитянок с цветами в волосах. По этим картинкам Кирби отличает один дом от другого. Здесь, например, на кухонном шкафчике над плитой нарисованы расплавленные часы, а значит, слева от них стоит холодильник, а ванная прячется под лестницей. Все дома отличаются друг от друга. Иногда в них есть сад, иногда у Кирби появляется собственный шкаф – иногда даже полки, если ей повезет, – и лишь одно остается неизменным: комната Рэйчел.
Про себя Кирби называет ее пиратской бухтой сокровищ. (Мама говорит, что пираты закапывают клады, а не хранят сокровища в бухтах, но это не мешает Кирби представлять волшебный потаенный залив, куда можно приплыть на большом корабле – но только если тебе повезет, только если под рукой окажется подходящая карта.)
По комнате разбросаны платья и шарфы, словно в ней закатила истерику вспыльчивая пиратская принцесса. На золотистых завитушках большого овального зеркала болтается разная бижутерия. Его Рэйчел всегда вешает в первую очередь после переезда, обязательно ударив молотком палец. Иногда они с Кирби играют в переодевалки, и Рэйчел наряжает ее в целую гору браслетов и ожерелий, а потом говорит, что она похожа на рождественскую елку – хотя они наполовину евреи, а те не празднуют Рождество.
Над окном висит украшение из цветного стекла. Днем, когда в окно светит солнце, его радужные блики пляшут по всей комнате, забираясь даже на стол для рисования и иллюстрации, над которыми Рэйчел работает.
Когда Кирби была совсем маленькой и они еще жили в городе, Рэйчел устанавливала вокруг стола ограду, чтобы Кирби спокойно ползала по комнате и не мешала. Раньше она рисовала для женских журналов, а сейчас «мой стиль никому больше не нужен, малышка, мода – дама капризная». Слово «дама» очень забавное. Оно нравится Кирби. Дама-рама-мама-мадама. А еще ей нравится подмигивающая официантка с двумя тарелками масляных блинчиков в руках, которую мама нарисовала для блинной «У Дорис» недалеко от магазинчика на углу.
Но сейчас радужное украшение холодно и мертво тускнеет, на лампе висит небрежно сброшенный желтый шарф, и во всей комнате царит уныние. Рэйчел лежит на кровати, закрыв лицо подушкой. Она даже не разделась – не сняла ни туфли, ни платье, и под черной кружевной тканью ее грудь часто подергивается, как от икоты. Кирби останавливается на пороге, но мама не замечает ее. Хочется что-то сказать, но нужные слова не приходят.
– Ты в обуви на кровати, – наконец выдавливает она хоть что-то.
Рэйчел убирает подушку в сторону и смотрит на дочь красными от слез глазами. От потекшей туши на ткани чернеет пятно.
– Прости, солнышко, – говорит Рэйчел. Почти что щебечет. (Почему-то это слово напоминает Кирби другое. «Щербатый». Как зубы Мелани Оттесен, когда та свалилась с каната. Как треснутые стаканы, из которых опасно пить.)
– Нужно разуться!
– Знаю, солнце, – вздыхает Рэйчел. – Не кричи.
Она поддевает ремешки носками черно-коричневых туфель, а потом сбрасывает их на пол. Перекатывается на живот.
– Почешешь мне спинку?
Кирби забирается на кровать и садится рядом, скрестив ноги. Мамины волосы пахнут сигаретами. Она проводит по тонкому кружеву платья кончиками ногтей.
– Почему ты плачешь?
– Я не плачу.
– Нет, плачешь.
Мама вздыхает.
– Раз в месяц с женщинами такое случается.
– Ты всегда так говоришь, – дуется Кирби, а потом, словно между прочим, добавляет: – А у меня есть лошадка.
– У меня денег не хватит купить тебе лошадку, – сонно произносит Рэйчел.
– Да нет, у меня она уже есть, – закатывая глаза, поясняет ей Кирби. – Оранжевая. У нее бабочки на боках, карие глаза и золотая грива, и она, эм, она немножко дурацкая.
Мама беспокойно оглядывается на нее через плечо.
– Кирби! Ты ее что, украла?
– Нет! Мне ее подарили. Хотя я не просила.
– Ну ладно. – Мама потирает глаза ладонью, размазывая тушь. Так она выглядит как разбойница.
– Так мне можно ее оставить?
– Конечно. Тебе все можно. Ну, почти. А с подарками делай все, что захочешь. Хоть ломай или бей на кусочки.
«Прямо как вазу в коридоре», – думает Кирби.
– Хорошо, – серьезно отвечает она. – У тебя волосы странно пахнут.
– Кто бы говорил! – Смех мамы тоже пляшет по комнате радугой. – Ты сама-то давно голову мыла?