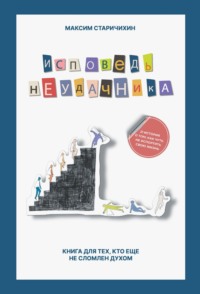Kitabı oxu: «Исповедь неудачника. Книга для тех, кто еще не сломлен духом»
© М. Старичихин текст, оформление, 2025
* * *
Предисловие
Эта книга – не автобиография. Не та история, в которой люди должны полюбить Максима. Нет. И я в ней не герой. Более того, я – антигерой, классический хронический неудачник.
В современной культуре это понятие переживает некоторую трансформацию. Кто он, неудачник? Что это за человек? Кто дал ему такой статус и что он означает? А главное – что делать, если неудачник – это вы? Об этом я пишу в своей книге.
Возможно, я один из многих и моя история не уникальна – все мы проходим жизненный путь, спотыкаемся, падаем, встаем. Снова, снова и снова. У каждого своя дорога, свои ошибки, свои грехи и «повороты не туда». В этом нам «помогают» наши недостатки, врожденные черты характера, приобретенные комплексы. Все мы бываем в ситуации, когда весь мир как будто против тебя. Иногда это ощущение длится совсем недолго, а иногда мы барахтаемся в нем годами, постепенно привыкая к мысли, что это навсегда и так должно быть.
Нередко то, что стоит между нами и нашей целью, кажется непреодолимым. Будто нам вынесли приговор. Иногда это делает социум – вешает ярлык. Но в большей степени приговор выносим мы сами. Часто такие приговоры озвучены нам в детстве. Мы привыкаем к ним и живем с ними как с чем-то своим, приросшим, они становятся частью души, частью нас.
Слабак, дохлик, тупой, неудачник, троечник, некрасивый, середнячок, больной. Узнали что-нибудь «свое»? Возможно. Смирились ли с этим? Тоже возможно. Если это так, то вы до сих пор неудачник, человек, у которого проблемы со здоровьем, с самооценкой или с самореализацией. Все, что я перечислил, – были мои приговоры. И именно поэтому я рассказываю про свое детство, озвучиваю свои диагнозы. Чтобы те, кто когда-то себя осудил, могли пересмотреть свои взгляды, «подать апелляцию» и жить в новом статусе.
Я был не просто неудачником, а лохом, трусом и вором. Я был алкоголиком. Но, как показывает мой пример, это не конец.
У всех есть свои скелеты в шкафу, но не каждый готов показать их, вытащить на свет, представить публике свой негативный опыт. Для кого-то он слишком травмирующий, для кого-то – постыдный. Кто-то предпочитает его просто забыть, вычеркнуть из жизни и не вспоминать. Кто-то проживает его прямо сейчас и не в состоянии оценить ситуацию со стороны, и здесь могли бы помочь чьи-то схожие ситуации. Часто мы не знаем правдивых историй реальных людей, а если знаем, то не вправе использовать их без разрешения. Потому что это – очень личное.
Здесь я приношу себя в жертву. Рассказываю о своей жизни и о себе, о своих неправильных решениях и ошибках. Я делаю это, чтобы донести простую вещь: можно до 27, до 30 лет, да на самом деле сколько угодно быть неудачником, но в итоге добиться успеха, стать лучшей версией себя. Главное – не сдаваться, не поддаваться, не остановиться, не опустить руки, не впасть в уныние и отчаяние. Я своим примером хочу показать, что в самой непростой ситуации можно и нужно искать и находить выход.
Говорить об этом, используя в качестве иллюстрации собственную жизнь, непросто. Неслучайно моя книга называется «Исповедь неудачника». Трудно им быть. Еще сложнее это признать. И еще сложнее – рассказать публично. Но я хочу это сделать. Это мой осознанный выбор.
Возможно, у меня есть определенный иммунитет или какое-то отклонение, потому что я не боюсь признаться во всем. Я понимаю, что мне это никак не повредит. Всем, кто меня знает, все и так известно. А остальные, возможно, увидят во мне себя. И кому-то это, вероятно, поможет. Хотя бы осознать, что в какой-то ситуации ты не один. Что вот есть такой человек Максим, который через это прошел и смог выбраться.
На самом деле, все мои истории – про изменение себя, про преодоление. И здесь мне хочется донести до читателей простую и важную мысль: все возможно. Все изменяемо. Это, в общем, известный христианский догмат о преображении мира и самого себя. Но сначала и прежде всего – именно себя.
Отличная мысль, связанная с идеей преображения, которую я часто слышал на тренингах и семинарах, о которой читал и которую полностью поддерживаю и лично внедряю в жизнь, – этому можно научиться. С этим (что бы то ни было) не рождаются. Да, у вас могут быть какие-то склонности, предрасположенности, способности – к спорту, к науке, к танцам. Но если вы с этим не родились, то можете всему научиться, натренироваться, если захотите. Если верить в себя, все получится.
В моем случае это был спорт. Я – слабый, самый маленький в классе, тот, кому врачи вообще запретили какую-либо физическую нагрузку, – стал капитаном школьной спортивной команды. Именно это было моей первой победой на большом пути преображения.
Сейчас, оглядываясь назад, я испытываю благодарность именно за это: за то, что изначально у меня не было этих навыков, качеств, всего того, что можно было бы иметь, и того, что имели другие. Как говорится, спасибо, Господи, за то, что у меня есть, и вдвойне спасибо за то, чего у меня нет.
То, что мы изначально имеем, – данность. А то, чего не имеем, – можем приобрести. И это – уже выбор.
Кому-то дается выносливость, кому-то – музыкальный слух или гибкость тела, кому-то – ясный аналитический ум. Моим даром, наверное, были амбиции. И вера в то, что я смогу жить так, как хочу. Так что то, что вы представляете собой сейчас, не финально.
Я помню себя, помню свои мысли и страхи по поводу того, что раз я такой, то это навсегда. Я с этим жил и боялся этого, пока не услышал о том, что НЕТ. Все можно изменить. Кто-то доходит до всего сам и начинает действовать. А кому-то нужна поддержка извне – слова, мысли. Вот у меня были слова, и сейчас я транслирую их вам. Может быть, для кого-то они в совокупности с моей историей помогут что-то изменить.
Для меня хорошим примером (одним из) был один австрийский миллионер, который в своем выступлении говорил о том, что сейчас (а на тот момент ему было уже за 60) он совсем не тот человек, которым был в 30. «Это настолько две разные личности, – рассказывал он, – что вы бы, встретившись со мной тогда, просто меня не узнали бы. Я постоянно менял себя. Менял в лучшую сторону. Иногда по году-два уходило на то, чтобы исправить какое-то качество, выработать что-то, чему-то научиться. Да, за 30 лет я очень сильно изменился: прокачался, переделал себе характер».
Я его слушал и думал: значит, и я так могу! И да, я мог! Но всякий раз на пути сталкивался с самим собой. Каждый, кто проходил подобное, знает, с каким саботажем с собственной стороны приходится иметь дело. Ты вроде начинаешь, пробуешь что-то новое, а затем наступает вечер или ночь, ты устаешь и думаешь: ладно, потом или вообще – бог с ним, пусть уже остается как есть.
Меняться всегда очень сложно, а иногда это еще и долго. Но это того стоит, потому что сейчас те люди, которые не знали меня раньше, просто не могут себе представить, каким я был. Более того. Это трудно представить даже мне. Например, я, бывший алкоголик, который мог не то что пьяным сесть за руль, а пить за рулем, сегодня перестал понимать, зачем люди вообще употребляют алкоголь. Где-то год назад я поймал себя на мысли, что правда не знаю зачем. И это стало для меня очень фундаментальным открытием.
Все мои истории – это истории обычного ребенка из простой семьи, среднестатистического человека, отягощенного неумением общаться с людьми, ленью, нерешительностью, трусоватостью. Истории о том, как он, спотыкаясь и падая, поднимается, встает, идет дальше.
Эта книга об обычной жизни и обычном человеке, который ее живет. Как знает, как может. Одна из основных мыслей – дерьмо случается. Не бывает все гладко, кем бы ты ни был, потому что такова данность. И когда ты знаешь, какова жизнь и каковы люди (в том числе и ты сам), когда принимаешь ее такой, какая она есть, и себя самого, со всеми косяками и недостатками, жить становится понятнее и легче, потому что – да. Она, жизнь, – такая! Но она одна, и другой не будет.
Я не буду давать вам советов. Последнее, чего мне хотелось бы, – чтобы вы действовали по чьей-то готовой инструкции (тем более – моей), по чьим-то рекомендациям. Человеческая личность – настолько тонкий и уникальный феномен, что руководство к ее применению может быть только одно – ваше собственное. Как и жизнь. Пользуясь чужими указаниями, вы всегда будете тестовой площадкой чьей-то жизни. Не вашей. А поиск собственных рецептов даст вам возможность написать свою, уникальную историю и прожить исключительную жизнь. Возможно, она не будет гладкой и спокойной, не будет такой благополучной, как хотелось бы вашей маме или жене. Возможно, она не станет какой-то особенно прекрасной, как обещали вам коучи, но зато она будет вашей, той, которую вы сами делали, сами строили, через ошибки и работу над их исправлением. Я не стану давать вам советов. Я просто поделюсь своей историей. Вот она.
1. Полярная ночь души
Эта глава о том, как мне пришлось преодолеть убежденность, что «жизнь мне должна».
Мама часто говорила мне: «Я всегда буду любить тебя, но еще я хотела бы иметь возможность гордиться тобой». Большую часть своей жизни я не мог предоставить ей этой возможности.
В тот период, о котором я сейчас рассказываю, моя жизнь сузилась до размеров детской комнаты в родительском доме, где я сидел, сказав маме и папе, что работаю, а сам днями и ночами играл на компе. Иногда я делал что-то по дому: стриг газон, что-то поправлял, и всё. Было страшно представить, что думают обо мне родители. Единственный сын, надежда, опора и такой хронический неудачник, промотавший все, что можно: образование, работу, отношения и возможности…
Мне было 27 лет. Мои ровесники – знакомые, родственники, одноклассники – уже обзавелись семьями, ездили на своих машинах, жили в собственных квартирах. А я до сих пор не мог понять, кто я, куда иду и почему моя жизнь так нелепа.
Знаете ли вы, что такое полярная ночь? Это время, когда солнце не появляется над горизонтом. Вообще. Когда кажется, что вроде бы вот сейчас оно взойдет, вот уже должен начаться рассвет. Но он не начинается. Вроде светает, светает, светает, но солнце так и не поднимается. В жизни тоже так бывает. Когда ты живешь в этих нескончаемых сумерках, устаешь, мучаешься, но почему-то так из них и не выбираешься.
Сколько может длиться эта полярная ночь? Наверное, по-разному. У кого-то год, у кого-то жизнь. У меня она длилась шесть лет – с 21 года до 27-ми. Она могла продолжаться меньше, а могла – дольше. Но главный вопрос, наверное, не в этом, а в том, почему она вообще возникла? Как наступила? Что послужило причиной?
Если без магии и прочих разговоров о судьбе и карме, все просто. Я допустил наступление полярной ночи, потому что у меня не было ни сильного желания, ни понятной стратегии для того, чтобы добиться чего-либо. Было просто: хочу чего-то – буду делать. Расхотел или устал – не буду. Позиция ребенка, которым я, в общем, и был. И я делал или не делал, пребывая, по сути, в хаосе, и в результате каждый раз приходил в тупик.
Противоядие от этого существует, оно просто и очевидно до скучного: цель – стратегия – тактика – план – задачи. И четкое их выполнение. Но на пути к цели всегда есть препятствия. И это не какие-то злые силы, нет. Это не обстоятельства, не судьба, не карма… Чаще всего это ты сам. Нерешительность, страхи, элементарная лень, привычка быть в роли жертвы… Это то, что всегда с нами.
Даже если мы знаем, как правильно, все равно чаще выбираем не правильный путь, а легкий. Такова человеческая природа. И я мог бы гораздо раньше «переехать» в более благоприятную жизнь, но предпочитал страдать, выбирал, как проще, легче, приятнее, в конце концов.
Это как с людьми, которые живут на Севере, в реальной полярной ночи, или в других местах, где жить очень сложно. Их никто не заставляет, никто к месту кандалами не приковывает. Они, как правило, там просто родились. Это их данность. Но данность – это не приговор, а выбор, значит, ее всегда можно поменять. Этого не происходит только потому, что люди часто вообще не готовы делать хоть что-нибудь сверх того, чтобы просто жить. Как тот кот из анекдота, которому больно лежать на гвозде, но он не встает, потому что недостаточно больно, терпимо.
И я был таким же. У меня имелись возможности закончить «полярную ночь души». Но я продолжал оставаться в ней, наступал на одни и те же грабли. Более того, я мог бы запросто прострадать до конца жизни. И согласно моему наблюдению, очень многие люди именно так и живут.
Есть у человеческой психики такая особенность – выбирать позицию жертвы. Жертвы чего угодно: обстоятельств, наследственности, физических данных, невзаимной любви или нелюбви родителей, в общем, список бесконечен. Опасность в том, что жертвой быть постепенно привыкаешь, и становится даже приятно. Приятно страдать, думать, что ты ни при чем.
Жертва – это человек, который снял с себя ответственность.
Ответственность – это сложно. Это честно. А когда виноват не я, уже легче, пусть жизнь моя – полное дно, зато не из-за меня, а из-за кого-то или чего-то другого: кто-то не помог, доллар подорожал, иностранный бизнес ушел, цунами пришло, мама недолюбила и т. д.
Опасность позиции жертвы в том, что это всегда легкий выбор. Он всегда есть, всегда рядом с нами. В любой момент вы можете себя оправдать, пожалеть, убаюкать: «это не я плохой (ленивый, не целеустремленный, в чем-то глупый, не прокачанный), это дядя виноват». Конкретно это произошло со мной: однажды допустив такое состояние, примерив его на себя, я как будто впал в анабиоз, прекратил пробовать. Я словно гипнотизировал себя, убеждаясь, что дальше обязательно потерплю неудачу, а значит, не стоит и пытаться.
Еще одна ошибка, которую я постоянно совершал, находясь в позиции жертвы, – считал, что я уже достаточно сделал, чтобы получать результат. У меня было именно так. Я сам так решил, с этой позицией жил и ждал результатов, ничего сам не предпринимая для прорыва. И конечно же, итог был всегда один и тот же – ничего не менялось, а становилось только хуже.
Я жил по логике «Сейчас моя очередь на то, чтобы было лучше! Я достаточно пострадал, достаточно пережил, заслужил чего-то хорошего, лучшей жизни!». Тут бы задуматься и спросить себя: «Макс, а что ты конкретно сделал, чтобы заработать это хорошее? И сделал ли ты все, что необходимо, и в нужном объеме?» Но, увы, это я сегодняшний способен на такие вопросы, но не я из того печального прошлого.
Оглядываясь назад, я понимаю, что мне давали очень много шансов: друг, который звал в проект; социальные связи, которые можно было монетизировать; поддержка родителей, да элементарно здоровье. Было много возможностей, ресурсов. Но я предпочел занять позицию жертвы, уставшей от жизни в 21–27 лет – самый золотой период. Я ни у кого не просил помощи, ни с кем не поддерживал и не развивал связи, продолжал просто деградировать. Но я сам сделал такой выбор.
Существовать в этом состоянии обычно помогает обида. Мне особо не на кого было злиться, поэтому я обижался на саму жизнь и на Бога. Винил его в своих неудачах. Почему это, мол, у других, которые делают меньше, меньше страдают, меньше работают, все есть и все получается, а у меня – нет? Конечно, я не мог знать, как там на самом деле у этих «других». Но это не мешало мне обвинять Бога в несправедливости и прочих издевательствах над собой.
Еще одна опасность состояния жертвы в том, что оно, как радиация, постепенно поражает все сферы жизни: карьеру, личные отношения, здоровье. Большая проблема такого положения в том, что, когда ты неудачник, твои неудачи терпишь не только ты. Их разделяют те, кто тебя любит и кого любишь ты. То есть ты не только страдаешь сам, но и своих близких заставляешь разделить эти мучения. Поэтому часто в этот момент хочется забиться куда-нибудь в нору, сквозь землю провалиться, чтобы никто не видел твоего поражения. Но именно близкие часто бывают тем спасательным кругом, который в конце концов вытаскивает тебя из кризиса.
В моем случае удар первыми приняли на себя родители, которые день за днем, с самого моего рождения вынуждены были открывать для себя все прелести воспитания особенного ребенка – меня.
2. Потерянный рай
Эта глава о том, как мне пришлось стать сильным из-за буллинга в школе.
Не знаю, повезло ли со мной родителям, но мне с ними – очень.
Я родился в 1987 году в маленьком южном городке Минеральные Воды. Я первый ребенок в семье, где меня очень сильно хотели и ждали. Моя мама с детства мечтала быть мамой. Когда ее в школе спрашивали: «Кем бы ты хочешь стать: учителем, врачом, ученым?», она всегда говорила: «Я хочу быть мамой». Этому детскому желанию она осталась верна и вышла замуж за папу в 17 лет. Отец был на четыре года старше. В мамины 19 появился я. То есть мои родители стали таковыми в 19 и 23 – казалось бы, совсем дети, но на самом деле уже в этом возрасте они были очень взрослыми. Настолько, чтобы осознанно дать жизнь новому человеку – мне.
В своей семье я всегда чувствовал любовь. У нас было принято вслух говорить слова любви и открыто проявлять свои чувства, хотя это не особо часто встречалось в советских и постсоветских семьях. Во всяком случае, в моем окружении. Я знал, что любим, и это была моя суперсила, которая на всю жизнь стала вектором, задающим правильное направление.
Я родился и рос в эпоху перемен – все, кто в детстве или юности пережил российские 90-е, меня поймут. Это было время растерянности и смуты, наполненное ощущением отсутствия стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Разваливалась страна, закрывались производства, люди теряли рабочие места. Для меня лично это обернулось почти полным отсутствием отца, который в 1991-м начал заниматься бизнесом (думаю, вы имеете представление о том, что такое бизнес в России в те годы) и поэтому 110 % времени посвящал работе и поиску способов для выживания семьи. Я рос в женском окружении: с мамой, тетями и четырьмя сестрами – одной родной и тремя двоюродными. Мне остро не хватало мужчин рядом. Я помню, как хотел братика, просил его у мамы. Она улыбнулась и отправила меня к папе, мол, договаривайся с ним. И я, маленький, подошел к отцу и сказал: «Папа, будь, пожалуйста, моим братиком!»
Тем не менее, несмотря на внешние обстоятельства, мы были полной и очень счастливой семьей. В этом, конечно, огромная заслуга моей мамы, которая в свои юные годы обладала редкой женской мудростью, умела выстроить нужный микроклимат в семье, ту самую «погоду в доме», где каждый – на своем месте, люби́м и счастлив. Все то, что сейчас пропагандируют семейные психологи, чему учат на тренингах, она интуитивно знала уже тогда, в свои 17, когда стала женой, и продолжила эту линию в 19, когда впервые стала мамой – моей. Папа часто повторяет, что именно она, мама, научила его любить. Несмотря на раннее материнство, она прекрасно справлялась сама и учила этому папу – я ни разу не слышал, чтобы родители повышали голос друг на друга. Будучи детьми, мы думали, что родители никогда не ругались. Сейчас я знаю, что, конечно, они, как и все пары, выясняли отношения, но мы с сестрой об этом никогда не знали. Как мне стало известно позже, они раз пять хотели развестись, но для нас с сестрой это осталось «за кадром».
Мама с папой всегда говорили, что «целоваться надо при детях, а ругаться – в их отсутствие. Чтобы дети видели любовь, но не видели ссоры».
Мама четко осознавала, что такое авторитет – свой (матери и жены) и папин (мужа и отца), понимала, где нужно быть мягкой, а где (а главное – как) – жесткой. Благодаря этому наша семья двигалась в пространстве и времени как хорошо отлаженная машина, заправленная любовью и согласием.
В таких условиях, казалось бы, должны рождаться, развиваться и вырастать счастливые гармоничные дети. Но вместо этого у моих родителей появился я.
С рождения я был не то чтобы социофобом, но ребенком с, мягко говоря, неприятным характером, неконтактным, закрытым. Ладить с людьми у меня получалось ровно до того момента, пока я с ними не сталкивался и не начинал коммуницировать. При общении с кем-либо, точнее, при чьей-то попытке пообщаться со мной, я неизменно показывал свой фирменный фокус – об этом рассказывали все родственники. Когда к нам приходили гости (а я был совсем маленьким), они приближались ко мне, сидящему в коляске или на стульчике, и говорили что-то вроде: «Ути-пути, какой хороший малыш». Первое, что я делал незамедлительно, – закрывал глаза руками, одновременно затыкая уши пальцами. То есть как бы «выключал» ненужную мне часть мира.
Лет до семи меня спасало то, что я был «в домике», контактируя в основном с любящими, понимающими и принимающими родителями, хотя ходил в садик (и очень этого не любил). Но потом началась школа – социум, который «выключить», закрыв глаза руками, было уже невозможно. Каждая моя встреча с ним оборачивалась разного рода драмой, или, как говорится, случалось «некоторое дерьмо».
Первые звоночки будущих проблем прозвенели еще в детском саду. А в школе все изменилось окончательно.
Есть такие люди, у которых детство и школа, как неотъемлемая его часть, – лучшие годы жизни. Взросление, овладение новыми знаниями, первая любовь, в конце концов. Далеко ходить не нужно – такова, например, моя младшая сестра Юля, с которой мы выросли в одной семье, делили дом, родителей, школу, летний отдых. Вместе с тем мы как будто жили в разных мирах, существовали в параллельных вселенных. Юля была позитивным, жизнерадостным, открытым, любвеобильным ребенком. Она всегда щедро дарила свою любовь миру, и он отвечал ей взаимностью – ее все и всегда любили, ей многое сходило с рук, она была миленькая, очень контактная, улыбчивая, красивая и добрая. Такая классическая «куколка» из фильмов, принцесса из диснеевских сказок. На фоне ее искренней открытости миру и взаимной любви с ним моя собственная нелюдимость выглядела особенно нелепо.
Школа стала для меня первым большим жизненным испытанием. Потому что из тихой семейной гавани, где все друг друга понимают, уважают и любят, я вдруг попал в странное место, лишенное любви, а главное – какого-либо смысла.
В этом заключалась, пожалуй, главная проблема: я не понимал, зачем мне учиться, и никто, включая родителей, не мог этого объяснить. Возможно, я пошел в школу слишком рано и не был к ней психологически готов, хотя в моем случае это можно было предугадать.
В результате с первого класса школа стала моим персональным адом, который к тому же занял весь объем жизненного пространства. Самое страшное, что она как будто поглотила не только меня, но и родителей, которые теперь почему-то были не на моей стороне, а на ее.
Моя жизнь стала бессмысленной и беспощадной. Режим был таким: с утра до обеда – школа, где учителя бились со мной, не желающим учиться, а после обеда и до ночи я сидел над уроками, так как совершенно не мог понять, зачем их делать, и, соответственно, не делал. Так проходил мой день, чтобы потом по тому же сценарию начинался следующий, – и все это длилось и длилось. Я попал в свой собственный день сурка. Менялись только детали.
Это может показаться странным, но у меня реально не было вообще никаких причин, чтобы учиться. Я для себя так и не смог назвать ни одной до одиннадцатого класса, но это уже другая история. При этом я не был тупым. Более того, я был умным, у меня хорошая память, я умел логически мыслить и прочее и прочее. Я просто искренне не понимал – зачем?
Мой перманентный затянувшийся диалог с учителями выглядел так:
– Максим! Ну ты же умный парень! Почему ты совсем не учишься?
– А раз я умный, почему вы не ставите мне хорошие оценки?
– Мы не ставим тебе хорошие оценки, ПОТОМУ ЧТО ТЫ НЕ УЧИШЬСЯ! Почему?
– А зачем?
– Как «зачем»? Так надо!
Кому именно надо и для чего, я не понимал, а потому продолжал ничего не делать, насколько это было возможно.
После школы я приходил домой, и все начиналось сначала. Диалог с родителями не особо отличался от разговора с педагогами.
– Иди делай уроки!
– Зачем? Я что, если не выучу уроки, сразу стану бомжом? (Стать бомжом, а затем – наркоманом – самый страшный сценарий моего детства.)
– Сразу не станешь! Но делать их надо!
– Тогда зачем? Зачем?
Обоснованного, внятного ответа на этот вопрос я ждал от взрослых напрасно, а сам начал искать его лишь на втором курсе университета. На поиски ушло еще несколько лет.
И должен сказать, эта проблема в целом никуда не делась, она существует и поныне, и не только для сегодняшних детей. Большинство взрослых (уже моих ровесников) так до сих пор и не нашли для себя ответа. Большинство «купили» ответы, предлагаемые кем-то извне. Но, как говорится, «если ты знаешь, но не делаешь, это значит, ты не знаешь», а в данном случае – «если ты знаешь, зачем учиться, но не учишься, значит, ты не знаешь, зачем тебе это».
Чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю, приведу пример. В седьмом и восьмом классах мы спрашивали учителей, зачем нам физика и химия. Как они нам пригодятся в жизни? На что следовал типичный ответ: «Так кто-то когда-то решил, и надо, чтобы все дети учили физику и химию». То есть сами учителя – взрослые, живущие реальную взрослую жизнь, – сами не знали, зачем нам нужен тот или иной предмет, и предпочитали об этом не задумываться, а зря. Ведь умение формулировать и задавать вопросы – один из полезнейших навыков в жизни, дающий огромные преимущества.
В общем, тогда я не знал зачем и не делал.
Более того, я считал, что, если взрослые не могут ответить на мой вопрос «зачем?», это их проблемы. Проблемы, которые делали их в моих глазах людьми, не стоящими доверия, демонстрирующие их слабость, некомпетентность в вещах, которые были важнее, собственно, школьных предметов, потому что касались самой жизни, ее законов.
Понятно, все это серьезно расстраивало моих родителей, как расстроило бы и любых других. Плюс – мои были воспитаны советской системой, где школа обязательна для всех и каждого и учились, так или иначе, все – даже законченные тупицы. У мамы к тому же было педагогическое образование. Она мучила меня уроками, мучилась сама, но помочь ничем не могла, потому расстраивалась вдвойне – терпя фиаско и как мама, и как педагог.
Сейчас я на полном серьезе продолжаю считать, что лучше бы я в школу вообще не ходил и осваивал ее программу на каком-нибудь домашнем обучении. Как раз в год моего поступления в школу, в 1994-м, появился закон об альтернативном образовании, о котором многие узнали в конце нулевых. Однако таких опций у ребенка из обычной семьи просто не было. Стало быть, у меня не оставалось вообще никаких вариантов.
В результате благодаря школьной системе и моему полному несоответствию ее формату из счастливого любимого ребенка я превратился в вечного троечника, лентяя, хронического неудачника. Кстати, в будущем, исследуя свою проблему, я наткнулся на статистику, которая говорила, что классический метод образования, со всеми натяжками, подходит только 63 % людей. Так что, если вы узнали себя, знайте: мы не одиноки!
Именно тогда, в первом классе, и началась история моего затяжного лузерства.
Это сейчас в современной психологии существует мнение, что хорошист или троечник – это нормальный человек с точки зрения гибкости психики, стрессоустойчивости и, как следствие, жизненных перспектив в целом. А отличник может оказаться ребенком с множеством приобретенных неврозов, а значит – с очень серьезными потенциальными проблемами в будущем (хотя это, конечно же, не стопроцентное правило). Но тогда, в постсоветском пространстве, никаких подобных человеколюбивых философий еще не было, и «троечник» – это было клеймо.
В системе ценностей общего советского образования троечник – это либо тупица, который не совсем дебил (но не более того), либо лентяй, либо пофигист, либо всё вместе, то есть ленивый туповатый пофигист. Отчасти это про меня. Я с детства был и остаюсь (правда, теперь это моя сильная сторона) очень ленивым человеком, но моя лень всегда обусловлена важной причиной: я не делаю что-то, если не понимаю – зачем.
Тогда, став школьником, я искренне не понимал смысла моего пребывания в этом месте и долгое время оставался верным себе, а стало быть, делал все, чтобы там не быть. Вариантов было немного, точнее, всего один, которым я пользовался, правда, безуспешно: через день бегал в школьный медпункт, дабы отпроситься с уроков из-за плохого у самочувствия. Это не прокатывало, так как я был абсолютно здоров и болел редко – спасибо маме, которая пристально следила за моим состоянием и всячески меня закаляла.
Я начал этот тихий протест с первого класса: так я безмолвно обозначил свою позицию по отношению к системе общего образования – и сохранил ее вплоть до конца десятого класса.
Pulsuz fraqment bitdi.