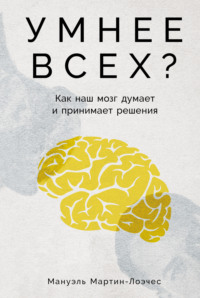Kitabı oxu: «Умнее всех? Как наш мозг думает и принимает решения»
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Ольга Лукинская
Научный редактор: Ольга Ивашкина
Редактор: Лев Данилкин
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Анна Тарасова
Арт-директор: Юрий Буга
Дизайн обложки: Алина Лоскутова
Корректоры: Ольга Петрова, Елена Рудницкая
Верстка: Андрей Ларионов
Иллюстрации на обложке: Shutterstock.com
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Manuel Martín-Loeches, 2023
© Editorial Planeta, S. A., 2023
© Иллюстрации. Juan Francisco Rodríguez García, 2023
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2026
⁂

Светлой памяти моего отца,
чей великий ум, к сожалению, не нашел себе должного применения
Ум, весь состоящий из одной логики, подобен ножу из одного лезвия: он ранит в кровь руку, берущую его1.
РАБИНДРАНАТ ТАГОР
Введение
В 1980-х гг. я учился на факультете психологии, и у подавляющего большинства, а то и у всех моих однокурсников, были схожие мечты: получить работу клинического психолога или открыть собственную клинику. Им хотелось посвятить свою жизнь решению поведенческих проблем, помогать людям с психическими расстройствами. Я был исключением. К психологии я относился лишь как к способу познать человеческое существо: понять, как устроены его чувства, желания, мысли и механизмы мышления. Мне хотелось разобраться в самом себе – в этом, пожалуй, я оригинален не был, такой мотив встречается среди студентов-психологов довольно часто. Но в любом случае я не хотел заниматься клинической деятельностью, собираясь посвятить себя исследованию человеческого разума.
Я быстро понял, что ответы на значительную часть волнующих меня вопросов можно найти в такой науке, как биология. В частности, на занятиях по психобиологии мы изучали биологию поведения. Преподаватели не без пафоса говорили о «биологическом фундаменте поведения», и сами были настолько влюблены в свой предмет, что и меня тоже увлекла эта тема. Гормональные, генетические и нейрональные механизмы поведения казались мне ужасно интересными; передо мной открывался целый мир, который предстояло познать и который объяснил бы столь многое. Казалось, это ключ ко всему – по крайней мере, всему, что меня занимало. Видя мою заинтересованность, на четвертом курсе (а учиться тогда нужно было пять лет2) меня взяли интерном в факультетскую лабораторию психофармакологии. Там я ставил эксперименты: делал предварительно подготовленным белым крысам внутрибрюшинные инъекции физостигмина и скополамина и наблюдал, какой эффект это оказывает на процессы обучения и памяти. Я научился скрупулезно собирать данные, вести лабораторные журналы, строить таблицы и графики, применять статистические методы к самостоятельно полученным данным. Щеголяя в чистом, наглаженном белом халате, я был крайне горд и доволен собой. Психобиологии предстояло стать моим будущим.
И я не ошибся. Вскоре после выпуска из университета я перестал работать с крысами; теперь моими пациентами были люди. Я начал писать диссертацию на кафедре физиологии медицинского факультета, где применяли передовую на тот момент технологию – картирование головного мозга. Этим методом я пользуюсь и тридцать лет спустя; он подразумевает составление разноцветной карты мозга пациента, где цвета зависят от напряжения, генерируемого нейронами разных отделов. По сути, это карта электрической активности головного мозга. В те времена мы только начинали использовать компьютеры для того, чтобы проводить точный анализ электроэнцефалографических сигналов и их статистическую обработку. Появление этой технологии означало, что моя детская мечта исполнилась. Представьте себе, в детстве я рисовал систему, которую хотел изобрести: металлический шлем с антеннами, который надевается на голову; провода, соединяющие концы антенн с некоей машиной; наконец, сама машина, загадочным образом способная в деталях видеть мысли испытуемого. Во многом это оказалось похоже на работу, которую я проделывал при написании диссертации!
То, что в качестве пути к познанию человеческого мозга я выбрал именно психобиологию, стало, пожалуй, одним из тех немногих случаев в моей жизни, когда мне по-настоящему повезло. Вскоре после моего поступления в аспирантуру (а это 1988–1989 гг.) девяностые были объявлены Декадой мозга3, о чем и сообщил американский президент Джордж Буш 25 июля 1989 г. Изучение мозга вошло в моду, и в эти исследования принялись инвестировать серьезные суммы. Результатом стал существенный прогресс в сфере технологий, позволяющих изучать мозг здоровых людей, то есть тех, у кого не было показаний к трепанации черепа. Появились методы, позволяющие наблюдать за активностью головного мозга, пока сам человек занимается своими делами. Мы смогли глубже и лучше изучить язык, память, внимание и другие когнитивные процессы. Более того, доступность и разнообразие этих технологий привели к тому, что сразу началось изучение и других ментальных процессов, в том числе ранее мало известных и даже в какой-то степени пограничных, то есть тех, разговоры о которых не приветствовались. С точки зрения «биологического фундамента» стали изучаться такие чисто человеческие – и потому особенно любопытные – темы, как религиозные верования, искусство, эстетика, совесть, медитация, политические убеждения или моральные принципы. Появилась возможность исследовать, что именно происходит, когда мы испытываем эмоции, в том числе свойственные именно человеку – далеко за пределами базовых эмоций, которые мы делим со многими млекопитающими. Чувство вины, стыд, любовь, ревность, зависть, сочувствие – все это превратилось в объекты научных исследований. В ходе десятилетий, прошедших с тех пор, как я начал писать диссертацию, в психологической науке случилась целая революция, изменившая наше понимание природы человека и его интеллекта. И мне невероятно повезло быть свидетелем этого необратимого процесса.
Серьезные подвижки наметились не только в области технологий для изучения мозга. Стало появляться все больше экспериментальных исследований когнитивной и социальной психологии, посвященных тем самым пограничным вопросам. Знания человека о самом себе росли в геометрической прогрессии. В общем и целом понимание человеческого разума в последние десятилетия существенно изменилось по сравнению с прежней версией, принятой в те годы, когда я делал первые шаги в психологии. В те времена мозг человека воспринимался как некая застывшая субстанция, подобная машине, как у Спока в «Стартреке»; считалось, что решения всегда принимаются на основе расчета, а эмоции при этом вообще не участвуют – они не что иное, как атавизм, пережиток нашего животного прошлого, и без них можно прекрасно обойтись. Когнитивное и эмоциональное рассматривались как два отдельных друг от друга мира, причем второй практически никого не интересовал.
В 2002 г. психолог Даниэль Канеман, автор, которого невозможно не упомянуть в этой книге, получил Нобелевскую премию по экономике, доказав, что принятие человеком решений весьма далеко от математических расчетов, а подлинные основы этих решений порой неожиданны4. Он обнаружил, что люди совершают ошибки, множество ошибок, намного больше, чем должны были бы, учитывая потенциал их головного мозга. Однако похоже, что ошибочные решения – неотъемлемая часть человеческой природы. Прошу прощения за слишком громоздкую конструкцию, но мы не думаем так, как мы думали, что думаем, несколько десятилетий назад. Более того, сегодня на первый план вышли как раз эмоции. Стало ясно, что именно они – локомотив для всего остального, одна из подлинных причин, в силу которых мы принимаем какие-то решения и что-то делаем, и без эмоций, может статься, и смысла-то никакого жить нет. Интеллект же, благодаря которому мы так сильно отличаемся от животных, не более чем инструмент для того, чтобы формировать с его помощью положительные эмоции и избегать негативных. Ровно для этого нам и нужно быть такими умными. Не боясь ошибиться, скажу, что интеллект – это лишь слуга на подхвате у наших эмоций.
После того как 20 июля 1969 г. Нил Армстронг, командир миссии «Аполлон–11», ступил на поверхность Луны и произнес свою знаменитую фразу «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества», с лунного модуля спустился его коллега Базз Олдрин. Оказавшись на поверхности нашего спутника, он продолжил начатый ранее разговор с капитаном.
ОЛДРИН: Какой прекрасный вид!
АРМСТРОНГ: Правда же? Потрясающий вид… Здорово, да?
Таков был самый первый диалог людей, которые оказались на Луне.
Мне кажется, те реплики, которыми они обменялись, много говорят о человеке как о существе, для которого важнейшую роль играют эмоции. Армстронг и Олдрин находились за 400 000 километров от дома и семьи, они подвергали свою жизнь опасности, но разговаривали о красоте и впечатлениях. Центральная роль эмоций даже в первой лунной миссии становится еще заметнее в краткой беседе обоих пилотов с президентом Никсоном. Этот диалог состоялся буквально через несколько минут, когда космонавты завершили плановую работу – взяли образцы грунта, расставили датчики, поместили на Луне памятную табличку и флаг США.
ПРЕЗИДЕНТ НИКСОН: Уважаемые Нил и Базз, я нахожусь в Овальном кабинете Белого дома, и это, вероятно, самый важный с исторической точки зрения звонок, когда-либо сделанный отсюда. Я не могу даже выразить то, какую гордость мы все сейчас испытываем за вас. Для любого американца сегодняшний день – важнейший в жизни, да и для жителей других стран тоже. Я уверен, что сегодня американцы в едином порыве признают подвиг, который вы совершили! Благодаря вам с этого дня небо стало частью человеческого мира. Вы находитесь на территории, называемой Морем Спокойствия, и это еще больше вдохновляет нас добиваться спокойствия и мира на Земле. Это уникальный момент в истории человечества, и все народы на Земле сейчас едины. Едины в своей гордости за ваш поступок. И едины в молитвах за то, чтобы вы вернулись на Землю живыми и здоровыми.
АРМСТРОНГ: Благодарю вас, мистер президент. Это большая честь и привилегия представлять здесь не только Соединенные Штаты, но и народы всего мира. С интересом, любопытством, мечтами о будущем. Большая честь быть частью того, что происходит здесь и сейчас5.
В этом диалоге можно найти ключевые ответы на вопрос, почему Армстронг и Олдрин вообще оказались на Луне. Программа «Аполлон» была одним из этапов ожесточенной гонки между двумя странами, двумя мировыми лидерами, вступившими в историческое соперничество друг с другом: Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Чтобы осуществить космическую миссию, потребовалась работа сотен тысяч людей в разных местах планеты и миллиарды долларов. Это потрясающий пример того, что люди способны ставить невероятные цели и планировать настоящие одиссеи, выходящие далеко за пределы базовых потребностей (есть, спать, производить потомство). Программа «Аполлон» – это история об амбициях, соперничестве, гордости, чести, интересе, любопытстве, мечтах о будущем, восхищении, даже религии (президент Никсон упоминает молитвы). А еще мы наблюдаем за действием разума, огромного интеллекта, который поставлен на службу всему вышеупомянутому.
Такого рода доказательства важности эмоций всегда были у нас под самым носом, однако в академических кругах долго было принято отторгать ту концепцию человеческого разума, которую мы открываем для себя сейчас. Все наши новые знания об интеллекте появились благодаря подлинной революции.
В этой книге я хотел бы рассказать о сегодняшнем видении разума человека, обретенном нами в ходе десятилетий научной работы. Мне невероятно повезло, что и моя собственная деятельность была посвящена исследованию поведения людей и человеческого мозга. Наряду с тысячами других ученых со всего мира я смог сделать свой собственный, пусть скромный, вклад в современное понимание того, как устроен мозг нашего вида. И работа еще не окончена, так что на страницах этой книги я расскажу о том, что́ именно мы открываем практически сейчас. Думаю, что тогда нам станет понятнее, почему люди, будучи видом с несравненным интеллектом, подчас совершают совершенно поразительные ошибки.
Однако эта книга отражает и мою точку зрения. В науке всегда есть место дебатам, а многие темы не закрыты или закрыты не окончательно. И конечно, некоторые позиции и точки зрения мне ближе, чем другие, так что именно на них я и сфокусируюсь. Тем не менее в случаях, когда относительно какого-то вопроса существует альтернативное мнение, я постараюсь об этом упоминать. Отмечу, что в нашем деле по-прежнему много неизвестных, и в надежде дополнить имеющийся свод знаний я рассказываю о собственных идеях. В любом случае читатель может рассчитывать на то, что бо́льшая часть информации на этих страницах имеет под собой научную основу.
Я буду много и подробно рассказывать о разуме как таковом: что он такое, каким он бывает и как функционирует у разных видов. Мы поговорим об интеллекте рода Homo, и хотя других видов этого рода, кроме нашего, на Земле не осталось, есть данные, помогающие понять, как мыслили другие представители нашего рода. Мы будем задавать интересные вопросы: действительно ли мы умнее своих предков? Если да, то связано ли это с более развитым интеллектом или с накопленными знаниями и культурой? Разговор об интеллекте, особенно человеческом, неотделим от разговора о самых разных необычных проявлениях и последствиях, аномалиях и чудачествах. Их важно изучить, чтобы понять, почему и зачем мы такие умные. Помимо того, что такое наш разум и чем он отличается от разума других видов на планете – как современных, так и вымерших, мы поговорим и о том, что люди совершают ошибки (в том числе грубые) чаще, чем готовы признать. Мы обсудим факторы, которые мешают нам всегда использовать свой потенциал на полную мощность. Рассмотрим, что нами движет и как именно мы реагируем на разные воздействия. Это очень важно, чтобы составить полную картину нас как людей, ведь иногда мы действуем крайне странным или даже абсурдным образом. Памятуя о собственных возможностях и собственных ограничениях, мы сможем понять одно из важнейших для человечества явлений – то, как мы используем дар слова. Люди совершают те или иные поступки и под воздействием готовых нарративов, и с целью создания новых, то есть для нас крайне важно то, что мы слышим или говорим (в том числе сами себе). Мы живем в речевых рамках, и именно благодаря речи меняется наше поведение, совершаются великие подвиги и достижения. Космическая гонка и высадка на Луне лишь один из примеров того, к каким последствиям может привести тот или иной нарратив. Без речи мы бы не вышли из пещер; в книге показано, что именно речь, безусловно, является продуктом великого интеллекта человека, поставленного на службу эмоциям. Однако нарратив может также быть опасным или токсичным, и важно не забывать об этих рисках.
Надеюсь, что эта книга поможет вам приблизиться к пониманию человеческого разума. Это непросто, ведь мы – самый непредсказуемый вид на Земле. И все же те знания, которыми мы располагаем на сегодняшний день, отражены на этих страницах достаточно подробно.
I
А мы в самом деле такие умные? Что такое человеческий интеллект?
Прежде чем отвечать на вопрос, зачем нам быть такими умными, надо разобраться с двумя другими: что значит быть умным и действительно ли мы так уж умны. Поэтому начнем с того, насколько мы умны по сравнению с другими видами, предшествовавшими нам в ходе эволюции и расположенными на других ветвях нашего генеалогического древа. Мы высокоразвитые и социализированные приматы, способные изготавливать инструменты и контролировать огонь. И все? Возможно, один из факторов, способствовавших развитию нашего интеллекта, – это речь. Язык дает нам термины, с помощью которых можно мыслить, позволяет передавать кому-то еще наши идеи и выводы. И раз так, нам следует обговорить и осмыслить эту необыкновенную особенность нашего поведения: а разговаривали ли человеческие существа, жившие 2 млн лет назад? Если нет, то это подразумевает, что между нами – огромная разница, такая же, как между людьми и животными других видов. В этой книге мы обязательно рассмотрим тему речи. Однако интеллект, похоже, присущ не только человеку! Мы увидим, что интеллектом, помимо приматов, особенно крупных обезьян, обладают и другие млекопитающие (например, слоны или косатки), и даже животные, относящиеся к другим классам, например во́роны или осьминоги. А еще мы должны задуматься о том, что у обладания развитым интеллектом есть и своя темная сторона – так, человек способен осознавать факты, которые ему не нравятся, а еще он восприимчив к заболеваниям ментальной сферы. Быть может, это тоже плоды высокого интеллекта? Или нет? А сам по себе разум – он един для всех или существуют его разновидности? Это неоднозначная тема, которая тем не менее заслуживает того, чтобы как следует разобраться в ней, то есть в самих себе, и понять, почему все-таки мы полагаем себя такими умными. Умными и одновременно эмоциональными, и социальными тоже; а еще мы существа, обладающие выдающейся памятью, – более того, на самом деле мы те, кто мы есть, благодаря нашей памяти. Хотя, кстати, ошибок она совершает намного больше, чем мы думаем.
1
Единственные в своем роде
Люди считали себя особенными всегда, с самых давних, незапамятных времен. Мы отличались от всех остальных уникальным качеством – способностью к безграничному познанию других существ и умением давать им имена. И когда пришло время дать название и нашему собственному виду, ученые выбрали самую важную его характеристику. В 1758 г. Карл Линней назвал наш вид Homo sapiens. Мы принадлежим к роду Homo («человек» на латыни), причем с уточнением sapiens – «разумный». Мы очень многое знаем, потому что мы умны. Мы уникальны в том, насколько умны. А еще мы единственные представители рода Homo, оставшиеся на планете, единственные выжившие – и в животном мире это большая редкость. Нет других видов, которые остались бы совсем без родственников.
Конечно, чтобы понять, такие ли уж мы на самом деле умные, надо знать конец нашей истории. Возможно, впрочем, что даже и слишком умные – раз уж мы избавились от всех конкурентов.
В самом деле, о мире мы знаем больше, чем любой другой вид на планете, – особенно в последнее время, когда ко всему стали подходить с научных позиций. Но возможно, раньше наши знания не отличались так уж разительно от знаний других видов рода Homo, с которыми мы некоторое время делили Землю. Взять, к примеру, неандертальцев: полное название этого вида наших кузенов когда-то звучало как Homo sapiens neanderthalensis. Исследователям казалось, они настолько схожи с нами, что их можно считать то ли нашим подвидом, то ли одним из предков. Если бы такая классификация была принята окончательно, нас именовали бы Homo sapiens sapiens, то есть дважды «разумный», что, видимо, подразумевает, что мы в сколько-то раз умнее неандертальского подвида. На это указывали первые палеонтологические данные: есть два подвида Homo sapiens, один разумнее другого. Но по прошествии лет эта гипотеза так и не подтвердилась; более вероятно, что в древние времена разум людей и неандертальцев был примерно одинаков. Несмотря на принадлежность к двум разным видам, мы обладали схожей формой мышления и восприятия мира. Как, например, волки и койоты или львы и тигры. Понятно, что при обсуждении неандертальцев всегда рано или поздно будут всплывать вопросы об особенностях и отличиях нашего разума. Однако граница между умом неандертальца и человека представляется размытой, а значит, и отличительные характеристики выделить непросто. В тот момент, когда мы были похожи друг на друга, были ли мы и неандертальцы двумя самыми умными видами на планете, даже в сравнении с другими представителями рода Homo? А что произошло потом? В какой момент мы стали умнее и победили в гонке на выживание, в ходе которой неандертальцы прекратили свое существование?