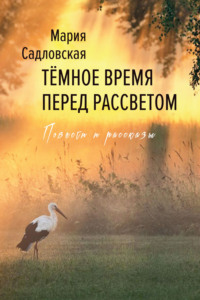Kitabı oxu: «Тёмное время перед рассветом»
© Розенблит М.А., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Писатель из прострелянного детства
…Не знаю почему, но читая повести, новеллы, рассказы Марии Алексеевны Садловской, невольно на ум приходит замечательный русский поэт, сценарист и режиссёр Геннадий Шпаликов (1937–1974), с его неторопким, казалось бы обыденным, будничным языком драматургии, но в конце повествований всегда появляется что-то вроде комочка в горле. Его стихи завораживают незаметно, тихо и ошарашивают, такие же неторопкие и будничные, но при этом пронзительные и глубокие. Широко известные кинофильмы Шпаликова тоже таковы. «Мы родом из детства» («Беларусьфильм, 1966), признанный лучшим из всего созданного белорусским кино, рассказывает о двух мальчишках в апреле 1945 года, из прифронтового города, ждущих возвращения своих близких, сражающихся за освобождение Родины, и в надежде, что война вот-вот закончится…
А шпаликовские строки в очень талантливом фильме «Подранки» Николая Губенко (1976) потрясающем глубиной поднятых тем и переживаний. Писатель приезжает в родной городок, где вырос в детском доме, так как его родители погибли во время войны, когда ему ещё не было и года. Он очень хочет найти своих двух братьев, которых совсем не помнит. Адрес и судьбу своих родственников он находит в архиве…
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.
А не то рвану по следу —
Кто меня вернёт? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю,
Там, где – боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.
«…А не то рвану по следу…» в «путешествие обратно» – это не предупреждение и не отвлечённая угроза, это, на самом деле, констатация неизбежности для каждого творческого человека, тем более для писателя. Ведь каждый из них пишет о том, что для него сокровенно и пишет о своей жизни, как правило, сквозь призму одной генеральной идеи. Таковой был для Достоевского смысл искупительной жертвы Христы или у «достоевского кинематографии» Андрея Тарковского – смыслы евангельской притчи о возвращении Блудного сына, о возвращении к Отцу, к истокам, по путям познания самого смысла жизни…
Есть такое расхожее высказывание, что «у войны не женское лицо». И веет от этого высказывания какой-то искусственностью. Если это и так, то, тем более, не детское оно, это лицо войны. А что, мужское что ли?
Нельзя сказать, что творчество Марии Алексеевны посвящено сугубо военной теме. Это не так, хоть и пронзительны «военные» рассказы глазами женщины – матери, жены, маленькой девочки, невесты, сестры… Война, сама по себе, здесь не главное. Война – суровые обстоятельства, экстремальные условия и человеку предстоит сохранить в них своё человеческое достоинство. Главным же лейтмотивом на первый план неизменно выходит мысль о сострадании и милосердии, то, что наряду с чаянием справедливости всегда было центральным мотивом именно для русской классической литературы, мысли, веры и самого русского психотипа, и даже культурно-исторического архетипа, если говорить словами великого Данилевского… Во времена нынешних бесконечных телепредставлений о «поиске национальной идеи», она, эта идея во все времена оставалась одной и той же: справедливость и сострадание, милосердие, которое может быть выше даже справедливости. Всё творчество Марии Садловской созвучно сказанному, в своё время, Достоевским в его «Дневнике писателя», что «ни человек, ни нация» не могут существовать без идеи «о бессмертии души человеческой». Из этой «высшей идеи», которая «на земле лишь одна», произрастают «все остальные», способствующие жизни людей. Но раз «убеждение в бессмертии так необходимо для бытия» человека, «стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества». Следовательно, бессмертие души «существует несомненно», а идея о бессмертии есть «сама жизнь, живая жизнь, её окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания» для всех людей. И «Непостижимое таинство смерти обладает многими печатями» (повесть автора «Тёмное время перед рассветом»)… Этика любви против метафизики своеволия, когда «всё позволено», русская эсхатология и пасхальное Воскресение, а не апокалиптическая «цивилизация смерти», так подспудно подкравшаяся к «западному» обществу потребления и вакханалии личного успеха, когда «я и моё – превыше всего», что столь неожиданно и грозно прозвучало в устах человека, от которого никак не ожидалось, из уст Папы Иоанна Павла II, полуполяка-полурусина Кароля Войтылы… Он, положивший жизнь на борьбу с коммунизмом, получил не возрождение духовности Европы и мира, на что так рассчитывал, а «культуру смерти» и нелюбовь со стороны «свободной» Западной Европы, подмявшей под себя Центральную…
Что-то глубинное, мистическое и метафизическое роднит малышей военного лихолетья, независимо от того, понимали они хоть что-то из происходящего вокруг, как Шпаликов, когда ему было 6 лет в 1943 году и жил он в далёком киргизском селе, эвакуированный из родной Карелии, или в Москве 1945 года, откуда его отец-офицер всё же добился отправки на фронт, где и пропал без вести под самое завершение войны… Или вряд ли понимали детишки и, тем более младенцы, как Мария Садловская, исконная украинка-малоросска с родительской фамилией Мальчук, появившаяся на свет в тяжком оккупационном 1943-м году под пятой жестоких захватчиков под древним городком Белая Церковь. Городок с большим прошлым, известен с начала 11 века на знаковой для всякого руського человека реке Рось, что 80 километрах на юг от Киева. Вот здесь на свет сподобилось ей появиться под чёрным небом немецко-фашистской оккупации… Так случилось, что и её детство да школьные годы тоже были отмечены, увы, вынужденной безотцовщиной, когда судьба поступила с отцом несправедливо и исправила свою ошибку лишь тогда, когда Мария была уже юной девушкой.
Вдумчивый и тонкий писатель Садловская прекрасно владеет своим первым родным наречием – украинским, настоящим, малороссийским наречием «великаго русскаго языка» в его нормативной «киевско-полтавской» форме, столь выгодно отличающимся от львовско-сельского «гва-ра» шпаны, сложившегося из вполне красивого юго-западно-руського говора русин, но через край сдобренного исковерканными заимствованиями из польского, румынского, венгерского, цыганского и еврейско-местечкого идиша, что нынче пытаются выдать за «настоящий украинский язык».
Так сложилась судьба северо-восточного наречия «руськаго языка» населения обширной акватории реки Великая, т. е. великороссов, что он превратился в общеупотребительный и в основной литературный язык народа в его четырёх главных этнографических частях «особливых» – каждого по своему географическому признаку и ничего с этим не поделать. По какой-то метафизической закономерности, не случайно именно на нём общаются практически все славяне между собой от Балтики до Адриатики и многие прочие народы в мире между собой. Русский – один из шести официальных языков делопроизводства в ООН. При том, что многие славянские языки и даже малороссийское наречие и русинские говоры «великаго рускаго языка» архаичнее, так сказать, «ближе к древности»…
Мария Алексеевна и сейчас говорит на русском с едва заметным, но характерным малороссийским выговором. И в литературном письме её нет-нет да и промелькнёт полное шевченковской ласковости слово. Напомню, кстати, для тех, кто усматривает в Малороссии «умаление», что, по нормам греческого дипломатического языка в средние века, «малая» означало коренная, исконная… Сравните, Малая Греция, Малая Польша и т. д. Пишет же она свои прозаические произведения, и всегда писала, на русском, пушкинском, гоголевском языке, на том русском языке, который обрёл свои нынешние вид и форму в гениальных произведениях Пушкина и Гоголя, называвшим себя «русским писателем малороссийского происхождения». Таковым считает себя и Мария Садловская, что, пожалуй, верно и справедливо. Вся суть её творчества говорит за себя. А литературным псевдонимом урождённая Мария Мальчук взяла себе девичью фамилию матери – Садловская – родом из тех же краёв в сторону Подолья и Волыни, где искони был свой особый уклад «руськой» жизни с его многочисленной трудящейся околичной шляхтой, жившей большими семьями в обширных сёлах с домами, хозяйствами, огородами и прудами впритык друг к другу – околицах – и с обрабатываемой землёй в окружавших весях. Ни дать ни взять, как семейства достопочтенных «старосветских помещиков» или миргородских дворян Ивана Васильевича и Ивана Никифоровича, столь печально повздоривших на всю жизнь из-за ржавого ружья и гусака, что и было увековечено в бытописании в известных произведениях Н.В. Гоголя.
Для человека русской цивилизации, не обязательно этнического русского происхождения и даже славянина, характерно особое почитание матери. Многие тысячелетии назад, в эпоху праславянских общинно-родовых форм государственности у всех предков этнической общности праариев главной богиней была – Мать-Родительница, богиня рек – времена праславянских вед, индийской Риг-веды, иранской и персидско-зороастрийской Авесты, предуготовившей своим фактическим единобожием переход дохристианских, но давно уже и не языческих славян-руси в зрелость всемирного христианства.
Связь с землёй, территорией для древних этносов-земледельцев, каковыми были славяне, очевидна в самом культурно-историческом архетипе руського народа (в значении всего этноса руси и русской цивилизации). Отсюда и Родина-Мать, «Матушка – сыра земля, кто её любит, то голоден не будет», «золотая колыбель», «она одна не выдаст», «возвращай ей долг – будет толк» и бесчисленное множество связей матери и земли в апокрифах, легендах, сказках, мифах, восходящих в древней праарийской эпохе за много тысяч лет до нашей эры.
Общим названием сборника стало наименование первой по счёту в нём повести «Тёмное время перед рассветом». И посвящена эта повесть автором «Светлой памяти моей мамы Катерины Григорьевны»… Той самой Катерины, урождённой Садловской, родившей дочь Марию в тяжелейший 1943 год, и выходившей детей в столь грозные годы, затем в послевоенную разруху. Память о матерях светла и священна, ибо это память и о многих ушедших, о родине и о родной земле…
Небольшой рассказ «Колыбелька из ивовых прутьев» носит здесь системный смысл для понимания всего творчества писателя. Советовал бы прочитать этот рассказ первым, чтобы понять, сущность всей книги, с её жизнеутверждающим началом. Рассказ автобиографичный. …Когда в село пришли каратели и многие селяне попрятались по округе вблизи своих домов, убийцы прошивали домики и хаты автоматными очередями и бросали в них гранаты. А среди схоронившихся была молодая мать в ужасе зажавшая кричащий рот, когда её домик пробивали пули из «шмайссеров», а в домике, в колыбельке из ивовых прутьев лежала новорождённая девочка, её малышка… Когда каратели ушли, она стремглав бросилась к хате да так и упала без сил в ощущении непоправимого: Господи, ну, младенец-то перед Тобой чем провинился?! Уж потом, когда пришла в себя и всё порывалась «покормить малышку», удерживаемая роднёй, а сынишка Коля, тем временем, уже успел рядышком с домом могилку наспех вырыть, и наконец-то до её сознания дошло, что могилка-то для малышки Маши предназначена, снова обморочно опустилась к земле, как вдруг послышался детский плач, и кинулась Катерина к двери, а за ней к простреленной колыбельке… Схватив ребёнка, она прижала его обеими руками к груди, как бы закрывая собой от вся и всех… – Баюшка ты моя… С тех пор девочку Машу называли Баюшкой, этим, ласковым прозвищем из прострелянного детства Марии Алексеевны…
Речь не о войне или лихих превратностях, кои бывают в жизни каждого человека, и даже не о нравственных уроках, что в целом так располагает читать эту книгу, а в том, что говорит она нам о главных ценностях бытия – о любви, сострадании и милосердии, и о необходимости в любых обстоятельствах сохранять своё человеческое достоинство, ибо ценность человека дана ему от рождения, а, вот, достоинство и надо «заработать» – как проживаешь свою жизнь – таково и достоинство будет твоё. Именно эта суть так притягивает людей и навеки влюбляет читателя в рассказы Тургенева, Шолохова или Шукшина, Шпаликова и Валентина Распутина… или в кинокартины «Журавли», «Судьба человека» или «Любовь и голуби». И нет никаких псевдоинтеллектульных делений единой русской литературы на «дворянскую» и «рабоче-крестьянскую», на «деревенскую» (придумают же!) и «городскую». Есть одна – почвенническая и вне её даже талантливый русский писатель иссякает без соков своей земли, почвы и начинает ветшать в смыслах, ищет в потугах затейливость сюжетов и необычность для привлечения интереса со стороны «книгопродавцев», как это случилось с русским писателей Набоковым, написавшим англосаксонскую «Лолиту», да именно на английском языке в своей европейской эмиграции. Тургенев куда больше «деревенский» писатель, по этим странным «делениям», нежели Валентин Распутин, Василий Белов или Фёдор Абрамов и Виктор Астафьев.
Возникает вопрос: так зачем заниматься изобретением каких-то «делений»? Видимо, нужно это тем, кто не является собственно, русским писателем, не в этническом смысле, по сути, по духу своего творчества. Однако же быть сопричисленным именно к русской литературе – это же так престижно, так авторитетно, и … может оказаться очень выгодным, когда написанное ничего общего не имеет с русской литературой, но написано на русском языке, и надо бы продать с выгодой на рынке денег ради или с иными целями, но тоже за деньги и за известность. Василий Белов как-то в беседе на мой вопрос о том, что такое русский писатель, ответил коротко: русский это тот, кто любит русский народ. И «русский» здесь, конечно, – это вся наша цивилизационная система, наш историко-культурный архетип, со всей нашей историей, какой бы она ни была.
Неважно, куда человека забрасывает судьба, важно, чтобы он себя сам не потерял. Русское цивилизационное пространство очень велико географически, оно включает себя и Карпаты, и Алтай, и Прибалтику и Северный Кавказ, Степь и Сибирь, и Дальний Восток. Оно отмечено одним или сходными архетипическими маркерами. Вот почему массовые перемещения людей по всему этому пространству не привели к распаду этого пространства (цивилизационное – организованное по определённому принципу и по определённым системам ценностей). Люди не теряют «связи с землёй», с почвой при этих перемещениях. Даже когда их принуждают насильно отказаться от своего языка, культуры, самостоянья (пушкинское слово!). Такова особенность и русского писателя. В «дальнем зарубежье» он – эмигрант, но «ближнего зарубежья» на самом деле не существует и это понятие – сугубо искусственное, политически мотивированное временщиками. Вот почему, русские писатели Прибалтики есть часть нашей общей современной «материковой» русской литературы… Вот почему, малороссийская девушка, воспитанная на основах общей русской культуры, переехавшая много десятилетий назад в Эстонию в связи с замужеством, когда в личном паспорте появилась её новая, по мужу, фамилия – Розенблит, осталась всё прежней, русской по духу и мироощущению человеком. А судьба сподобилась подвести её уже в очень зрелом возрасте к письменному столу, вручить перо, чтобы на бумагу легли строки её первого рассказа «про жизнь», кажущуюся обычной, но вдруг обнаруживающей удивительно притягательную свою ипостась, благодаря мастерству писателя призвавшего: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!»…
Автор смолоду до самых зрелых лет писала стихи, но кто же знал, что истинный талант всё же кроется в совсем другом литературном жанре, и что уже на склоне лет на полках московских книжных магазинов появятся одна за другой пять книг прозы под авторским псевдонимом «Мария Садловская» от одного из крупнейших российских издательств, пригласивших русского писателя Эстонии на пятилетний контракт по изданию её книг…
Владимир Илляшевич,
секретарь Союза писателей России
(Эстонское отделение),
Таллин
Повести
Тёмное время перед рассветом
Светлой памяти моей мамы,
Катерины Григорьевны
Когда-то, при старом правительстве, в этом месте хранилась всякая всячина для нужд войсковой части. Летом жизнь оживлялась – открывался оздоровительный лагерь для школьников, детей военнослужащих, под названием «Звезда».
Для новой власти остались почерневшие от времени, ни к чему непригодные, деревянные домики. Сверкавшие раньше на солнце серебром буквы «Звезды» приобрели грязно-серый оттенок и стали совсем незаметными. Кому-то из власть имущих пришла мысль открыть здесь дом для престарелых. Злые языки поговаривали, что одному из начальников надо было куда-то пристроить старую тёщу…
В скором времени подгнившие доски заменили новыми, утеплили стены, обновили канализацию. Строения покрасили, обнаружив в одном из сараев запасы краски. И заброшенные ранее домики вновь засверкали, радуя глаз.
Директором назначили чиновника из районной администрации Игоря Васильевича Кружкова. Тот был рад-радёшенек, потому как в скором времени ему предстояло уйти на пенсию, а на новой должности надеялся ещё поработать.
Обслуживающий и медицинский персонал определился быстро: в крае, как и везде, процветала безработица.
Открытие заведения прошло тихо и незаметно. Для торжеств было не то время – многие ещё не оправились после так называемой «перестройки». Поэтому чиновники из района представили директора, пожали всем руки и поспешили уехать.
Первые обитатели заведения начали поступать сразу же.
Народ был разный: выжившие после инсульта, инвалиды с рождения и просто старики, не могущие себя обслужить. Хотя никто из них этого не признавал:
– Сын достраивает дом, ещё немножко осталось, и приедет за мной. Заберёт домой, – ежедневно сообщала соседкам по комнате Наталья Фёдоровна Кизлякова. Она ещё сама себя обслуживала и даже пыталась помогать нянечкам в уборке комнаты.
В отчётных документах дом престарелых всё ещё именовался старым названием школьного лагеря «Звезда». Затем «сверху» поступило настоятельное предложение переименовать учреждение, дабы не пропагандировать бывшие символы.
Благодарный теперешней власти, Игорь Васильевич совместно с женой Валюшкой придумал дому престарелых название «Закат». Безмолвное, смирное «Закат» заменило отдающую пролетариатом «Звезду». Гордый своим авторством Игорь Васильевич справедливо ожидал от начальства поощрения. Но неожиданно к нему в кабинет пришла делегация от обитателей вверенного ему учреждения, чему он искренне удивился…
Делегация была разношерстной, начиная от одноногого деда Петра на костылях и заканчивая всегда поющим дурачком Вадиком. Говорила от ходоков бойкая и полюбившаяся всем медсестра Настюша:
– Игорь Васильевич, все требуют другого названия для нашего приюта! – (Старики упорно называли учреждение «приютом») – Никто не хочет этого «Заката». И даже некоторые боятся!.. Не по-Божески это!
Затем Настя с невинным выражением на лице смиренно предложила:
– Уважаемый Игорь Васильевич! Мы здесь посоветовались и решили, пусть наш дом называется «Зорька». Пожилые люди привыкли вставать рано, на зорьке…
Все выжидательно смотрели на директора. Тот озабоченно нахмурил чело, мысленно произнёс несколько раз слово «Зорька», не найдя аналогии с «пролетариатом», важно кивнул головой в знак согласия. Настя оглянулась на свой отряд и нарочито громко произнесла:
– Вот видите, я же говорила, что наш директор понимающий человек!
Приём нового жильца всегда был событием для всех.
Сегодня новую жиличку привезли из ближайшего села Зорянское. Старушка была слепой. Сопровождали её председатель сельсовета и молодая девушка Катя. Пока Варвара Поликарповна, старшая медсестра, оформляла документы, Катя отозвала Настю в сторону и взволнованно заговорила:
– Баба Ксения не хочет, чтобы дочки узнали, что она ослепла. Опасается – заберут её тогда к себе за границу, они там живут. А она призналась мне, что кого-то ждёт. Уже давно ждёт. Поэтому не может уехать. Вообще-то ей скоро восемьдесят, может, и с головой что-то не в порядке… – Кате стало неловко, она на время замолчала, затем продолжила. – У неё сумочка с письмами, она её из рук не выпускает. Будет просить почитать ей вслух. Там последнее письмо, я сама написала, будто бы от дочери Наташи. Потому что бабка каждое утро стоит у ворот, меня выглядывает. Я почтальоном работаю. Дочки не часто пишут. Будешь ей перечитывать – добавляй что-нибудь от себя. Я писала на скорую руку. А вон уже и председатель идёт, будем домой двигать… Да! В паспорте бабы Ксении бумажка с адресами дочек, я положила. На всякий случай. Ну ладно, бывай!
Ксению Ивановну в пятую палату привела медсестра Настя. В углу, за дверью, была свободная койка, там бабушка Ксения и расположилась. Сразу пришлась всем по душе. В первый же день успела рассказать, что не одинока, ни-ни! Есть две дочери, но живут далеко… Все заметили, что Ксения Ивановна совсем не видит. Только свет электрической лампочки различает. Поэтому и оказалась здесь.
– Если бы узнали дочки, что я ослепла, мигом бы приехали, забрали! Но я не признаюсь. Пусть поживут спокойно.
Валентина Петровна, как всегда пребывающая в плохом настроении, язвительно протянула:
– Поня-я-тно! Всех отсюда позабирают дочки, сыновья. Я одна останусь. Меня никто не возьмёт… И правильно сделает! Кому я нужна не ходячая, в коляске?!
Бабуся Кизлякова не выдержала:
– Я извиняюсь, Петровна! Знаю, что ты раньше работала на умственной работе. А вот отчего такая злая – не пойму! Не дашь людям порадоваться!
Сама Кизлякова считала долгом по утрам задавать настроение своим соседкам. Начинала с рассказа, что видела ночью во сне:
– Мой Юрик наконец-то достроил дом. Приезжает за мной на серебристой, точь-в-точь, как у директора приюта, машине и мы с сыном уезжаем домой!.. А вы все будто должны приехать на следующую неделю ко мне в гости… И в аккурат в этом месте наша Верка закашлялась, а я проснулась!
Валентина Петровна ворчливо заметила:
– Ты уже несколько раз это рассказывала! Забыла разве?
– Значит сбудется! – быстро нашлась рассказчица.
Сон Кизляковой был в руку. Ближе к вечеру к ним в комнату ввалился мужчина неопределённого возраста, с синяком в пол-лица. Следы тяжёлой жизни отразились также на его подорванном опухшем ухе. Оглядев всех мутными глазами, задержался на Кизляковой, опустился на ближайший стул и заплетающимся языком выговорил:
– Вот, пришёл… Маманя, помоги! Дай денег!
В комнате зависла тишина. Женщины смотрели друг на друга. Кто-то спросил:
– Это к кому?
Ответ нашёлся у Валентины Петровны:
– Это к нашей Кизляковой. Там, во дворе, наверное, серебристая машина стоит?
Никто не улыбнулся. Все сочувственно глядели на Кизлякову. Та как-то враз съёжилась, стала меньше ростом, беспомощно переводя взгляд с одной женщины на другую… После паузы обречённо молвила:
– Да, это мой Юрик.
Прикорнувший к тому моменту Юрик встрепенулся и, твёрдо блюдя свой интерес, как мог, членораздельно подтвердил:
– Да! Я – Юра! Мамань, долго не приходил, цени! У тебя собралась пенсия, дай! Не всё высчитывают в бухгалтерии, я знаю!..
Кизлякова вытащила из-под подушки узелок, отвернувшись от сына, стала развязывать. Руки её дрожали, развязать не получалось. Жаждущий Юрик нетерпеливо бросил:
– Да не развязывай! Давай так, потом развяжу, – и протянул было руки за узелком.
Но неожиданно в диалог вступила всё та же Валентина Петровна. Она подъехала коляской близко к Юрику, чуть ли не задев колесом его ногу, и приказным тоном бывшего физрука школы выдала:
– Ты получишь денег ровно на билет, доехать домой. Ещё на хлеб. На остальное – сам заработаешь! Ещё раз в таком состоянии приедешь к матери, лично сдам в милицию!
Юрик озирался вокруг в поисках справедливости. Не найдя её, впал в глубокое уныние, но затем его взгляд опять вернулся к заветному узелку и уже намертво прикипел к нему.
Валентина Петровна повернулась к Кизляковой и мягко молвила:
– Дай, Наташа, я развяжу! – и, передавая в руки Юрику деньги, добавила: – В следующий раз замечание будет физическим! Не гляди, что я на коляске! Понял?
Во время дискуссии новенькая Ксения Ивановна с надеждой в голосе периодически вопрошала:
– Кто-то к нам пришёл? Я ничего не вижу, только слышу мужской голос… Нет, наверное, не ко мне это…
* * *
Спустя время молва о приюте «Зорька» вышла за пределы района. В бухгалтерии лежал длинный список из ожидающих свободного места. Пришлось пристроить к кирпичному дому, где находилась администрация, дополнительное помещение. Это позволяло иметь в запасе свободные места в приюте.
Появились здесь свои старожилы, радеющие за порядок в их маленьком обществе. Одним из таких был дед Петро Николаевич. С одной ногой он передвигался на костылях. Второй ноги лишился десять лет назад, попав под машину. После смерти жены продал дом и перешёл жить к сыну с невесткой. Но почувствовал себя лишним, попросился сюда.
Со временем по следу хозяина за ним пришёл его пёс Борман. Под стать хозяину, он прыгал на трёх ногах. Не было до половины передней лапы. Как поведал Петро Николаевич, попал Борман когда-то в капкан.
Соорудил дед рядом с сараем, где была им же ранее оборудована кладовка, своему питомцу будку, и Борман чувствовал себя хозяином на вверенной ему территории.
В летнюю пору дед Петро и пёс заступали «в ночь на вахту». Что они сторожили – никому неизвестно, в том числе и им самим. Утром, после завтрака, Петро Николаевич, с чувством исполненного долга, ложился в своей комнате поспать после «ночной смены».
Периодически в их мирный, тихий приют приходила «беда». Её принимала старшая медсестра Варвара Поликарповна.
«Беда» долго не задерживалась на территории приюта. Через пару часов из районной больницы приезжал фургон и покойника увозили. После этого какое-то время все ходили потерянные, избегая смотреть в глаза друг другу. Потом прибывал новый обитатель и жизнь возвращалась в привычное русло..
В пятой палате вошло в привычку вечером, после ужина, если никто не болел, что-нибудь рассказывать. Рассказывали не все. Баба Вера обычно отмалчивалась, но с интересом слушала других.
Расспрашивать было не принято. Не принято было «плакаться». Бабуся Кизлякова попыталась было после визита Юрика пожалиться, как его одна растила, но всегда бдящая Валентина Петровна сразу же прикрикнула:
– Кончайте здесь нюни распускать! Этого нам ещё не хватало!
Все умолкли, а Петровна в продолжение темы предложила:
– Рассказываем каждый что-нибудь весёлое, что поднимет настроение. Я завтра расскажу про случай на уроке физкультуры у меня в десятом классе. До сих пор все помнят!
Ксения Ивановна, будто получив задание, пыталась отыскать в своём прошлом что-нибудь смешное – не получалось. Хотя представшая перед глазами картинка прошлого была настолько яркой, что женщина даже зажмурилась…
* * *
Начало 1942 года. Замершие в ожидании люди: немцы вот-вот должны появиться. Эту новость из соседнего села, помнится, первой принесла Полькина Анисья, сообщив о немецкой полиции, разместившейся в соседнем селе Озерки:
– Полиция как бы немецкая, но полицаев набирают из наших. И начальник у них тоже наш. Какой-то Бойчук. Девки говорили, что молодой и очень красивый. – Анисья перевела дух, подытожив, – ну вот, вроде всё рассказала!
Помнится, дед Захар в порыве патриотизма выкрикнул:
– Главное, не красивый, а предатель! Вешать таких надо!
Его баба Настя тогда перепугалась:
– Замолчи, старый дурень! Тебе какое дело? – Обернулась к соседям, просительно заглядывая в глаза каждому, оправдывалась, – не слушайте его, люди, он сегодня с утра стакан самогона вылакал, вот и несёт не знамо чего!
Затем схватила упирающегося деда за рукав и потащила домой, приговаривая:
– Советы не посадили, так при немцах дуралея угрохают!
Немцы появились на следующий день. Их колонна из грузовиков и танков с чёрно-белыми крестами остановилась перед сельсоветом. Люди, попрятавшиеся в домах, отгибали уголок занавески на окнах и подглядывали. Помнит Ксеня, что немцы стали из машин бросать что-то на дорогу. Все стали выходить во дворы, опасливо озираясь по сторонам. Постепенно подошли ближе к колонне. На земле, под ногами, лежали яркие бутылки с одеколоном и плитки шоколада. Это то, что бросали немцы из машин.
Незнакомый чужой мужик в добротных сапогах и галифе великодушно разъяснял:
– Можете брать себе одеколон, шоколад. Это вам паны солдаты бросили.
Тогда Колька успел подхватить флакон одеколона. Долго ещё стояла разрисованная яркими цветами пустая бутылочка. Ксюша приспособилась заливать туда простую воду, через какое-то время из флакона исходил запах, похожий на одеколон….
Затем немецкий офицер поднялся на ступеньку грузовика, намереваясь говорить с народом, как вдруг необычная процессия привлекла к себе всё внимание. Ксеня помнит, как они с подругой Зиной даже рты разинули. Да и не только они.
Дед Захар в начищенных ваксой сапогах и в белой сорочке с вышитой крестиком манишкой на вытянутых руках держал буханку чёрного хлеба, присыпанную сверху щепоткой соли. Из-под буханки свисали два конца рушника, расшитого петухами. Его жена Настя опасливо выглядывала из-за плеча деда, что-то бережно поддерживая двумя руками в широком фартуке. Сельчане переводили недоумённые взгляды с деда Захара на бабу Настю. Очумелые немцы на всякий случай взялись за автоматы. Затянувшуюся паузу прервал дед:
– Дорогие наши паны немцы! Мы рады, что вы наконец пришли! Но даже нечем встретить таких дорогих гостей! Эти… (баба больно толкнула локтём деда в бок и тот заменил нецензурное слово) окаянные советы всё у нас отобрали. Вот, возьмите хоть буханочку хлеба и десяток яичек!
Яйца находились у бабы Насти в фартуке. После речи мужа она осмелела и торжественно подошла к офицеру. Тот оторопело посмотрел на яйца в переднике и перевёл вопросительный взгляд на переводчика, мужика в галифе. Переводчик спас положение. Хлеб взял от деда и передал солдатам, с машины соскочил немец, подошёл к бабе Насте и переложил яйца себе в каску, несколько раз повторяя: «зер гут».
Ксюша с Зиной, боясь расхохотаться вслух, прикрыли рты ладонями. Но дальше было вовсе не до смеха. Пан офицер всё-таки держал речь. Никто не понимал немецкий язык, просто слушали гортанные чужие звуки. Потом надоело… Затем переводчик огласил сказанное немцем:
– С этого дня у вас в селе действует немецкая власть. Если кто-либо попытается вредить панам немцам – тот будет расстрелян. Каждый двор должен помогать немецким солдатам в благодарность, что они освободили вас от советов. Помощь можете оказывать в виде провизии, как то – яйца, сало, куры, гуси и прочее. И ещё. Немецкое командование объявляет набор юношей и девушек, которые пожелают работать на благо великой Германии. С завтрашнего дня в сельсовете начнут регистрировать желающих. Если вы будете выполнять все требования панов немцев, вас никто не тронет. Примером сегодня может послужить хозяин, поднёсший солдатам хлеб и яйца. Его мы назначаем вашим старостой…