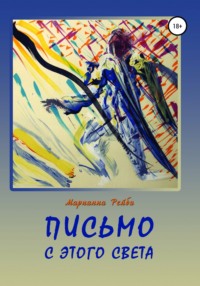Kitabı oxu: «Письмо с этого света»
От кого: Васильев А.Д. <aleksavasil*@ya.ru>
Кому: Сидоренко В.П. <sidorenko_vl*@mail.ru>
13 мая 20**, 18:10
Здравствуй, Владимир!
Как поживаешь? Прости, что так долго не звонил и не писал, но сам понимаешь, в каком ритме мы все теперь живем. Все мои здоровы, шлют тебе привет. Супруга просила узнать, не надумал ли ты жениться? Смотри, психиатру просто необходим надежный тыл, да ты и сам прекрасно знаешь.
Пишу тебе не просто так. Моя племянница (она сама из Самары, сейчас в Москве в институт поступила) переслала интересную штукенцию. Посмотри, может быть, пригодится для твоей докторской диссертации.
Обнимаю, твой друг Александр.
Этот свет
Одним движением руки остановив вагон,
В метро спускался с верхней станции сошедший
Слегка взволнованный и призрачный, как сон,
Голодный, нищий, пьяный ангел сумасшедший…
(Из песни группы ДМЦ)
1
Здравствуйте, господа! Впрочем, не знаю, зачем я это написал. Ведь слово «здравствуйте» подразумевает, что я желаю вам здравствовать, а мне, откровенно говоря, все равно, больны вы или здоровы. Кто знает, возможно, вы скоро умрете. И, поверьте, это вряд ли по-настоящему огорчит меня. Ведь я даже не уверен, что имею честь беседовать с вами. Вообще вряд ли кто-нибудь станет читать эту писанину, так что пишу для себя. Пишу лишь затем, чтобы отвлечься от боли. Боль пронизывает все тело и долбит дятлом то в висок, то в руку, то в живот. Нет, я не собираюсь тут распускать нюни. Но мне надо выговориться, тем более что на самом-то деле разговариваю я сам с собой. Вы – лишь прикрытие моего одиночества, плод воспаленного воображения. В конце концов, согласитесь, намного приятнее обращаться к кому-то, а не плеваться словами в пустоту, будто ты и впрямь сумасшедший. Хотя не вижу в этом звании ничего зазорного. Сумасшедший – всего лишь сошедший с ума и ушедший в лабиринты подсознания. А подсознание, как известно, хранит в себе куда больше знаний и понимания, чем наши скрупулезно заправленные ерундой мозги.
Итак, раз уж я обращаюсь к вам, господа, позвольте представиться. Когда-то мое первое имя было Самаэль, но об этом теперь мало кто помнит. Зато мое второе имя знают все: Люцифер. Он же дьявол, сатана, лукавый и как еще вам будет угодно обзываться. Да-да, не удивляйтесь! Я знаю, в детстве мама говорила вам, что дьявола не существует. Это она так, лгала во благо, а сама не раз поминала меня недобрым словом, пропустив очередь к терапевту или застряв каблуком в гармошке эскалатора. И совершенно напрасно, ведь к чему-чему, а к этому я ни малейшего отношения не имел.
Впрочем, к делу.
Несколько тысяч лет назад мне был отвешен увесистый пинок, память о котором хранит незримый след на правой ягодице. Сброшенный с небес, я кубарем летел со скоростью света, пока не врезался в землю. Хоть я на тот момент еще не имел тела, не знаю, чем обернулось бы для меня падение с такой высоты. Но мне повезло – я свалился в Тихий океан. После моего падения на земной коре осталась приличная вмятина, скрытая под толщами воды.
Я долго не мог оправиться. Лежал без движения, скованный отчаяньем и бессильем, и в бешенстве грыз океанское дно. Так провалялся я то ли несколько часов, то ли несколько сотен лет, воя от боли и унижения, пока, наконец, горе и усталость не одолели меня и не погрузили в сон. Увы, забытье не длилось вечно.
Я родился. Как это было в первый раз, уже не помню, да это и не так уж важно. Ведь ни в одном из земных воплощений мне не довелось совершить ничего сколько-нибудь выдающегося. Скажу только, что каждый раз, умирая и заново рождаясь, я напрочь забывал о пройденном земном пути, равно как и о том, кто я есть на самом деле.
Что же до моей текущей жизни, она мало чем отличается от всех предыдущих. Только на этот раз мне-таки удалось вспомнить о своем подлинном «я» – вот и вся разница. Собственно, об этом моя история.
2
Меня родила обыкновенная, ничем не примечательная женщина, уроженка Санкт-Петербурга. Я жил в маленькой питерской хрущевке неподалеку от Сенной площади. Разумеется, я не помнил своего прошлого и вел образ жизни, какой подобает вести девчушке из интеллигентной малообеспеченной семьи: пытался учиться, высасывал книги одну за другой и страдал от несовершенства мира.
Да, вот еще один сюрприз для вас, господа, – я женщина. По крайней мере об этом свидетельствует мое анатомическое строение и вполне традиционная сексуальная ориентация. Прошу, не удивляйтесь, что я говорю о себе в мужском роде. Просто я уже столько раз перебывал на земле и «им» и «ею», что по психотипу я – чистый андрогин. Да кроме того и происхождение сказывается, ведь там я пола не имел. Нет, не подумайте, в быту я говорю о себе, конечно, в женском роде, равно как и откликаюсь на него. Но раз уж я решил быть с вами откровенным до конца, буду говорить о себе так, как сам чувствую.
Cogito, ergo sum1. Я бы к этому еще добавил – я помню, следовательно, существую. Сколько мне тогда было? Года полтора, наверное. Я стою босыми ногами на теплом полу у окна. На мне светлая пижамка в мелкий красный цветочек. На стене на гвоздике висит бежевый шарф и маленькая серая сумочка с бахромой… Тот момент стал пробуждением моего очередного «я», первым воспоминанием новой жизни. Не мама, не папа, а вот это, дурацкое – шарфик с сумочкой на стене. Забавно, не правда ли?
Поначалу я был вполне счастлив. Родители во мне, единственном и позднем ребенке, души не чаяли. Несмотря на более чем скромные средства, они старались по возможности снабжать меня игрушками и сладостями, чтобы я был, что называется, не хуже других. Впрочем, я редко играл с куклами и плюшевыми зверьками, которые быстро приедались. Куда больше я любил играть с матерью без каких-либо действий, используя лишь слова и воображение. Мы придумывали целые сказочные сериалы, я озвучивал одних героев, она других, и мы заставляли их двигаться, чувствовать, жить.
Если мать поднимала бунт, я, хоть и с меньшим энтузиазмом, играл сам с собой – как правило, выступая сразу в двух-трех лицах: Мачехи и Золушки, плохой девочки Маши, хорошей Кати и их строгой воспитательницы, ну и все в таком роде. Но об этих моих представлениях в лицах никто не знал, потому что во время такого рода саморазвлечений я мог заниматься совершенно посторонними делами, лишь тихо бурча себе под нос.
Страсть к фантазиям доходила у меня в раннем детстве чуть ли не до галлюцинаций. Мне порой казалось, что я и вправду вижу сказочных чудовищ, которых придумал. Первая такая галлюцинация посетила меня года в три и запомнилась на всю жизнь. Июньский вечер. Я стою на пороге нашей небольшой дачки и смотрю в сереющее небо. И вдруг на горизонте появляются полупрозрачные великаны, облаченные в коричневые рясы с капюшонами. Великаны вереницей двигаются метрах в ста от меня. Они выше самой высокой сосны. И вдруг первый из них, самый отчетливый, круглолицый и бородатый, наклоняется и с улыбкой манит меня пальцем. В ужасе я бросаюсь искать маму и прижимаюсь к ее коленям, чтобы утишить дрожь. Но я не признался в том, что так напугало меня. Шестое чувство подсказывало: она начнет убеждать, что мне все померещилось. А мне этого почему-то не хотелось.
В детстве нас неизменно влечет к страху. Детский страх живет повсюду: царит в темной комнате, прячется в шкафу или под кроватью, выглядывает из глубин вечернего дачного участка, смотрит на нас со страниц запретных книг. В детстве мы не можем спрятаться от страха нигде, потому что сами с наслаждением порождаем его.
Вся наша небольшая квартирка была воплощением ужаса. Детские страхи взрослым кажутся смешными, потому что их вызывает не реальная угроза, а те вещи и явления, которые по каким-то причинам были распознаны подсознанием как сигналы опасности. Я, например, панически боялся темных капюшонов. Так, увидев на картинке в детской книжке «Мифы Древней Греции» бога смерти Танатоса, я стал бояться его только потому, что изображен он был в черном плаще с капюшоном. Он немедленно поселился у нас в туалете, прямо за дверцей, открывающей доступ к канализационным вентилям. Пока горел свет, Танатос не смел вылезти наружу, но я знал: стоит свету потухнуть, тут-то он и появится. Не дай бог кто-то по ошибке выключит свет в туалете, когда я там…
Другое воплощение ужаса обитало прямо за моей кроватью. Человек в Серой Шляпе. Чуть ли не каждый вечер я с замиранием сердца ждал, что сейчас на спинку кровати плавно лягут руки в белых перчатках и вслед за ними поднимется Серая Шляпа с широкими полями… Дальше воображение отказывалось работать, ведь мне уже не могло стать страшнее.
Верить в домовых и полтергейстов, конечно, глупо, но не менее смешно не верить в приведения. Ведь «привидение» от слова «привидеться», а привидеться может все что угодно, если к тому располагает психическое состояние. Мистический страх для человека – наркотик, желание заглянуть за черту, но именно он – страх не пострадать, но увидеть – есть один из сильнейших: страх перед безумием.
И все же очень скоро мне довелось убедиться, что есть ощущения куда более неприятные, чем родные и близкие страхи…
3
…Отверженность и бессильная злоба. Об их существовании я узнал при первом же столкновении с социумом, когда, как все дети, пришел «первый раз в первый класс». Я стоял на линейке, сжимая в руках огромный букет цветов, из-за которого мне ничего не было видно. Мне было диковинно и неуютно в эпицентре копошащейся незнакомой жизни, которая засасывала меня, вырывая из привычного интимного мирка доброты и семейного уюта.
Тогда я, конечно, еще не понимал, что именно со мной происходит и отчего предательский комок то и дело подступает к горлу. Ища поддержки, я осторожно скосил глаза в ту сторону, где должна была стоять мама, но ее там уже не было. Я понял, что остался один на один с враждебным миром чужих людей. Сердце упало, слезы подступили к глазам и назойливо защипали в носу. Первым порывом было кинуться на поиски того единственного, что составляло до сего момента центр моей вселенной, но я остался стоять, стараясь как можно незаметнее вытирать влагу из глаз и ноздрей о прозрачную упаковку цветочного букета.
Знаю-знаю, вы уже зеваете, господа, ведь нет ничего утомительнее, чем чужое нытье о фрейдовском детстве, из которого так-таки и вытекают все последующие невзгоды. Каждый из вас и сам не дурак рассказать, как его несправедливо ставили в угол или того хуже – дразнили жирной свиньей, чем нанесли неизлечимую рану его хрустальной душе. Но потерпите еще немного: раз уж я решил обо всем рассказать, нельзя устраивать из воспоминаний чехарду.
Итак, вскоре оказалось, что на этом свете любят меня далеко не все. Если раньше со мной обращались как с пупом земли, то теперь я был не более чем мелкий хрящик в огромном, закоснелом организме. Как только я (надо признаться, каждый раз не без борьбы) выдворялся за пределы спасительной квартиры, я терял право на самость и превращался в рядового члена коллектива.
До сих пор задаюсь вопросом, что же это такое – жизнь в современном коллективе? Вряд ли ее можно назвать сосуществованием индивидуальностей или неким единением людей. Скорее это искусственно созданное уродство – наподобие несчастной собаки, в шею которой вживили вторую голову. Увидев ее чучело в музее естественных наук, я содрогнулся, представив, как эти головы грызли друг друга за право похлебать из миски ради насыщения одного общего желудка. То же и в коллективе. Ты больше не можешь быть самим собой, парализованный прилепленным к тебе Другим. Самосознание постепенно покидает тебя, уступая место бесконечной череде социальных действий, и ты, уподобляясь животному, растворяешься в массе, теряя свою отдельность, забывая о том, что существуешь.
В зомбированном мире школы действуют все те же законы коллектива. Стань как все или будешь раздавлен – вот девиз, которым руководствовались мои большие и маленькие мучители, не понимая, что я, может, и хотел бы стушеваться, уравняться под гребенку, но у меня не получалось. Как бы я ни хитрил, как бы ни притворялся, у меня на лбу стояла печать чужака, вызывавшая подсознательный страх и неприязнь.
Однако постепенно приспосабливаешься ко всему. Вместо того чтобы раствориться в биологической массе, я научился прятаться в вакуум собственного «я», абстрагируясь от внешних раздражителей. Не подвел и организм – я начал часто и затяжно болеть. Если в радиусе километра появлялась хоть одна инфекционная бацилла, я немедленно ее улавливал, с наслаждением предвкушая дни выздоровления, когда боль и жар отступают, но слабость еще не позволяет покинуть ласковые объятия постели. Тогда я мог вдоволь читать, слушать музыку и придаваться грезам о том времени, когда стану взрослым, а жизнь – легкой и приятной.
4
«Человек создан для счастья, как птица для полета» – ни в чем я не был так уверен, как в истинности этого общеизвестного тезиса. Только полет этот никак мне не давался. Я не чувствовал себя счастливым. И поскольку я не ощущал счастья, то полагал, что я несчастлив.
С ранних лет во мне начали проявляться кокетство и интерес к противоположному полу. Правда, поначалу стремление это было предельно абстрактным, размытым, не сосредоточенным на реальном окружении, а направленным скорее на умозрительные образы. Герои книг и кинофильмов волновали меня куда больше, чем одноклассники, казавшиеся некрасивыми, глупыми и противными. Увы, это вовсе не значило, что мне было наплевать на их мнение обо мне…
Переходный возраст сыграл со мной злую шутку, превратив в гадкого утенка. Я был убежден, что все мои несчастья происходят от внешности, и мечтал о красоте как о единственном спасении. Что я только не пытался с собой сделать, чтобы стать привлекательнее! Румянил щеки, выщипывал брови, придавал ногтям разнообразные формы… Однажды даже ухитрился выбрить себе широкую полосу волос, чтобы лоб казался выше. Стоит ли говорить, что из этого вышло и сколько мне пришлось претерпеть, прежде чем волосы отрасли обратно.
В отрочестве особенно ранят вещи, которых взрослый просто не заметит. Я изо всех сил старался выглядеть безупречно. Самым тщательным образом оглядывал одежду прежде чем ее надеть. Не менее тщательно разглядывал себя в зеркале перед тем как выйти на улицу. Чистился, причесывался, подкрашивался и прилизывался как только мог. Но почему-то всегда что-нибудь оказывалось не в порядке. То моросящий дождь превращал мои гладкие, расчесанные волосы в растрепанную метелку. То я вдруг обнаруживал у себя на одежде пятно, которого перед выходом из дома и в помине не было. То предательский прыщ приводил меня в состояние, близкое к отчаянию. В общем, все то, что происходит каждый день со всеми, тогда представлялось моим индивидуальным проклятием. Безупречный внешний вид казался божьим даром, который мне никогда уже не достанется.
Тем не менее настал момент, когда моя заветная мечта начала сбываться. Уже годам к пятнадцати я достиг среднего роста, мои ноги вытянулись, бедра округлились, детский вздутый живот пропал. Прилегли ранее торчавшие уши, постепенно исчезла столько лет мучившая перхоть, черты лица, утратив былую размытость, стали более четкими и правильными. Однако я не сразу заметил эти перемены. Да и окружающие тоже. Ведь красота приходит не вдруг, она формируется постепенно, и увидеть эти изменения может только тот, с кем ты давно не виделся. Меня же окружали люди, с которыми приходилось встречаться постоянно: одноклассники, соседи, ребята из деревни, куда меня каждое лето увозили отдыхать. Они не замечали происходивших во мне изменений, а если и замечали, то предпочитали не менять приоритетов, дабы не оказаться в глупом положении. Однажды заработав себе репутацию изгоя, избавиться от нее практически невозможно. Оказалось, не имеет значения, как я выгляжу, как веду себя, как отвечаю на уроках. Ненависть ко мне всего школьного коллектива к этому времени уже достигла апогея, то и дело взрываясь скандалами крупного или мелкого масштаба. Они видели во мне угрозу своему устоявшемуся мировоззрению, чуяли иную природу, а сам я, сознавая это, в душе гордился своей исключительностью.
5
«Человек создан для счастья, как птица для полета»… Когда эта фраза стала моей мантрой, всосалась в кровь и закодировала сознание?.. Думаю, навязчивая жажда счастья проникла в меня одновременно со своим неотъемлемым спутником – чувством смерти.
Люди умирают. Я узнал об этом года в три, и мне это как-то сразу не понравилось. И хотя мне рассказали, что умирают рано или поздно все, я долгое время никак не мог себе этого представить. В глубине души я продолжал надеяться, что этой участи некоторым все же удается избежать и что эти кто-то – я и все, кого я люблю. Поэтому я отмахивался от мыслей о смерти, как от назойливой мухи, надеясь на их абсурдность и не имея душевных сил смириться с ними…
Вытянутый белый зал освещает холодный свет энергосберегающих ламп, неприятно смешиваясь с блеклыми лучами ноябрьского солнца. Медленным гуськом толпа людей проходит в двери, вытягиваясь шеренгой по всему периметру помещения. Я среди них. Мне чудно́ и пусто. Я бесстрастно смотрю на лакированный черный гроб на небольшом возвышении посреди зала. В нем, одетый в свой лучший костюм, лежит мой отец. Думал, будет страшно, но нет. Мне кажется, я спокоен как никогда, словно нахожусь в кинотеатре и смотрю фильм в стиле арт-хаус. Отца трудно узнать в этой красивой восковой маске, когда-то бывшей его лицом. Бескровная и невозможно спокойная, она подавляет величием. В ушах звенит от застывшего в воздухе напряжения. Что-то бубнит священник, но по лицам видно, что его никто не слушает. Вперед выходит моя мать с охапкой багровых роз и неуверенно подходит к гробу. Уронив цветы отцу на грудь, она сгибается как от удара под дых, и я, словно издалека, слышу вырывающийся из ее груди повизгивающий вой. Мне неловко за нее. Она пытается заткнуть рот носовым платком, чьи-то руки подхватывают ее под локти и уводят к стене. Священник, пытаясь заглушить ее горькие всхлипы, гундит все громогласнее. Все крестятся, я тоже пытаюсь, но никак не могу сообразить, какой рукой и как это правильно делать. Для меня этот жест в новинку и не несет никакой смысловой нагрузки. Я повторяю его из вежливости, чтобы не привлекать внимания. Одна из лямок висящей на плече сумки предательски сползает и повисает вдоль бедра. Я не поправляю ее – боюсь лишним движением нарушить торжественность момента. Мой сосед по шеренге, один из приятелей отца, заботливо возвращает лямку на место. Я делаю вид, что не заметил, хотя в глубине души очень ему благодарен. От еле ощутимого в воздухе сладковатого запаха начинает мутить. Расстроенный мозг лихорадочно обрабатывает одну-единственную мысль: что делать, когда наступит моя очередь подходить к гробу? Поцеловать труп я не смогу, нет-нет, это совершенно невозможно. Дотронуться? Я содрогаюсь при одной мысли об этом.
Гроб медленно выносят четверо мужчин, и мы в забрызганном грязью катафалке едем на кладбище. Сквозь мелкую рябь дождевых разводов на стекле я провожаю взглядом проезжающие мимо машины, стараясь не смотреть на окружающих и не думать о том, что лежит в нескольких метрах от меня. Задней мыслью тревожусь, как бы мать не выкинула какой-нибудь очередной фокус. Некогда родная и любимая, сейчас она кажется удивительно чужой и неприятной. От нее так и веет горем, и непонимание, как теперь себя с ней вести, вызывает во мне все большее и большее раздражение. Я чувствую, что окружающие не одобряют моего поведения. Я прекрасно знаю, чего они от меня ждут, но не желаю сейчас претворяться и что-то изображать. Меньше всего мне хочется, чтобы меня жалели. Поэтому, когда кто-нибудь ко мне обращается, я отвечаю несколько оживленнее, чем положено в подобных обстоятельствах.
На кладбище перед разрытой могилой гроб снова открывают. На этот раз я стою так близко, что могу разглядеть его лицо до мельчайших подробностей. Это первый труп, который я вижу в своей жизни. Это труп человека, который не мог умереть.
Меня охватывает ненормальное любопытство. Я жадно вглядываюсь в бескровные черты. Он как будто спит, мне даже кажется, что его грудь еле заметно вздымается. Но одна деталь завораживает и угнетает меня все более. Его нижняя губа, которую начало разъедать тление. Мне нестерпимо смотреть на нее. Но я не могу оторвать взгляд от главного свидетельства того, что этот корм для червей уже не имеет к моему отцу никакого отношения. Эта выщерблина на губе будет преследовать меня годами.
Мать склоняется над телом и со словами «прости и прощай» целует покойника в лоб. Бррр! Меня передергивает от ощущения того, как ледяная мертвая плоть соприкасается с ее губами. Моя очередь. Я, стиснув зубы, касаюсь пальцами его плеча и тут же убираю руку, не продержав и секунды. Гроб заколачивают. Какую-то женщину рядом со мной начинает мелко трясти. «Вам холодно?» Отрицательно качает головой.
Черный лаковый параллелепипед медленно опускают в яму. Мы кидаем комья земли и еловые ветви. Все кончено.
6
Смерть имеет удивительное свойство: она не только отбирает близкого человека, но и разрушает связь между теми, кто остался жить. Тяжелее всего было то, что ни я, ни моя мать не были готовы пережить подобное. Отец умер не после долгой болезни и не от старости. Он ушел во цвете лет, сгорел за одну ночь. Инфаркт. Когда все произошло, меня и дома-то не было. А утром из больницы позвонили…
Ни в тот день, ни долго после я не мог находиться рядом с матерью сколько-нибудь продолжительное время. Приглушенно пробормотав, что отца больше нет, она словно отшвырнула меня на огромную дистанцию. Обнимая ее, я испытывал ужасную неловкость от собственной неискренности. Глядя в большое зеркало, висевшее напротив дивана, на котором мы сидели, я разглядывал нас как бы со стороны и пытался понять, испытывает ли эта женщина ту же угнетающую неловкость, что и я?
Долгие месяцы я чувствовал себя виноватым и перед матерью, и перед умершим отцом за свою неспособность сопереживать, и оттого еще больше отдалялся, мечтая сбежать подальше от родного дома.
Тяжелее отношений с матерью на тот момент для меня были лишь отношения с самим собой. Именно тогда я начал ощущать свою конечность каждой клеточкой. Стоило мне выключить свет и лечь в постель, как на меня накатывала волна обостренного самосознания, заставлявшая целиком сосредоточиться на эфемерности собственного существования. Я все глубже и глубже вдумывался в то, что я – это я, что я есть, есть временно, и что с этим ничего нельзя поделать. Я думал об этом до тех пор, пока мне не становилось по-настоящему жутко. Жутко от осознания, что я вброшен в этот мир насильно, без моего на то согласия, и рано или поздно буду абортирован из жизни так же без спросу, без какой-либо альтернативы. Еще невыносимее была мысль о том, что мне, скорее всего, придется пережить не только отца, но и мать. Я с ужасом думал, сколько еще несчастий может выпасть на мою долю. Тяжелая болезнь? Немощная старость? Полное одиночество? Все это вдруг стало не просто возможным, а почти осязаемым. Все беды, когда-либо случавшиеся с другими людьми и казавшиеся ранее чем-то невозможным в моей жизни, теперь витали в непосредственной близости. Пытаясь уложить все это в голове, я уже и не знал, чего больше боюсь: однажды умереть или жить, зная, что непременно умру, и наблюдать свое увядание.
Теперь-то я хорошо знаю: смерть страшна и одновременно ценна тем, что заставляет острее чувствовать себя, ощущать, что существуешь. И, честное слово, я завидую тем, кто живет один раз. У них есть шансы прожить без тяжелых бед и сильных потрясений, тогда как я, вновь и вновь возвращаясь в жизнь, неизбежно перенесу все, что может выпасть на долю человека.
Но в те дни я еще был уверен, что живу единожды и не понимал преимуществ такого положения вещей. А потому я начал смотреть на свою жизнь как на определенный отрезок времени, который надо успеть наполнить счастьем, чтобы заглушить голос экзистенциального ужаса перед небытием.
С тех пор охота за счастьем стала моим кредо. А рано пробудившаяся сексуальность быстро подсказала, что единственно возможное счастье – это удовлетворение в любви.
7
В ту пору, когда разыгравшиеся гормоны стремительно превращали меня из подростка в девушку, я все время пребывал в состоянии влюбленности и сексуального возбуждения. А так как любить персонально было некого, то это пьянящее, непристойное чувство разливалось буквально на всех. Особенно ярко вожделение вспыхивало в ситуациях и местах, казалось бы, совершенно для этого не подходящих. Главным местом любовной истомы был питерский метрополитен.
Вообще метро удивительное место. Через него можно познать человечество. Я и сейчас люблю спускаться под землю с единственной целью – наблюдать. Потряхивающийся вагон равняет и объединяет совершенно чужих друг другу людей, которые никогда не смоги бы оказаться вместе ни в каких иных обстоятельствах. Многие говорят, что в метро они либо читают, либо полностью абстрагируются от окружающего мира. Я же наоборот – само созерцание. За людьми, едущими с тобой в одном вагоне, особенно интересно наблюдать, когда их немного. Тогда все они спокойны, все о чем-то думают.
Напротив сидит она. На вид ей лет тридцать пять – сорок. Она хорошо одетая, среднестатистическая, с окаменевшим выражением лица. И единственное, что привлекает внимание – две скорбные припухлости под глазами, тщательно замазанные густым слоем тонального крема. В этих еле заметных голубоватых мешочках скопились все ее разочарования, заботы и многолетняя усталость. Мне хочется встать и подойти к ней, провести рукой по ее тщательно завитым волосам, сказать ей пару ободряющих слов. И никогда я этого не сделаю. И никто не сделает.
А вот он. Лощеный, раскормленный, с тонкой соплей бородки под нижней губой. Уши заткнуты наушниками, он все время что-то жует, у него в глазах самодовольство павиана и полное отсутствие мысли. Он молчит, но я уже знаю, какой у него неприятный голос и развязный, ленивый тон. Он едет один, но я вижу, как он гогочет и матерится со своими друзьями и шлепает по заду круглолицую подружку.
А вот сидит положа ногу на ногу… она? Ну да, это, конечно, она, но по чистой случайности. Она вполне могла бы быть мужчиной. Некрасивая, но ухоженная, с плотным шлемом черных волос, с небольшой бородавкой возле орлиного носа и хищным тонким ртом. Она что-то читает в своем смартфоне и жует облитые разноцветной глазурью конфеты. Каждый раз, доставая из кармана куртки следующую глазированную красотку, она отрывает взгляд от дисплея и смотрит, какого цвета конфету выловили ее идеально отманикюренные пальцы. И непонятно, что доставляет ей больше удовольствия – вкус этих красочных драже или прикосновение к их гладкой, блестящей, словно пластмасса, поверхности. Но вот мимо проходит какой-то бугай и случайно задевает кончик ее сапога, заставив на минуту забыть про конфеты. Зацепившись наэлектризованным взглядом за наглеца, она складывает губы в брезгливо-негодующее коромысло, но еще мгновение – и она снова одна во вселенной, всецело поглощенная смартфоном и своими сладостями. Слишком идеальными, чтобы захотеть их попробовать.
Лиц у чужаков не так уж много. Десятки – может быть. Десятки лиц на тысячи людей… не так уж много, согласитесь. Лишь изредка можно встретить лицо, которое одно такое. Но не так уж это важно на самом деле. Пусть люди вовсе не оригинальны – от этого разглядывать их ничуть не менее интересно. Я разглядываю лица стариков, пытаясь представить, как они выглядели в молодости. Я вглядываюсь в молодые лица, воображая, какими они будут лет через двадцать. Изучая случайных попутчиков, я стремлюсь угадать, о чем они мечтают, какие у них жизненные цели, что у них есть и чего уже никогда не будет.
Впрочем, я увлекся и ушел куда-то в сторону. Я говорил о любви и желании – чувствах, которые в годы первой юности не нуждались в конкретном предмете, а жили сами по себе, готовые вылиться на любого подходящего незнакомца.
Абсолютно равнодушный внешне, я изнывал от трепетного желания, разглядывая едущих со мной в одном вагоне молодых людей. Я мог отчаянно влюбиться в случайного попутчика всего на несколько минут, пока за ним не закрывались двери, а затем тут же забывал о нем, отвлеченный какой-нибудь новой мыслью. Эти юные загадочные существа, не имевшие ни имени, ни личности, ни, порой, даже лица, заставляли меня страдать не столько по ним самим, сколько по каким-то отдельным штрихам и деталям, которые я в них замечал. Меня сводили с ума завитки их густых, мягких волос – золотистые, черные, медные. Их женоподобные черты, еще не успевшие огрубеть. Их узкие бедра, обхваченные облегающими или бесформенными джинсами. Их нервозно вздернутые плечи, их обветренные кисти с длинными тонкими пальцами… Я так и не научился равнодушно смотреть на этих угловатых Адонисов в мешковатой одежде. Но никогда уже я не посмею утолить эту жажду…
Вряд ли я смогу вспомнить, как выглядел хоть один из тех, кто так волновал меня. Но и сейчас в воображении возникает ускользающий, полупрозрачный образ юноши, о котором я грезил. Он – воплощение моего фетиша, в нем все, что я так любил: юность, мягкие волны волос, строго очерченная линия скул, классический треугольник торса… И руки… Стоило мне взглянуть на них, как я уже чувствовал их у себя на спине, представлял, как они медленно движутся, разливая тепло по всему телу…
Хоть образ идеального любовника был весьма зауряден, а требования, казалось бы, невелики, среди моих знакомых не находилось никого сколько-нибудь подходящего на эту роль. Возможно, потому, что я знал этих людей. У них были имя, характер, биография и куча недостатков. Поэтому я продолжал невротически страдать по своему идеалу, улавливая его отдельные черты во многих, но полностью не находя ни в ком.
Наслаждаться страданием и предчувствием счастья я мог бесконечно. Учеба не занимала меня, друзей у меня не было, кроме одной-единственной школьной товарки, которую я тепло и крепко ненавидел. Единственным увлечением, или, как сейчас любят говорить, хобби, для меня было чтение книг и слушание музыки, объективно – совершенно безобразной. Уткнувшись носом в подушку и спрятавшись за наушниками от всего мира, я упоенно отбивал сердцем ритмы гремящих в ушах барабанов, вызывая в воображении сцены сакрального «первого раза».
8
Его шелковистая, мягкая ладонь нежно, но крепко сжимает мои пальцы. Мы идем по каменистой дорожке вечереющего парка, вдыхая пьянящий аромат белопенной сирени. Птицы еще не умолкли, но их сонливый щебет раздается все реже, все тише… Мы говорим о пустяках и сами себя почти не слушаем. Я искоса, смущаясь, поглядываю на его статную фигуру в узких джинсах и безупречной черной рубашке с расстегнутым воротом. Игра света на волнах его пшеничных волос особенно возбуждает… Я испытываю идиотское, почти неконтролируемое желание зарыдать и упасть на колени, припасть губами к этим длинным пальцам, облобызать кончики его ботинок, прижаться щекой к узкой линии бедер… Конечно же я не сделаю ничего подобного! Ведь я леди – до кончиков наманикюренных ногтей. Как никогда на мне все ладно, все подобрано со вкусом. Брюки, юбка, какая разница? Главное, чтобы сидело, главное, чтобы было неотразимо. Иногда я отворачиваюсь или поднимаю лицо вверх, делая вид, что любуюсь сиреневато-розовым небом, и чувствую, как он тоже исподтишка любуется мной.