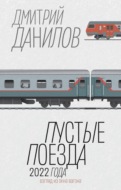Kitabı oxu: «Хрустальный желудок ангела»
© Москвина М.Л.
© Тишков Л.А., иллюстрации.
© Бондаренко А.Л, художественное оформление.
© ООО «Издательство АСТ».
* * *
Хрустальный желудок ангела

Когда мы познакомились, Лёнечка был студентом-медиком, худым, длинноволосым, длинноносым. Пытался поступить на биофак МГУ – провалился, и мама, уральская учительница из маленького городка Нижние Серги, упросила его поступать в медицинский. Ей хотелось, чтобы он выучился на врача и вернулся домой.
Как мы с ним встретились – не пойму, ни шанса на миллион, а вот поди ж ты – подруга сказала: есть жених, медик, не за горами распределение – надо бы остаться в Москве. А вообще он художник-любитель…
– Заманчиво, – ответила я, свободная как птица.
В модном пиджаке в голубую клетку, американском, который подфарцевал ему однокурсник по лечебному факультету Витя Савинов, он пришел просить моей руки и был радушно принят у нас дома – Люся накрыла поляну, мы выпили, закусили… А он не просит руки и не просит. Родители глядят на меня вопросительно. Я пихаю его ногой под столом.
– Ну, мне пора, – сказал Лёнечка, поднимаясь.
– Что ж ты руки-то не попросил? – я спрашиваю его у самой двери.
– Ах да! – вспомнил он. – Прошу руки вашей дочери!
– А ноги? – спрашивает Люся.
Учеба в медицинском ему давалась с трудом. На пятом курсе пора защищать диплом, а никак не получалось сдать анатомию. Приходилось «отрабатывать» часы – по вечерам в анатомичке.
Лаборант, склонившись над чьей-то неподвижной фигурой:
– Что тебе надо? Какая часть тела?
Выуживал из большого чана с формалином, к примеру, голень или целую ногу. Это называлось препаратом.
Или спрашивал:
– Тебе какую печень – алкоголика или нормального человека?
Лёня смотрел на этот тлен и прах, на сухожилия, связки, ссохшиеся мышцы, нервные пучки – и глубокая печаль наполняла его сердце. До того удручающе выглядит анатомический театр, обитель болезней, страданий и смерти, что примириться со всем этим просто невозможно – только воспарить.
У печени две доли,
Одна левая, одна правая.
Одна веселая, а другая печальная.
Доля печени очень печальная.
Накинута на нее фата венчальная1.
Когда он приходил домой, усаживался на диван моей бабушки Фаины с двумя валиками и диванными подушками, со всех сторон у него Аполлинер с Лотреамоном, Элюаром и Бретоном, тетрадки переписанных стихов из редких книг в Ленинке (издания футуристов – Крученых, Терентьева, Хлебникова). К тому же рядом с институтом находилась библиотека профсоюзов, и выдавали книги Заболоцкого, Мандельштама в читальном зале.
Всё смешивалось у него в голове – возвышенные образы поэтов Серебряного века и куски разъятой плоти, запах формалина, атлас анатомии Мясникова, трехтомник доктора Соботты с иллюстрациями Хайека, добытый в магазине медицинской книги, оттуда он копировал рисунки, увеличивая в десятки раз, сопровождая поэтическими текстами.
Новые образы складывались и обрастали плотью, они рождались из другого измерения, явился новый смысл существования человеческих органов, это были не просто куски плоти, которые болят, кровоточат, разлагаются, они встраивались в другую систему координат – космическую. И стало как-то легче жить, учиться, изучать анатомическое строение телесных частей.
Он углублялся в языковую толщь анатомии.
– Прислушайся, – шептал мне в ночи, – как звучат слова «фаллопиевы трубы» или «варолиевый мост», «бронхиальное дерево», «слезные мешки» – так и вижу, – бормотал, – идет согбенный человек и несет за плечами огромный мешок, полный слез…
Он учился медицине, рисовал, писал стихи. После института год работал в гастроэнтерологическом отделении врачом. Тогда родился миф о космическом желудочно-кишечном тракте – Лёня взялся утверждать, что мы – всего лишь пища огромного космического желудка и перевариваем переваренное.
Брюшная полость, полная кишок,
Похожа на небесную страну!
Вскипают облака,
Сплетенье солнечное внутри пупка восходит!
Стал изображать слоновьи хоботы и шланги водолазов, тянуть, тянуть эти бесконечные трубки от звезды до звезды, из центра солнечного сплетения прямо в бесконечность.
«Однажды, катаясь на лыжах в заснеженном уральском лесу, я встретил великий желудок, тихо лежащий среди снегов…» – без черновиков и эскизов, будто в полусне, набело, он рисовал и писал кисточкой в альбоме поэму «Хрустальный желудок ангела».
Как-то ночью нам обоим приснился Желудок, он был полон драгоценных камней: сапфиры и изумруды, рубины и опалы, бирюза и другие самоцветы посыпались на пол, ослепив нас своим сиянием. Наутро в Коломенском возле разрушенной церкви села Дьяково Лёня увидел помороженного ангела у забора наполовину в снегу с заиндевелыми крыльями.
– Возьми мой желудок… – тот прошептал.
Хрустальный желудок, в котором мерцает его душа.
– Разобьешь, – Лёня думал, – и она вселится в тебя, и ты улетишь в небеса вместе с лыжами, улетишь, не вернешься, исчезнешь за облаками.
Вечером я легла, погасила свет и в окне увидела далекую голубую точку. Эта точка меня взволновала. Ляжешь под тепленькое одеяло, свернувшись калачиком, кукурузка на плите, две инжирины припасла себе на утро, сыр рокфор… Всё налажено, уютно… Внезапно такая точка голубая проникает в твое окно, в твое сознание, в картину твоего полуночного мира, а я-то знаю, что никакая это не точка, а громадная полыхающая звезда, свет которой летит миллиарды лет! Небось, она сгорела давным-давно, как наше солнце вспыхнет однажды, залив ослепительным сиянием небосклон…
Огромный космос подступил ко мне, как океан к какому-нибудь острову Формоза, пришлось с головой накрыться одеялом. Но всё же иногда высовываться и поглядывать на голубую точку.
– Понимаешь, – неодобрительно качал головой Лёня, – твое творчество и жизнь слишком переплетены. Ты танцуешь эту жизнь, и тебе нужно, чтобы всё вокруг тебя танцевало. Так ты этим танцем и изойдешь.
– Да, я изойду этим танцем, – я отвечала своевольно, – но он будет продолжаться, уже без меня.
Короче, Лёня велел мне сшить ангела с крыльями, чтобы тот лежал на кровати и дышал. А под эту длиннющую кровать собрался поместить наполненную новогодними огоньками хрустальную вазу моей тетки Анны, заслуженного работника питания, бывшего директора столовой.
Узнав, что я собираюсь ваять трехметрового ангела и нуждаюсь в трикотаже телесного цвета с аурой близких родных людей, Лена Шубина принесла мне нательное белье своего папы.
Мне глубоко чуждо искусство кройки и шитья, ни фартука, ни трусов у меня не выйдет, как ни старайся. При этом я могу сшить любого человека из тряпочек в полный рост, если он немного попозирует.
Возделывать ангельский лик я начала с носа: это как первая нота, если ее возьмешь верно, остальное споется само собой. К его созданию я приступила как демиург к сотворению мира – вдумчиво и вдохновенно, имея в виду не только наружную часть – боковые стенки, хрящ крыла, костную перегородку, но и так называемые cavitas nasi – носовые полости, устланные изнутри слизистой оболочкой.
Пока возилась с носом, ей-ей, мне казалось, что Господь с ним явно перемудрил: нос и нос, обычное дело, а там и крыловидная ямка, и сошник, преддверие и порог, нёбный язычок, хрящи крыльев – уйма всяких косточек, хрящиков, складочек, один решетчатый лабиринт чего стоил!
Манили, не скрою, более легкие пути, без подробностей, к тому же у ангелов, вероятно, не столь сложносоставные носы, как человечьи. Но, к моей чести, я не прислушивалась к доводам рассудка. Настолько тут всё задумано совершенно – ни убавить, ни прибавить! Однако найдётся ли кто-нибудь в подлунном мире, кто хоть на миг ощутил признательность влажной слизистой в собственном носу? Обратился ли к ней со словами любви и признательности: «О, моя дорогая слизистая! Спасибо за то, что каждый мой вдох, который в любой момент может оказаться последним, ты очищаешь от пыли мерцательным эпителием, увлажняешь и согреваешь, подготавливая к соприкосновению с нежной тканью моих несравненных легких…» (сшитых из шелковой бабушкиной ночной сорочки).
Всё поражало меня: чудо света – глазные яблоки… Слух и зрение, обоняние и осязание – все эти непостижимые явления. А завитки ушных раковин, хрящ наружного слухового прохода, барабанная перепонка… То, что их двое в этом мире!
Ночью почувствуешь, кто-то ползет
По плоскости твоего лица.
Это ухо проснулось и ищет
Брата своего – близнеца.
Но особенно Слушатель волновал меня и тревожил, исчезающий, как мираж, стоит попытаться его обнаружить, – да и существует ли он, и отделён ли от звука? Когда шила уши, слушала Боренбойма, он играл Шопена, и внезапно почувствовала – ни меня нет, ни Боренбойма, только звук, только звук… Да еще под впечатлением целый день насвистывала похоронный марш!
Печень, почки я не поднимая головы украшала жемчужным бисером, мочевой пузырь – золотыми нитями.
Лёня, знай, поддавал жару.
– Что за мелкие стежки? – возмущался он. – Печень – двойная гора, покрытая хвойным лесом, травой, колокольчиками и ледниковыми глыбами. Мочевой пузырь с почками – огромные дождевые облака…
Он читал тело как раскрытую книгу, как поэзию, полную грез, меланхолии и священного ужаса. Рисовал себя спящим внутри желудка мира, утверждал, что двенадцатиперстная кишка плавно переходит в мышечный космический мешок, во мгле которого горят созвездья, представлялся желудочным путешественником…
И в конце концов материализовал четырехметровую сущность по имени Стомак, автономный желудочно-кишечный тракт с нижними конечностями в прямой кишке, извилистый, как жизненный путь человека, чуткий и уязвимый, прекрасный, как рождественская елка, могучий, словно уральский горный хребет.
В Доме художников на Лёниной выставке ноги, торчащие из заднего прохода, пришлись не по вкусу прозектору Первого медицинского института, великому знатоку анатомии Льву Ефимовичу Этингену. В толстых очках, с белой шкиперской бородкой, этот человек ведал всё о каждом органе, однако больше всего на свете его влекла мифология, аллегории и символы телесного устройства. Прослышав о выставке, он отложил все дела и пришел посмотреть, что у нас тут за разгульное пиршество плоти.
Архитектонику Стомака счел он сокрытием подлинной сути.
– Сия композиция, – клянусь, он так и сказал, – увидь ее Пушкин, лишила бы нас бессмертных строк об афедроне, Рабле – чудесных пассажей о кишечных ветрах, врачей проктологов – пациентов с геморроем, и только дети бы радовались, что некуда поставить клизму. Надеюсь, – профессор обратился к Лёне, – заднепроходное отверстие заткнуто опорно-двигательным аппаратом не из-за вашей мизантропии?
Что Льва Ефимыча заворожило – это Сердце. Оно лежало на подиуме и привлекало внимание посетителей. Кое-кто не выдерживал и дотрагивался до него пальцем. Несколько сортов бархата пошло на него: аорта – алая, лёгочная вена – голубая с мягким ворсом. Ушки сердца обнимали правое и левое предсердие, из-под них проступали arteria coronaries – правая и левая сердечные артерии. Когда я его шила и осыпала драгоценными каменьями – почему-то страшно волновалась, мне казалось, я нахожусь в соприкосновении с самим ядром универсума.
Великий кукольник и художник Резо Габриадзе, увидев это чудо, дрогнул и тайно попросил меня сшить для него такое же.
– Просите что угодно, – я отвечала Резо, – печень в цветах или фаллос из золотого плюша, увенчанный алым рубином, но только не сердце – оно неповторимо.
Я чувствую себя наделенной магической силой. Раньше, увидев, например, женщину с чемоданом, я неизменно подруливала и принимала на себя ее ношу. В Москве было поветрие: иногородние и областной народ затоваривались колбасой в немереном количестве, – тогда я буквально сбивалась с ног.
Одну приезжую тетку подхватила в метро после вечерних занятий в университете, та из Анапы ехала к сестре – глухой старухе в Малаховку. В ночь-полночь мы тащились лесной тропой, я – с ее неподъемной сумкой, откуда веяло нагретым самшитом, лавром, соленым прибоем и явственно доносились ароматы сахарных помидоров, зрелых персиков, сочных абрикосов…
Тишков меня чуть не убил, когда я вернулась домой в третьем часу ночи.
– Я запрещаю тебе, – кричал он, – таскать сумки и чемоданы первых встречных и поперечных!!!
Я же виновато топталась в прихожей, и в руках у меня горела кисть напоенного солнцем южного винограда.
Время уменьшает славу наших тел, с годами я переменила стратегию. Теперь, если в поле моего зрения попадает согбенный прохожий под тяжестью непомерного груза, я просто шепчу ему вслед: «Да будет ноша твоя легка, усталый путник!» и следую дальше, уверенная, что он зашагал куда веселей, а его поклажа стала невесомой. Но – даю слабину, оборачиваюсь и вижу такую картину: сам он превратился в мула, а по бокам его хлещут пудовые тюки.
Так же и с целительством, и с обращением хаоса в гармонию, и с вразумлением народов… Особенно это касается хождения по воде. Тут есть три варианта: или ты шагнул и пошел, или у тебя вырастают крылья, или море расступается перед тобой.
…Ни того, ни другого, ни третьего.
Но, как говорил Джордж Харрисон, лучше иметь бас-гитариста, который не умеет играть на гитаре, чем его совсем не иметь. Поэтому Лёня по-прежнему верит в меня и зовет Валентиной с фабрики мягких протезов.
Тем более с сердцем мне удалось прорваться к чему-то вневременному и бесформенному в своем сиянии. Такая вокруг поднялась суматоха – я чуть не возгордилась, ей-богу.
– Блестящая работа! – сказал Лев Ефимович. – Позвольте, я сфотографирую этот весьма своеобразный орган, который участвует во всех наших жизненных проявлениях от первого и до последнего вздоха? Известно ли вам, что гомеровские герои для обозначения сердца в зависимости от ситуации использовали три слова: кардиа, этор и кер, – он немного грассировал и выражался высокопарно.
Этингену было дозволено всё. Он брал мое сердце в руки, оглядывал со всех сторон, прижимал к груди, не мог налюбоваться.
Я же, в свою очередь, была заворожена Этингеном. Мне нравятся диковинные люди, я к ним питаю особенное пристрастие: их необычная манера говорить, странные слова и мысли, которые мне никогда не пришли бы в голову, – всё в них пленяет меня. Поэтому спустя пару дней я примчалась на лекцию Этингена, посвященную сердцу.
Лёня одобрил мою любознательность, стремление докопаться до сути; кроме того, со временем выяснилось, что я ввела в заблуждение Резо Габриадзе: еще четыре сердца вышли из-под моего пера. Ибо, сотворяя Голема из праха земного, собираясь дунуть в лицо его дыхание жизни, чтобы стал он душою живою, снабди свое чудище добрым отзывчивым сердцем.
Крошечное – размером с фасолину – вложила в грудную клетку Никодима, героя пьесы Лёни «Живущие в Хоботе» с ладонь величиной, сшитого мной по образу и подобию самого Тишкова. Всё у него было как у людей от макушки до пяток: локти, колени, ключицы, ноздри и веки, дужка, хрусталик и все остальное – то есть нормальный человек мужского пола, но это грубо сказано – просто человек – с выразительными руками, печальным взглядом, страшно беззащитный, как всякий голый и грустный обитатель этой Земли.
Второе – для книги «Железный Дровосек» на металлических пластинах. Цинковые страницы служили частями тела Дровосека; сложенные вместе, они формировали его фигуру. Откроешь первую пластину и читаешь:
Когда умер Железный Дровосек, мы, двадцать патологоанатомов, решили подвергнуть его тело вскрытию и узнали, что лицо, грудь и правая рука его были железные. Его живот, печень, легкие, пупок и левая нога были из железа…
Переворачиваешь следующую железную страницу, и там, в середке, сердце Дровосека из мягкого и теплого бархата – ровно в том самом месте, о котором Этинген говорил на лекции в Первом Меде:
– Согласно всезнающему Далю, сердце – это грудное чрево, нутро нутра, сердо, середина…
Оно тихо лежало внутри железной груди и казалось еще живым. А-а вот он какой Железный Дровосек, уверял, что весь из железа, а сам!..
Третье сердце было для Водолаза – мифического существа из сказаний моего мужа, навеянных воспоминаниями детства, когда по дну Сергинского пруда в свинцовых башмаках и шлеме из меди и латуни ходили водолазы – искали утопленника. В сердце такого Водолаза – круглое окошко, в нем зажигается электрический свет, гаснет и вновь зажигается – как проблесковый маяк в море ночном. В окошке на маленькой табуретке сидит безмолвный смотритель и следит за работой сердечного маяка…
Особо не заморачиваясь, я сшила обычную сердечную мышцу – с желудочком, всеми делами. Но в сердцебиении крылась жгучая тайна, так и не разгаданная мной. Да и анатом Этинген чувствовал себя нетвердо в этом вопросе.
– Самое интересное, – он разводил руками, – что никто не знает, почему на третьей, в начале четвертой недели зародышевой жизни эта мышечная ткань начинает сокращаться. Нет, понятно, в каждом из нас заложена генетическая программа. Но отчего у всех людей одинаково? Может, в этот момент, – размышлял Лев Ефимыч, – устанавливается связь с чем-то высшим, которая далеко выходит за пределы земного шара? И налаживаются синхронные ритмы с мирозданием?
Голос его гулко звучал под сводами старинной аудитории-амфитеатра, которая помнила еще физиолога Сеченова («Сеченов меня вдохновил на первую бороду!»). Так же гулко разносился стук мела по доске. На парте прямо передо мной перочинным ножичком было нацарапано: «Лев Ефимыч без бороды – не Лев ЕфимычЪ».
Я с любопытством поглядывала на его слушателей. Что за курс такой? Оказалось, факультатив, совершенно необязательное занятие, а тут яблоку негде упасть.
– Фанклуб Ефимыча рулит, – объяснил мне паренек по соседству.
«Прикольный Лёва» называли его студенты, «офигенный чел», «угар мужиг», «классный чувак», «лучший препод всех времен и народов».
Байки Лёвы перелетали с курса на курс, из уст в уста, цитатник великого Мао отдыхает рядом с цитатником Этингена.
«Что, Иванушка, не весел, что ты хобот свой повесил?» – нерадивому первокурснику.
На неверный ответ: «Это у вас. А у нормальных людей?»
«Что такое У??? Недоделанный Х!!!»
«Какая кровь находится в ячейках полового члена – артериальная или венозная?» Девушка – простодушно: «Артериальная…» Ефимыч – браво: «Если бы у меня там была артериальная, я бы им стены пробивал!»
На семинаре по репродуктивным органам Лёва для наглядности сел меж двух студентов, приобнял их за плечи и откинулся назад: «А теперь представьте, что я – матка!»
По рассказам очевидца, на лекции парни прикалывались, профессор попросил их остаться, нарисовал схематично на доске мужское достоинство и спрашивает: «Что это?» Самый бойкий ответил – хуй. «Неправильно, – строго сказал Лев Ефимыч, – это половой орган. А теперь хуй кто из вас получит у меня зачет!»
«Дети, я не вредный… я ОЧЧЕНЬ вредный!» – гласил эпиграф цитатника.
Когда Лёва произнес: «Данте в „Пире“, опираясь на Боэция, Платона, Цицерона, Авиценну и аль-Газали, называл сердцем сокровенную сердечную тайну, вместилище души: оно скорбит, поет, терзается и созерцает, и мы ведь тоже клянемся сердцем, а не ухом, печенкой или ягодицей», – кто-то поднял руку и спросил:
– Существуют ли анатомические отличия влюбленного сердца от невлюбленного?
Последовал ответ:
– Вряд ли анатом, взяв в руки сердце, скажет – любящее оно или нет, даже гистологи на тонких срезах под электронным микроскопом не смогут найти морфологические отличия. Но! Истории медицины известны случаи, когда после пересадки сердца пристрастия пациента полностью менялись на предпочтения донора…
Тема была животрепещущая – Лёня сочинял либретто к мюзиклу, который так и назывался – «Пересадка сердца».
Прямо и неподвижно лежит на хирургическом столе огромный человек, пристально устремив в небо невидящий взор. Хирург берет сердце и вкладывает в его отверстую грудь. Тревожная музыка, переходящая в лирическую – слышится стук оживающего сердца. Внезапно в оптимистическую тему жизни, побеждающую смерть, врывается режущий слух трубный глас и бой барабана. Органы поднимают бунт против инородца.
Появляются танцоры – в образе легких – наполняясь воздухом, расправляясь во всю ширь, они возносятся к потолку и кружат над сердцем…
Какие же легкие – легкие!
Ну ее, эту темную клетку грудную!
Взмахнули крыльями и полетели
Как птица – на небо и даже выше!
А сердце осталось в теле,
Работать в грудном отделе.
Далее вариации разгневанной печени с желчным пузырем и возмущенного звездного желудочно-кишечного тракта… Почки – веселые дочки, словно дождевые облака висят на тонких нитях под диафрагмой небесного свода, мочеточники впадают в мочевой пузырь, надувшийся, как упырь, внутри у пузыря штормит желтое море…
В апофеозе восставший фаллос золотой исполняет арию «Все на штурм чужака!».
Герои возбуждены, потрясают вилами и лопатами, веслами, косами и граблями. Под какофонию трубы и барабана они танцуют воинственный танец, бросая в зал грозные реплики:
– Кто он такой?
– Пришей-пристебай!
– Пускай убирается – откуда пришел, здесь нас и без него хватает!
– Держите, товарищи, наше оружие, все поднимайтесь на бой…
– Сердце нельзя беспокоить, остановитесь, безумцы! – пытается образумить их Селезенка в кружевном сарафане.
Ее никто не слушает. На мрачные лица внутренних органов ложится вечерняя мгла.
Гонимое Сердце начинает дрожать, озаряется красным светом…
Дальше – тишина. Иммунное отторжение грозило гибелью реципиента, а это не входило в Лёнины планы. Не подоспей на помощь Этинген, мир так и не увидел бы эпохальный спектакль, премьера которого состоялась в начале третьего тысячелетия в Центральном доме работников искусств.
Довольный Ефимыч сидел в первом ряду с программкой, где Лёня ему воскурял фимиам в качестве научного консультанта: в критический момент Этинген подсказал, что в случае отторжения донорского сердца удаляется селезенка.
Это дало импульс мощному драматургическому ходу: кроткая, чистая селезенка, словно пасхальный агнец, искупляющий и непорочный, была возложена хирургом на алтарь: Agnus Dei, qui tollis peccata mundis, miserere nobis…2
Тема жертвоприношения звучит в трагическом тембре саксофона. Гибель селезенки знаменует покаяние грешников и всеобщее примирение. В финале
Сердце празднует воскрешение, в организме воцаряется гармония, хирург утирает пот со лба: операция прошла успешно.
Иногда Лёня сам не понимал, что за образы всплывают у него из подсознания, теснясь и наступая друг другу на пятки. Вдруг давай сходить с ума по Луне, начертил эскиз месяца, заказал в мастерской световой объект «Луна» и пустился с ней в бесконечное странствие, сочиняя истории о Луне и Земле, о хлебе и соли, о звездах, которые падают, и о людях, которые превращаются в звезды, – чем снес крышу всему миру, но не смог зажечь Этингена. Хотя именно Ефимычу принадлежит великое изречение: «Не только анатомия, но и астрономия описывает нас!»
Шли годы, мы объехали земной шар, фотографируя «мужика с Луной» на крыше заснеженной высотки в Чертанове, на чердаке дачного дома, на ступенях заброшенного храма в Тайване, на Эйфелевой башне и на пустынном арктическом острове… когда к нам прилетела весть: «Сегодня утром по дороге на работу умер Этинген Л.Е.».
Летняя сессия, ехал на экзамен, поднимался по лестнице на «Охотном Ряду», вдруг всё поплыло у него перед глазами, то ли запотели очки, то ли что. Он присел на корточки, опершись о гранитный барьер… Здание «Националя» наклонилось и стало менять очертания, стены вытянулись, сверкнули на солнце, превратившись в белоснежные гряды Памира. Теперь он увидел себя на горе, куда как-то раз отправился с альпинистами в валенках и тулупе до пят, в дочкиной шапочке, с переносным ящиком – в нем сидела крыса. На ее примере Лев Ефимыч хотел показать покорителям вершин, сколь вредна гипоксия для организма – и, разумеется, всю дорогу служил мишенью для шуток и насмешек. …Дыхание редкое, озноб, сонливость, головокруженье, сухость во рту – …типичное кислородное голодание… Он попробовал нащупать пульс и не нашел его.
Но история с «Хрустальным желудком» имела продолжение. В Третьяковской галерее на длиннющей кровати спал трехметровый ангел. На спинке кровати висели крылья. А над кроватью, как коврик на стене, – занавеска из тюля, на ней проецировался видеофильм: шагающий по глубокому снегу человек в валенках и с крыльями за спиной. Он поднимается на вершину горы и прыгает вниз, исчезая в облаке падающего снега.
– Там огромный мужик лежит и дышит, – говорили посетителям галереи гардеробщицы.
Потом инсталляция «Снежный ангел» улетела в Германию на выставку в Кунстхалле Фауст в Ганновере. В Ижевской картинной галерее дремал наш ангел, люди приходили к нему и смотрели его сны. В львовском старинном монастыре можно было увидеть спящего ангела в бывшей часовне, его заснеженный сон витал под высокими сводами, а на тумбочке перед ним стояла хрустальная ваза с красными новогодними огоньками.
Правда, какой-то злоумышленник, пока ангел спал, вытащил у него изо рта язык. Неясно, где это произошло, не будешь ведь всякий раз проводить подробную инвентаризацию. Язык чистый, всё как надо: борозда, слюнные железы, сосочки, вкусовые луковицы, уздечка, бахромчатые складки… Не празднословный, не лукавый…
Но Лёня не слишком огорчился, ведь наш снежный ангел не собирался выступать на пресс-конференции.
– Главное, – говорил, – чтобы не разбили хрустальный желудок и в хрустальных осколках не увидели очертания ангела, иначе ангельская душа вселится в него, тогда он прицепит свои лыжи к ботинкам, оттолкнется палками от подоконника и прыгнет в небесную даль… А люди внизу поднимут головы и скажут: «Смотри, небесный лыжник! Смотри, скорей! Там, над крышами…» Но тот ничего не увидит. И только две белые полоски останутся на голубом небе, а после медленно исчезнут, размытые небесным ветром.
Pulsuz fraqment bitdi.