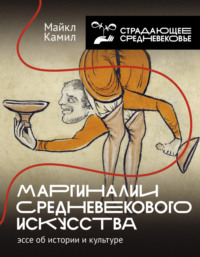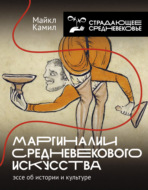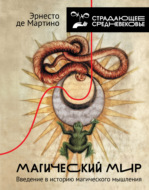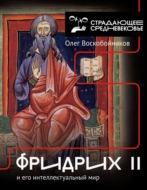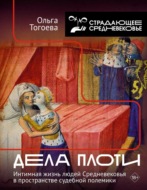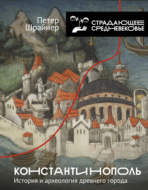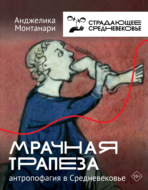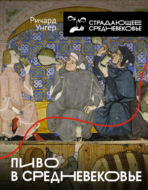Kitabı oxu: «Маргиналии средневекового искусства: эссе об истории и культуре»
© Copyright © Michael Camille 1992, 2019
© А. А. Мещеряков, перевод, 2025
© Издательство АСТ, 2025
* * *
Предисловие

Илл. 1. Нищие на мостах средневекового Парижа (деталь илл. 69)
Я мог бы начать в духе святого Бернарда, вопрошая, что все это значит? Все эти блудливые обезьяны, драконы, пожирающие собственные хвосты, раздутые головы, ослы, играющие на арфах, священники, целующие кого-то в зад, кувыркающиеся жонглеры, что глядят на нас с краев средневековых крыш, скульптур и иллюминованных рукописей. Но мне интереснее то, как они притворяются бессмысленными, как они словно бы славят поток «становления», а не «бытия» – нечто, о чем я могу высказывать лишь догадки в завершенных фразах и разделах этих очерков. Тем не менее мое причудливое сочетание методологий, подражающее манере литературоведения, психоанализа, семиотики и антропологии, равно как и истории искусств, – это попытка сделать мой метод таким же монструозным (то есть отклоняющимся от естественного порядка), как и предмет исследования. Как отмечал Арнольд ван Геннеп, один из первых антропологов маргинального, «атрибуты лиминальности неизбежно двусмысленны, поскольку (они) не попадают или проскальзывают через сеть классификаций, обычно фиксирующих состояния и позиции в культурном пространстве».
В моей вводной главе рассматривается культурное пространство маргиналий и исследуется то, как оно конструировалось и населялось подобными образами живых существ в течение XIII века. Образы на полях готических рукописей изучались и ранее, в особенности Лилиан Рэндел. Однако вместо того, чтобы рассматривать значение конкретных мотивов, которые нередко воспроизводят в виде изолированных деталей, я сосредоточусь на их функции как части целой страницы, текста, объекта или пространства, которому они принадлежат.
В последующих главах рассматриваются маргиналии конкретных пространств власти в средневековом обществе – монастыря, собора, дворца, города. Эти места, несмотря на то, что их контролировали определенные группы – монахи, священники, лорды, горожане, – служили далеко не одной аудитории. Они являлись аренами конфликтов, местами, где отдельные личности зачастую пересекали социальные границы. В монастыре или соборе, например, по краям мы находим вытесненные формы, запечатленные в камне запреты, которые как будто усиливают те самые желания, которые сами же ограничивают. При дворе, где те же самые телесные импульсы до некоторой степени оправдывались классовой системой ценностей псевдосакрального рыцарства и идеализировались в новых жанрах, таких как рыцарский роман, маргинальное служило скорее способом развлечения или подчинения низших сословий.
В моей главе о средневековом городе рассматривается визуальное изображение подчиненной толпы городских маргиналов – нищих и проституток. При этом возникает принципиально важный вопрос: могли ли средневековые художники, все чаще работавшие в городской среде и изображавшие самих себя на полях собственных рисунков, делать нечто большее, чем «играть» в подрыв устоев? Представляют ли маргиналии начало автономного художественного самосознания, как утверждают многие? Наконец, я рассмотрю упадок готической традиции маргиналий, совпавший со становлением иллюзии пространства на миниатюрах в рукописях XV века.
Хотя изучение маргинального искусства ныне актуально, учитывая современные дискуссии критиков о центре и периферии, «высокой» и «низкой» культурах, а также положении Другого или дискурса меньшинств в таких элитарных дисциплинах, как история искусства, нам следует остерегаться мыслить средневековые маргиналии в постмодернистских категориях. В Средние века термин «маргинальное» обозначал прежде всего письменную страницу. Расцвет маргинального искусства в XIII веке следует связывать с изменением моделей чтения, повышением грамотности и все более широким использованием письменности как формы общественного контроля. То, что написано или нарисовано на полях, привносит дополнительный аспект, дополнительное измерение, способное комментировать, пародировать, модернизировать и проблематизировать смысл текста, при этом никогда не подрывая его полностью. Существование центра, как мне представляется, зависит от маргиналий. По этой причине я надеюсь, что книга вызовет к жизни множество аннотаций, дополнений, вопросов и даже, возможно, кое-какие критические замечания со стороны читателей, желающих оставить собственные образы на полях.
Глава 1. Создавая маргинальное пространство

Средневековые люди были равно причастны двум жизням – официальной и карнавальной, двум аспектам мира – благоговейно-серьезному и смеховому. Эти два аспекта сосуществовали в их сознании. В очень яркой и наглядной форме это сосуществование отражалось на страницах иллюминованных рукописей XIII и XIV веков, например легендариев, то есть рукописных сборников житий святых. Здесь в пределах одной страницы совмещаются благоговейно-строгие иллюстрации к житийному тексту с целым рядом свободных, то есть не связанных с текстом, изображений химер (причудливых сочетаний человеческих, животных и растительных форм), комических чертей, жонглеров с их акробатическими трюками, маскарадных фигур, пародийных сценок и т. п., то есть чисто карнавальных гротескных образов. <…> Но и в изобразительных искусствах Средневековья строгая внутренняя граница разделяет оба аспекта: они сосуществуют рядом друг с другом, однако не сливаются и не смешиваются… [1]
Открывая свой часослов в третьем часу, канонически соответствующем девяти часам утра, то есть третьему часу после восхода солнца, некая женщина – которую, возможно, звали Маргаритой и которая жила во второй четверти XIV века – увидела бы себя на «разделительной линии» на полях левой страницы (илл. 14). Держа раскрытой крохотную книжицу – эту же самую книгу, – она преклоняет колени перед Поклонением волхвов, размещенным под тройными арками готического святилища, встроенного в букву «D», с которой начинается слово «Deus», «Бог». Обратившись к нижней части страницы, она бы увидела трех мартышек, передразнивающих жесты волхвов. Вверху слева мартышка-ангелок с колючими крыльями хватает за хвостик букву «D», как будто хочет потянуть за веревочку и развязать ее. Другая обезьяна играет более полезную роль, удерживая в воздухе, подобно атланту, платформу, на которой стоит коленопреклоненная Маргарита. Ошую, то есть слева, также пародируя подносящих дары волхвов, выступает изумительное чудовище, известное как сциапод из-за его единственной огромной ноги – оно преподносит золотую корону.
Вступительные слова «Deus in adiutorium» («Господи, услышь мою молитву») напоминают нам, что владелица этой книги читала ее вслух. Но разве ее молитвы не прерывал визуальный шум бубенцов, звенящих на шутовском колпаке свирепого гриллуса1 вверху справа, или громкий глас трубы и барабана на нижнем краю? Эти страницы часослова Маргариты Орлеанской не столько раскрывают ее причастность к тому, что русский ученый Михаил Бахтин описывает как два различных аспекта средневековой жизни – один сакральный, другой профанный, – сколько располагают ее не снаружи и не внутри, а в промежутке, на краю.
Бабочка рядом с кухонным горшком на правом краю противоположной страницы может напомнить современным наблюдателям об удовольствии сюрреалистов от «случайной встречи швейной машинки и зонтика на операционном столе». Но в то время как современные художники, такие как Магритт или Эрнст, совмещали банальные фрагменты реального мира в качестве зловещих фетишей, изысканная бессвязность средневекового искусства маргиналии лишает нас иллюзии сновидения. Эти комбинации столь же сознательны и инструментальны, как маленькие монстры, которые пищат и мечутся по экранам современных компьютеров в аналогичных играх на наблюдательность. В числе других слов, которые так же неуместны для описания этих существ, как «сюрреализм», – романтический эпитет «фантастический» (используется в книге Юргиса Балтрушайтиса «Фантастическая готика», 1960) и, самое главное, негативно окрашенный термин «гротеск», изобретенный в XVI веке для описания вновь открытых античных настенных росписей [2]. Маргарита могла бы охарактеризовать своих маргинальных существ латинскими терминами «fabula» («басни») или «curiositates» («диковинки»), но эта мирянка, скорее всего, использовала бы вариант термина «babuini» (источник нашего слова «бабуин»), зафиксированный в документе 1344 года и описывающий резьбу французского художника в Авиньоне, – это слово лучше всего было бы перевести как «шалости» [3]. Чосер использовал его на английском языке при описании зданий, украшенных «subtil compasinges, pinnacles and babewyns» (букв. «тонкими compasinges, башенками и прочими шалостями»), дважды отсылая к обезьяньей подражательности при помощи babewyns, а также «compasinges» — слова, объединяющего обозначение геометрического орнамента со словом «singe», что по-французски означает «обезьяна» [4].
Примечательно, что термин «babewyn» стал обозначать всех таких составных существ, а не только обезьян. Исидор Севильский, авторитетный этимолог Средневековья, возводил происхождение слова «simius», «обезьяна», к «similitudo», «подобие», отмечая, что «обезьяна хочет подражать любому действию, которое она видит» [5]. Обезьяна – животное, которое жонглеры держали как забавную игрушку, а знать – как домашнего питомца, – стала обозначать сомнительный статус изображения как такового, ведь во французском языке слово «le singe» («обезьяна») является анаграммой «le signe» («знак»). Распространенность обезьян в маргинальном искусстве также обращает внимание на опасность мимесиса или иллюзии в созданном Богом порядке вещей.
Маргарита могла бы также назвать картинки на полях фатразиями, от слова «fatras», означающего мусор или хлам, – жанра юмористической поэзии, характерного для франко-фламандского региона, где был изготовлен и сам ее часослов. Хотя эти стихи следуют строго силлабической форме, они описывают вещи, которые могли бы появиться на самих его страницах:
D’un pet de suiron
Uns pez se fist pendre
Por l’i miex deffendre
Derier un luiton;
La s’en esmervilla on
Que tantost vint l’ame prendre
Latested’unporion…
Примерный смысл этого стиха такой: «На лапке клеща повесился пердун, чтобы лучше спрятаться за гоблином; после чего все были изумлены, ибо за его душой пришла голова тыквы» [6].
Фатразии, состоящие из невозможных взаимосвязей, несмотря на понятность каждой языковой единицы, мало чем отличаются от того, что мы видим на полях. Эти стихи, однако, совершенно самодостаточны, и придворное общество наслаждалось ими как развлечением, тогда как систематическая бессвязность маргинального искусства помещается внутри (а то и на фоне) другого дискурса – Слова Божия. Тем не менее культурные коды, ныне кажущиеся нам несовместимыми, возможно, не казались чем-то отдельным друг от друга в Средние века. В типичной неиллюстрированной рукописи (Париж, Национальная библиотека, 19152) можно найти назидательные истории, жития святых, басни, куртуазные стихи и два похабных фаблио под одним переплетом. Сочетание гибридов, смешивающих разные регистры и жанры, кажется, было как словесной, так и визуальной модой среди элитарной публики. Шалости вроде тех, что мы видим в «Часослове Маргариты», также можно найти по краям современных ему витражей Йоркского собора; они засвидетельствованы на литургических стихарях, сделанных для Вестминстерского аббатства, и вышиты на подушках, сделанных для личной часовни Изабеллы де Эно, фламандской супруги Эдуарда III [7]. Но это все еще не отвечает на вопрос, чего хотели столь возвышенные покровители от этого низменного мира, этого обезьяньего, бессвязного, пьяного дискурса, заполнявшего поля на краях их скрупулезно организованной жизни.
Мир по краям слова
Люди избавлялись от своих страхов, сваливая их на тех, кто обитал на окраинах известного мира, кто был в каком-то смысле меньшим; будь то троглодиты или пигмеи… окраины воспринимаются как зараженные зоны, где есть место всевозможным чудовищам и где рождается другой человек, отклоняющийся от своего прототипа, живущего в центре мира [8].
В Средние века границы известного мира были одновременно и пределами его репрезентации. На карте мира, нарисованной на странице английской Псалтири около 1260 года (илл. 2), чем дальше удаляешься от центра Иерусалима, тем более уродливыми и чуждыми становятся вещи. Из внешнего времени и пространства, с верхней части страницы, Бог управляет всем, в то время как два свернувшихся кольцами дракона предполагают пространство «подземного мира» внизу. Вокруг Африки, в правой нижней четверти этого крошечного полуторадюймового пространства, художнику удалось изобразить четырнадцать монструозных рас, типы которых восходят к Плинию и которые, как считалось, существуют «в воображаемых углах круглой земли» [9]. Здесь мы видим крошечных блеммий и кинокефалов (людей с глазами на груди и собакоголовых соответственно), великанов, пигмеев и многих других. Есть и сциапод вроде того, что, должно быть, проделал долгий путь, чтобы поиздеваться над волхвами на левом краю часослова Маргариты. В этом смысле иллюстраторы часто не изобретали монстров, но изображали тех существ, которые, как они вполне могли предположить, существовали на границах Божьего творения.

Илл. 2. Карта мира. Псалтирь. Британская библиотека, Лондон
С Богом в центре средневекового паноптикума, «всевидящим» и вездесущим, большинство моделей вселенной, общества и даже литературного стиля были круговыми и центростремительными. Безопасные символические пространства очага, деревни или города резко контрастировали с опасными территориями снаружи – лесами, пустынями и болотами. Каждый деревенский ребенок помнил пограничные ручьи, в которые его окунали, и деревья, об которые его били в Молебственные дни в рамках деревенского ритуала обхода границ, так что пространственные границы отмечались на его собственном теле. Неведомые царства не были далекими континентами, на которых бывали путешественники и паломники; они начинались сразу за холмом.
Однако люди также были очень чувствительны к беспорядку и отклонениям именно потому, что они были так озабочены иерархией, которая определяла их положение во вселенной. Такие схемы включали, помимо трех сословий общества – молящихся, воюющих и трудящихся, – свободных и несвободных, духовенство и мирян, горожан и сельских жителей и, конечно же, женщин и мужчин. Несмотря на отсутствие нашей преобладающей дихотомии общественного и частного, средневековая организация пространства была не менее территориальной. В полях полосами были отмечены владения каждого крестьянина, в то время как в больших и малых городах каждая улица и анклав, каждый рынок и водный путь находились под контролем определенных церковных или светских властителей.
Тринадцатый век был как раз периодом расширения пахотных угодий, когда многие маргинальные земли подверглись огораживанию, чтобы увеличить доходы знати [10]. Контроль и кодификация пространства, представленного маркированными территориями центробежной круговой карты мира, по необходимости создавали пространство для вытеснения всех нежелательных элементов – изгнанных, объявленных вне закона, прокаженных, чесоточных изгоев общества [11].
Хотя эти края были опасны, они также являлись местами силы. В фольклоре промежуточные места – важные зоны преображения. Кромка воды была местом, где открывалась мудрость; духи изгонялись в никуда «между пеной и водой» или «между корой и деревом». Точно так же временные переходы между зимой и летом или между ночью и днем были опасными моментами соприкосновения с Иным миром. В заговорах и загадках вещи, представляющие собой «ни то ни сё» и нарушающие классификацию, несли сильную магию. Отверстия, входы и дверные проемы – как зданий, так и человеческого тела (в одном среднеанглийском медицинском тексте есть упоминание о лекарстве, разъедающем «края кожи») – были особенно важными лиминальными зонами, которые требовалось защищать.
Большая часть изобразительного искусства, дошедшего до нас от раннего Средневековья, предназначалась для Бога. Все остальное происходило от лукавого. В письме, написанном Архиепископу Кентерберийскому в 745 году, святой Бонифаций жаловался на
эти узоры в виде червей, кишащих на краях церковных облачений; они провозглашают Антихриста и внедряются его коварством и через его служителей в монастыри, дабы возбудить распутство, разврат, постыдные дела и отвращение к учению и молитве [12].
В почти современной этим словам Келлской книге, составленной монахами на острове Айона, змеи не только были допущены на края, но и Слово Божие само стало «пристанищем драконов»2. На странице знаменитой Монограммы Христа «Хи-Ро» три греческие буквы, обозначающие имя «Христос», образуют визуальные загадки и магические узлы, края которых населены кошками, мышами и выдрами в космологическом образе сотворенной Богом Вселенной как Слова (илл. 3).

Илл. 3. Монограмма Христа «Хи-Ро». Келлская книга. Тринити-колледж, Дублин
Под верхним левым плечом большой литеры «X» встречаются два мотылька, их крылья трепещут и кажутся прозрачными на фоне металлических завихрений кельтского орнамента. Василий Великий описал выход мотылька из куколки как символ преображения души через воплощенный Логос. Для монастырских мастеров и читателей Келлской книги мир природы должен был интегрироваться в духовную медитацию и противопоставляться ей [13]. Напротив, бабочки, порхающие по краям часослова Маргариты XIV века, служат эмблемой зыбкой фантазии, несущественной пустоты. Больше не запертые, как на странице Келлской книги в христологической головоломке, эти насекомые – паразитические чудачества за пределами текста. В то время как в Келлской книге Слово и мир сакрально переплетены, здесь они противостоят друг другу как центр и периферия, как читаемое и отвлекающая внимание граница. Таким образом, в раннем Средневековье изображения бытовали не по краям, а внутри самого священного Слова.
Конечно, периферия письменной страницы существовала и в более ранние периоды, и на ней даже размещались изображения как в византийских, так и в англосаксонских Псалтирях X века, где на боковых полях встречались иллюстрации к текстам, нередко сложные. Но это внетекстовое пространство развилось в пространство художественной выразительности только тогда, когда идея текста как письменного документа вытеснила идею текста как подсказки для устной речи. Монашеский метод чтения, называемый «meditatio», заключался в том, что каждое слово произносилось вслух, буквально пережевываясь и перевариваясь для запоминания [14]. Расположение страниц, даже разделение слов не имело большого значения в этой системе, поскольку Слово всегда произносилось. Буквы могли становиться проводниками чистой фантазии, яркими сигналами начала и окончания, так как от них не требовалось быть читаемыми в нашем понимании этого термина. Эта сосредоточенность художественной игры на самом тексте сохранялась вплоть до XII века.
Ранний пример того, как художник выталкивает репрезентацию за пределы буквы, можно найти в большой Библии Аббатства, проиллюстрированной для монахов аббатства Св. Эдмунда примерно в 1130 году профессиональным художником, мастером Гуго. Этот пример появляется в самой первой букве книги, «F» («Frater Ambrosius» – «Брат Амвросий»), которой открывается не сам священный текст, а предисловие Иеронима, что, возможно, объясняет вольность художника (илл. 4). На левом краю клубящейся органичной буквы изображены кентавр, человек с деревянной ногой, пытающийся стричь ножницами зайца (народная загадка) и сирена с рыбьим хвостом. Кентавр и сирена – пережитки классического изобразительного словаря, использовавшегося в иллюстрированных свитках античного искусства и позже демонизированного в христианской иконографии. Загадка о зайце, записанная лишь столетия спустя, – удивительный пример вторжения устной народной культуры в монастырь. Серло Уилтонский и другие англо-нормандские священнослужители того периода известны как собиратели народных пословиц, или, как они их называли, enigmata rusticana («сельские загадки»), использовавшихся в упражнениях по переводу на латынь [15]. Стрижка зайца есть adynaton, невыполнимая задача. Что это, живописный комментарий к трудностям самого чтения, уяснения смысла библейского текста? Как и во многих рукописях, наиболее примечательно то, что находится внизу страницы. За пределами нижней рамки полуголый мужчина с корзиной стоит на цветке и тянется, чтобы сорвать другой цветок. Ответвления Слова начинают образовывать свободно парящие, своевольные очаги самостоятельной жизни.

Илл. 4. Сельские загадки на краю Логоса. Библия из Бери-Сент-Эдмундс. Колледж Тела Христова, Кембридж
С ростом как религиозной, так и чиновничьей грамотности, а также с появлением новых методов организации и анализа текста во второй половине XIX века оформление страницы, или ordinatio текста, вытеснило монашескую meditation [16]. Теперь подчеркивалась физическая материальность письма как системы визуальных знаков. Этот переход от произнесения слов к видению слов имеет основополагающее значение для развития маргинальных образов, потому что, как только буква приобрела узнаваемость как элемент считываемой системы визуальных единиц, это ограничило возможности ее деформации и игры с ней. Больше не участвуя в образовании буквы, репрезентации либо входят в ее рамки, образуя так называемые буквицы, распространенные в готических рукописях, либо вытесняются в неуправляемое пустое пространство по краям – традиционное место для глосс.