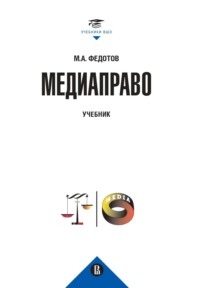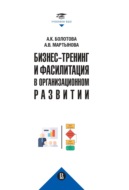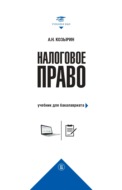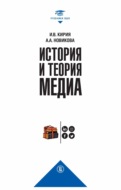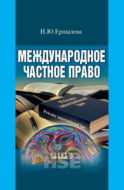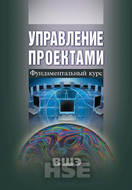Kitabı oxu: «Медиаправо: доктрина, законодательство, правоприменение»
© Федотов М. А., 2025
* * *
Рецензенты:
доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики, заведующий кафедрой компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН Ю. М. Батурин;
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского С. А. Куликова;
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики редактирования факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель программы профессиональной переподготовки «Редактор текстов для медиа» И. А. Панкеев
Предисловие
Если верить Иммануилу Канту, то право – это «самое святое, что у Бога есть на земле»1. Не знаю, как вы, дорогой читатель, а я верю великому философу. Чтобы сохранить и приумножить эту величайшую ценность, важно не испортить ее ни зашоренным правопониманием, ни приблизительным правотворчеством, ни произвольным или выборочным правоприменением.
Медиаправо, или, иными словами, право массовых коммуникаций, конечно, еще слишком молодо, особенно по сравнению, например, с цивилистикой, чтобы обрести устоявшееся правопонимание, гармоничное во всех отношениях законодательство и идеальную правоприменительную практику. Тем актуальнее становятся, с учетом нормативистского и социологического понимания права, прояснение наиболее сложных теоретических конструкций в этой сравнительно новой комплексной отрасли (подотрасли) права, поиск оптимальных моделей правового регулирования, выявление противоречий и лакун в правоприменении.
Именно поэтому, рассуждая о медиаправе как о праве массовых коммуникаций, я буду стараться в каждой из рассматриваемых тем – конечно, только там, где это возможно и уместно, – выделять доктринальную, нормативную и правоприменительную части. В первой части – «Доктрина» – преимущественно излагаются научные представления о соответствующем предмете с рассмотрением проблем, касающихся законодательства и правоприменительной практики. Вторая часть – «Законодательство» – посвящена изложению действующего позитивного права. Третья часть – «Правоприменение» – знакомит читателя с правоприменительной практикой. Разумеется, такое деление в достаточной степени условно.
К сожалению, доктринальная база современного российского медиаправа весьма скромна. За три десятилетия ее существования опубликовано всего несколько монографий и постатейных комментариев к Закону Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также некоторое количество научных статей, чему в немалой степени способствовали «декабрины» – ежегодные декабрьские научно-практические конференции по медиаправу, приуроченные к дате принятия этого закона в 1991 г.2 Неоценимый вклад в формирование науки медиаправа внесли теоретики медиакоммуникаций – авторы многочисленных научных трудов и прекрасных учебников по правовым основам журналистики3.
Настоящая книга по медиаправу, в которой монографическое исследование сочетается с реализацией задач, характерных для университетской учебной литературы, призвана внести вклад как в развитие доктрины, в осмысление постоянно меняющегося нормативного ландшафта и правоприменения, так и в подготовку нового поколения медиаюристов высшей квалификации. При этом следует учесть, что учебная дисциплина, посвященная правовому регулированию массовых коммуникаций, уже не первый год преподается в российских университетах, включена в федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Журналистика», а в Уральском государственном юридическом университете им. В. Ф. Яковлева она выросла в самостоятельную магистерскую программу «Юрист в сфере телекоммуникаций и медиатехнологий»4.
Структура учебника опирается на программу учебной дисциплины «Право массовых коммуникаций», реализованную на факультете права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», однако не копирует ее, а развивает и дополняет. Цель книги – сформировать у читателя (студента, аспиранта, преподавателя, практикующего юриста, правоведа-исследователя, депутата законодательного органа власти, руководителя профильного надзорного органа, прокурора, судьи и т. п.) целостное представление о медиаправе как самостоятельной комплексной отрасли (подотрасли) права, научном направлении и учебной дисциплине. Для медиаправа характерны динамичное развитие, скачкообразное расширение предмета правового регулирования и нормативный плюрализм, проявляющийся в параллельном функционировании нормативно-правового регулирования, профессионально-этического саморегулирования и алгоритмического программирования с использованием компьютерных технологий.
Рассчитывая на относительно долгую жизнь этой книги в научном обороте и в учебном процессе, а также учитывая высокую степень изменчивости российского законодательства и правоприменительной практики в данной сфере, я постарался акцентировать внимание на узловых, «долгоиграющих» или пока только зарождающихся проблемах правового регулирования массовых коммуникаций. При этом широко используется отечественный и зарубежный опыт: законодательный, правоприменительный, исследовательский. Проблематизация этого опыта призвана помочь читателю глубоко вникнуть в юридические тонкости регулирования массовых коммуникаций в современном мире.
Особо следует сказать об использовании в книге нормотворческого и правоприменительного опыта Совета Европы, который продолжает представлять значительный интерес для отечественной юриспруденции, несмотря на то что наша страна покинула эту региональную международную организацию. Прежде всего это касается свободы массовой информации, поскольку содержащиеся в ст. 10 Европейской конвенции по правам человека положения почти дословно совпадают с нормами, которые продолжают действовать на территории Российской Федерации: со ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и со ст. 11 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995.
Предлагаемая вниманию читателей книга во многих отношениях уникальна. Я постарался аккумулировать в ней свой опыт и как одного из создателей действующего Закона о СМИ, и как министра печати и информации РФ (1992–1993), и как российского постпреда при ЮНЕСКО (1993–1998) – участника многочисленных программ этой международной организации в области коммуникации, и как руководителя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (2010–2019), и как сопредседателя Общественной коллегии по жалобам на прессу со дня ее основания (2005 г.), и, главное, как исследователя, занимающегося правовыми проблемами функционирования СМИ со студенческой скамьи. Берусь утверждать, что излагаемая в книге авторская концепция современного медиаправа сложилась из размышлений над трудами ученых-обществоведов, из научных дискуссий с российскими и зарубежными коллегами, из живого опыта функционирования отечественных медиа, из практики законотворчества и правоприменения в данной сфере – словом, из всего того, чем были наполнены для автора прошедшие десятилетия. Вот почему в книге такое обилие цитат (за что я заранее приношу свои извинения!) из сочинений философов и социологов, психологов и правоведов, из уставов и договоров, из нормативных и судебных актов, из решений органов медийного саморегулирования.
Заинтересованный читатель найдет в книге ответы на многие вопросы, относящиеся к медиаправу, хотя моя главная цель – не только в углублении и уточнении доктрины медиаправа, передаче знаний в области правового регулирования массовых коммуникаций, но и в формировании у новых поколений российских медиаюристов навыков, ценностных ориентиров, жизненных установок и моделей поведения, необходимых им, чтобы стать ответственными гражданами и профессионалами, надежными и умелыми защитниками свободы массовой информации, свободы мысли и слова, свободы выражения мнений и свободы творчества, других прав и свобод человека и гражданина, призванных обеспечить уважение человеческого достоинства в мире медиа.
Сердечно благодарю моих коллег по Кафедре ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, прежде всего высокопрофессионального медиаюриста Наталью Якимовскую, за помощь в работе с материалами правоприменительной практики, судебной и иной статистики, в проверке цитат и данных, в проговаривании некоторых авторских теоретических конструкций со студентами НИУ ВШЭ на семинарах по медиаправу. Ее знание реальной практики надзорных органов в сфере массовых коммуникаций помогло наполнить необходимой конкретикой некоторые, может быть, чересчур теоретические или, напротив, нормативно-описательные страницы. Большой вклад в организацию работы над книгой внесли один из первых отечественных медиаюристов Виктор Монахов и неутомимая защитница культурных прав Мария Каткова.
Глубокую признательность я выражаю Владимиру Евстафьеву, Валентину Смолякову и Татьяне Никитиной за материалы, касающиеся рекламы в медиа, а также руководителям СМИ и отдельным медиаюристам – за такие важные для книги материалы, как редакционные уставы, внутренние профессионально-этические правила, трудовые контракты и иные договоры, предупреждения профильных надзорных органов, представления органов прокуратуры, редакционные запросы информации и т. д.
Особую благодарность я хотел бы адресовать своим коллегам – тем немногочисленным теоретикам в области права массовых коммуникаций, благодаря усилиям которых продолжается, несмотря на запутанность законодательства и противоречивость правоприменительной практики, возведение стройного здания современной доктрины медиаправа.
Принятые сокращения
абз. – абзац
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 11.06.2022)
ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
ГД ФС РФ – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022), часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021), часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 01.07.2021), часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
Доктрина информационной безопасности 2000 – Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Президентом Российской Федерации 09.09.2000 № Пр-1895
Доктрина информационной безопасности 2016 — Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646
ЕКПЧ – Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключена в Риме 04.11.1950 (ред. от 13.05.2004 с изм. от 02.10.2013; применялась на территории Российской Федерации с 01.09.1998 по 16.03.2022)
ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека
Закон о библиотечном деле – Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 11.06.2021)
Закон о государственной тайне – Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне» (ред. от 04.08.2022)
Закон о защите детей от информации – Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 01.07.2021)
Закон о коммерческой тайне – Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 14.07.2022)
Закон о персональных данных – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 14.07.2022)
Закон о печати – Закон СССР от 12.06.1990 № 1552-I «О печати и других средствах массовой информации» (фактически утратил силу с 18.02.1992 в связи со вступлением в силу Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»)
Закон о рекламе – Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 14.07.2022)
Закон о связи – Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 30.12.2021)
Закон о СМИ – Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации» (ред. от 14.07.2022)
Закон об архивном деле – Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021)
Закон об информации — Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 14.07.2022)
Закон об обязательном экземпляре документов – Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (ред. от 01.05.2022)
Закон об основных гарантиях избирательных прав – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 28.06.2022)
Закон об электронной подписи – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред. от 14.07.2022)
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИТС – информационно-телекоммуникационные сети
КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 11.06.2022)
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
Конституция РФ – Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 01.07.2020)
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации
МСУ – местное самоуправление
МСЭ – Международный союз электросвязи
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.06.2022), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
ООН – Организация Объединенных Наций
ОЭКВ – организация эфирного и кабельного вещания
п. – пункт (-ы)
подп. – подпункт (-ы)
постановление Пленума ВС РФ 2005 г. – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»
постановление Пленума ВС РФ 2010 г. – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации “О средствах массовой информации”»
ПФР – Пенсионный фонд России (с 01.01.2023 – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России)
ред. – редакция
РФ – Российская Федерация
СЕ – Совет Европы
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
СМИ – средства массовой информации
СПИС – Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации
СПЧ – Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
ст. – статья (-и)
СФ ФС РФ – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024)
ФАС России – Федеральная антимонопольная служба
ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти
ФС РФ – Федеральное Собрание Российской Федерации
ч. – часть (-и)
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Упоминаемые в книге нормативные и ненормативные правовые акты, включая судебные решения, приводятся по текстам, содержащимся в справочно-правовой системе «КонсультатПлюс»5 по состоянию на 01.09.2024; в противном случае указываются иные источники.
Материалы судебной статистики приводятся в книге по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации6 по состоянию на 01.09.2024.
Глава 1. Медиаправо в системе права, законодательства, юридической науки
В результате изучения данной главы обучающийся должен
знать:
• предмет, метод и цели медиаправа;
• какова роль информационных технологий в регулировании массовых коммуникаций;
• что представляет собой система и каковы источники медиаправа;
• основные этапы становления медийного законодательства;
• особенности развития законодательства о повременной печати и о цензуре в Российской империи;
• основные этапы создания российского законодательства о массовых коммуникациях в общем контексте формирования новой российской государственности;
• определение понятия «законодательство Российской Федерации о массовых коммуникациях»;
• основные этапы изменения Закона о СМИ;
• тенденции развития регионального законодательства в сфере массовых коммуникаций;
уметь:
• пользоваться источниками медиаправа;
• объяснить, в чем заключается нормативный плюрализм в регулировании сферы массовых коммуникаций;
• рассуждать о роли медиаправа в системе российского права и законодательства;
• раскрыть роль суда в обеспечении функционирования массовых коммуникаций как института демократического правового государства;
• охарактеризовать особенности нормативного регулирования медиа в СССР;
• разъяснить, в чем выражается структурообразующий характер Закона о СМИ;
• очертить тенденции развития российского законодательства о массовых коммуникациях;
• объяснить причины пробелов и избыточности в законодательстве о массовых коммуникациях;
владеть:
• понятийным аппаратом медиаправа;
• навыками историко-правового анализа законодательства о массовых коммуникациях;
• совокупностью методологических приемов работы с источниками медиаправа.
§ 1.1. Предмет медиаправа и особенности метода правового регулирования в сфере массовых коммуникаций
Доктрина
Предмет медиаправа. Метод медиаправа. Цели медиаправа. Нормативный плюрализм в регулировании сферы массовых коммуникаций. Роль программного обеспечения в регулировании массовых коммуникаций.
Предмет медиаправа. Медиаправо, иначе именуемое правом массовых коммуникаций или правом СМИ, возникло в нашей стране как некая относительно обособленная часть юридической науки, права, законодательства и как учебная дисциплина в самом начале 90-х годов прошлого века, когда впервые в российской истории были приняты законы о средствах массовой информации (далее – СМИ): Закон СССР от 12.06.1990 № 1552-I «О печати и других средствах массовой информации» (далее – Закон о печати) и Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ).
В последующие десятилетия по мере развития информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) границы медийной инфраструктуры общества радикально расширялись. Наряду с традиционными СМИ появились новые массовые коммуникации, функционирование которых уже не укладывалось в законодательство о традиционных СМИ. В результате медиаправо постепенно начало трансформироваться из права СМИ в право массовых коммуникаций – как подотрасль юридической науки, права, законодательства, а также учебную дисциплину.
Начало процессу такой трансформации было положено еще в 1991 г. в Законе о СМИ, в котором «на вырост» была предусмотрена норма об «иных средствах массовой информации»: под ними понималось периодическое распространение печатных материалов, сообщений, изображений, «созданных с помощью компьютеров и (или) хранящихся в их банках и базах данных», а также периодическое распространение массовой информации «через системы телетекста, видеотекста и иные телекоммуникационные сети» (ст. 24). При всем очевидном несовершенстве этой нормы она позволяла юридически институализировать и легализовывать первые отечественные интернет-СМИ. В практику регистрирующего органа они вошли под названием «электронные периодические издания», число которых на 30.06.2024 составило 2964. Только в ноябре 2011 г. на смену прежней нормы пришла новая, делающая возможной добровольную регистрацию интернет-сайта в качестве средства массовой информации, так называемого сетевого издания (ч. 2 ст. 8 Закона о СМИ).
Процесс трансформации медиаправа из права СМИ в право массовых коммуникаций далеко не завершен. Ныне медийная инфраструктура общества, доросшая во многом благодаря конвергенции различных видов медиа до уровня экосистемы (media ecosystem), характеризуется еще бо́льшим разнообразием и объемлет не только традиционные средства массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы, информационные агентства и т. д.) и сетевые издания, но и многочисленные информационно-посреднические структуры (агрегаторы контента, социальные сети, цифровые платформы и сервисы и т. п.), а кроме того, неисчислимое множество конечных пользователей, становящихся как потребителями, так и производителями массовой информации (например, блогеров).
Однако, если регулирование организации и функционирования традиционных СМИ и сетевых изданий уже интегрировано в медиаправо, то в отношении других участников медийной экосистемы законодательство продолжает оставаться разрозненным и фрагментарным. Более того, в последние полтора десятилетия оно преимущественно обновляется не путем модернизации Закона о СМИ, а через изменение главного, структурообразующего источника всего континуума информационного права – Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации).
В результате нарушается системность информационного законодательства, нарастает его хаотичность, накапливаются противоречия и пробелы. Бессистемность правотворчества, в свою очередь, нарушает стабильность правоприменительной практики. «Одна из сложных задач – пишет Ю. А. Тихомиров, – преодоление бессистемности в правотворчестве и хаотичности в правоприменении, когда теряются связи между институтами и органами, соотношение между различными правовыми актами, утрачивается чувство целостности в решении стратегических задач страны»7. В частности, правоведы справедливо обращают внимание на такое негативное явление, как принятие под каждую сиюминутную задачу специального федерального закона.
В этой ситуации повышается значимость научного осмысления накопившихся правовых проблем. Как отмечает, в частности, В. Н. Синюков, «для отечественного типа социального обновления при всем его иррационализме, непредсказуемости и перманентной политической хаотичности тем не менее вот уже на протяжении двух веков весьма характерно стремление опереться на научный авторитет, рациональную программу переустройства общества»8. В данном случае роль ориентира для законодателя, а вслед за ним и для правоприменителя должна сыграть научная доктрина медиаправа, которая в отсутствие кодифицированного законодательного акта, системно регулирующего функционирование массовых коммуникаций в современном российском обществе, призвана стать связующим звеном между установленными в 1993 г. конституционными основами правового порядка современной России в их адекватном теоретическом освоении и конкретикой формирования правового регулирования и правоприменительной практики в данной сфере9.
Согласно доктрине, медиаправо – это самостоятельная комплексная отрасль права и одновременно подотрасль информационного права, объединяющая на основе конституционного института свободы массовой информации совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих правовых норм, регулирующих относительно обособленную группу общественных отношений, возникающих в сфере массовых коммуникаций в связи с обеспечением их организации и функционирования в качестве одного из важнейших институтов гражданского общества и демократического правового государства.
Тезис о формировании медиаправа как комплексной отрасли права и одновременно подотрасли информационного права был сформулирован автором этой книги еще в начале 2000-х годов10. С такой позицией соглашается, в частности, А. Г. Рихтер, указывая, что «законодательство о СМИ, сформировавшееся в 1990-е гг. как отрасль российского законодательства, в настоящее время перерастает в отрасль права в широком смысле этого понятия»11.
Каковы аргументы в обоснование такой позиции? Прежде всего обратим внимание на то, что нормы, непосредственно связанные с организацией и функционированием массовых коммуникаций в качестве одного из важнейших институтов гражданского общества и демократического правового государства, существуют не только в различных нормативных правовых актах, но и в разных отраслях права. Объединенные общностью предмета правового регулирования – общественных отношений, непосредственно связанных с организацией и функционированием медиа, – эти нормы образуют вторичную юридическую целостность в системе права, не нарушая при этом архитектонику основных, профилирующих отраслей и не выходя из их структуры.
Отметим, что споры о том, является ли та или иная совокупность правовых норм, регулирующих специфическую область общественных отношений, отраслью права, не утихают уже много десятилетий. Достаточно вспомнить дискуссии сторонников и противников «государственного» и «конституционного» права, «хозяйственного» права, «аграрного» права, а в последнее время – «цифрового» права. По подсчетам А. А. Головиной, «в современной правовой науке резко возросло количество попыток обосновать наличие в системе права той или иной “новой” самостоятельной отрасли. Всего таких “новых” отраслей предлагается уже около шестидесяти…»12. Подобное явление в науке – далеко не новость: автор еще в 80-х годах прошлого века шутил на лекциях о скором пришествии «банно-прачечного права».
Медиаправо, как и другие подобные юридические образования, является комплексным в том смысле, что входящие в него нормы, как правило, связаны общностью предмета правового воздействия, но не единством метода правового регулирования. К числу подобных комплексных образований относятся финансовое право, экологическое право, космическое право, информационное право и т. д. Как отмечает О. А. Городов, «комплексные отрасли заимствуют у нескольких профилирующих отраслей часть их норм, имеют свой предмет регулирования, но не имеют специфического метода»13.
Сам факт существования вторичных, комплексных юридических целостностей, которые объединяют нормы различных отраслей как права, так и законодательства, легко доказывается с помощью пространственно-правовых логических абстракций, опирающихся на известные факты принадлежности отдельных норм одновременно к нескольким отраслям права и размытость границ отраслевых предметов регулирования.
Представление о медиаправе как подотрасли информационного права и одновременно самостоятельной комплексной отрасли права разделяют не все правоведы. Так, классик отечественной науки информационного права И. Л. Бачило писала, что далеко не всё, относящееся к праву массовой информации, может быть включено в общую структуру информационного права. «То, что регулируется Законом о СМИ, – отмечала она, – это совершенно другая сфера отношений. Информационного права касаются только предметы информационного характера, которые включаются в систему информационных ресурсов и находятся в системе СМИ, в том числе и в системе Интернет»14. Подобный подход представляется логическим продолжением ограничительного толкования предмета информационного права, когда он практически сводится к предмету Закона об информации.
Ю. М. Батурин обрашает внимание на то, что информационное право возникло намного позднее медиаправа. Если рождение медиаправа можно датировать временем принятия Закона о печати (1990 г.), то для информационного права он предлагает в качестве точки отсчета 2000 г., когда последнее было впервые включено в номенклатуру научных специальностей в области юридических наук15. Однако представляется, что время рождения той или иной отрасли не может определять ее место в общей системе законодательства, права, юридической науки, поскольку приоритет должен быть отдан другому критерию, а именно специфике предмета правового регулирования.
Подчеркнем, что существующие ныне пробелы в правовом регулировании организации и функционирования медиа нередко восполняются с помощью норм, принадлежность которых к классическим, профилирующим отраслям права – конституционному, административному, гражданскому, уголовному, а также к процессуальным отраслям права может оказаться невыраженной. Так, норму о праве редакции СМИ на запрос информации (ст. 39 Закона о СМИ) нельзя однозначно отнести ни к одной из профилирующих отраслей права. Именно из таких норм в первую очередь и складывается собственное «тело» медиаправа как комплексной отрасли права. Одновременно из законодательных актов, регулирующих организацию и функционирование массовых коммуникаций, складывается право массовых коммуникаций как отрасль законодательства.
Метод медиаправа. Медиаправо как комплексная отрасль права не имеет собственного метода правового регулирования: оно использует методы профилирующих отраслей права, поскольку включает в свой континуум их нормы, а также, будучи подотраслью информационного права, – его специфический метод правового регулирования. Специфика этого метода связана с применением информационного права в информационно-телекоммуникационных сетях, в условиях использования цифровых технологий.
Именно развитие цифровых технологий и информационно-телекоммуникационных сетей дает основание для выдвижения гипотезы об особом методе правового регулирования, присущем только информационному праву, а следовательно, и медиаправу как его подотрасли. В ходе круглого стола в МГЮА 27.01.2000 автором была озвучена следующая гипотеза: «информационное право будет иметь свой особый метод правового регулирования, ибо он, в первую очередь, будет осуществляться в телекоммуникационных сетях, в киберпространстве. Иными словами, человек будет не просто пользоваться телекоммуникационными сетями, он будет вступать в правовые отношения, испытывать на себе правовое регулирование через телекоммуникационные сети, внутри телекоммуникационных сетей. Уже сегодня мы имеем в телекоммуникационных сетях и гражданско-правовые сделки… и многое другое. Но правовое регулирование через Интернет только зарождается»16. Именно в этом состоит суть особого метода правового регулирования, присущего исключительно информационному праву, а значит, и медиаправу как его подотрасли.