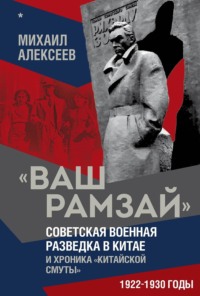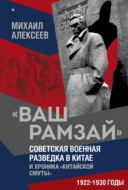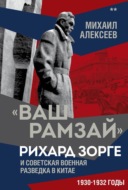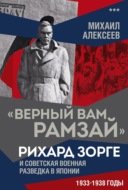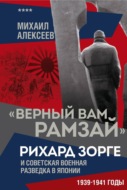Kitabı oxu: ««Ваш Рамзай». Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты». 1922–1930 годы. Книга 1»

© Алексеев М., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
130-летию со дня рождения легендарного разведчика Рихарда Зорге, памяти военных разведчиков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, военных разведчиков, воевавших и воюющих на незримом фронте, участвовавших и участвующих в частных конфликтах и СВО посвящается.
Величие Родины в Ваших славных делах!
Автор выражает благодарность А. П. Алексееву, А. И. Сивцу, А. П. Серебрякову, О. В. Каримову, А. П. Аристову, А. И. Колпакиди, С. Ф. Макарову-Седову, В. Б. Леушу за содействие и поддержку при работе над монографией.
Отдельная благодарность Владимиру Степановичу Алексееву и Ирине Юльевне Куксенковой.
Кто Вы, доктор Зорге? (вместо предисловия)
«Об исторических личностях стоит судить с точки зрения её эпохи, а не спорных, а порою опасных критериев».
А. Перес-Реверте
В Москве, почти в самом конце Хорошёвского шоссе, недалеко от Мнёвников, в тени деревьев стоит внешне неброский памятник.
С невысокого постамента на прохожих сосредоточенно смотрит человек в тёмном плаще, выходящий как будто из стены или, точнее, проходящий сквозь неё. Кажется, ещё немного, и он присоединится к прохожим и степенной, но уверенной походкой пойдёт по своим делам…
Поворачиваем голову и на доме улицы, начинающейся от Хорошёвского шоссе, видна чёткая надпись: «Улица Героя Советского Союза Рихарда Зорге. 1895–1944».
Да, этот памятник ему, человеку-легенде, вернувшемуся к нам как бы из небытия в начале шестидесятых годов прошлого века благодаря кинофильму французского режиссёра Ива Чампи «Кто Вы, доктор Зорге?».
С той поры об этом человеке написано и опубликовано столько книг, статей, воспоминаний, что можно уверенно говорить о появлении «зоргеведения» как научной дисциплины. Но, как бы это не казалось странным, личность выдающегося советского разведчика остаётся не до конца раскрытой, разгаданной. На сегодня отсутствует систематическое описание жизни Рихарда Зорге; в первую очередь, не выверена хронология событий; не восстановлен исторический фон его деятельности; не проведён обстоятельный психологический анализ личности разведчика.
Довольно значителен разброс в оценках Зорге как профессионала-разведчика, что зачастую объясняется попытками судить о нём с позиций нашего времени, вне контекста той исторической эпохи, в которой он жил и действовал.
До сих пор вызывает изумление, что вся работа разведчика-нелегала проходила под его настоящим именем в течение длительного времени. А ведь он не был незаметным человеком: коммунист, революционер, учёный-марксист, ответственный сотрудник Коминтерна. Значит, были найдены определённые основания для подобного использования, которые кроются, видимо, прежде всего, в самом характере Р. Зорге. Это также говорит об умении руководителей советской военной разведки идти на смелые и нестандартные шаги при решении задач, стоявших перед ними в 30-е годы прошлого века.
На мой взгляд, если при жизнеописании Зорге исходить только из узкого поля биографических фактов, то такое одномерное пространство не позволит раскрыть логику развития этой личности. Древнегреческий философ Сократ утверждал, что в каждом человеке находятся как бы три человека: один из них соответствует тому, что сам человек думает о себе; второй соответствует тому, что о нем думают окружающие; и, наконец, третий таков, каков он на самом деле. Сочетание сократовского подхода к описанию жизни человека с раскрытием современного, и при необходимости предшествующего, исторического фона, даёт возможность увидеть конкретную личность объёмно и всесторонне.
Именно так подходит к биографии Рихарда Зорге известный исследователь истории российской военной разведки Михаил Алексеев в своей новой книге «Ваш Рамзай». Описание жизни советского разведчика подразделяется автором на два больших этапа: первый – от детства до прихода в разведку (конец XIX в. – 1929 г.), и второй – становление Рихарда Зорге как разведчика-профессионала в период работы в Китае (1930–1932 гг.). В перспективе ожидается продолжение книги, посвящённое деятельности Зорге в Японии…
Изначально жизнь Рихарда Зорге развивалась в атмосфере спокойствия, семейного и материального благополучия, формирования наивных взглядов на жизнь в рамках традиционных идеалов имперской Германии. На генетическом уровне ещё дремали корни русского происхождения по матери и социалистическое наследие прошлого от двоюродного деда Фридриха Адольфа Зорге – марксиста и корреспондента Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Но всё резко изменила Первая мировая война, превратившая молодого немца в радикально настроенную личность под впечатлением жестокой правды увиденного на фронте.
К этому следует добавить знакомство с идеями социализма, в которых, как представляется, он увидел мощный инструмент преобразования несовершенного мира. Складывается впечатление, что Рихардом под впечатлением вышеперечисленных факторов было принято осмысленное решение включиться в политическую деятельность, предварительно подготовив себя в образовательном плане в сжатые временные сроки.
Об этом свидетельствует следующая хроника событий: 1917 г. – получение документа о среднем образовании, 1918 г. – диплом о высшем образовании, 1919 г. – степень доктора права. И далее идёт разносторонняя деятельность в рядах Коммунистической партии Германии вплоть до перехода в 1924 г. на работу в Коминтерн.
Таков первый ключевой момент в жизни Рихарда Зорге.
Нельзя сказать, что этот жизненный поворот характерен исключительно для его судьбы. Напротив, идеи мировой революции и построения нового социалистического общества охватили в те годы не только массовое пролетарское движение, но и значительную часть интеллигенции, выходцев из обеспеченных слоёв населения. В их числе был и Рихард Зорге, ещё не ведавший своей дальнейшей судьбы.
Примечательно, что Зорге был не просто человеком, безраздельно преданным социалистическим идеям, но и на всём протяжении своей деятельности оставался нестандартно мыслящим аналитиком. Им написан ряд теоретических произведений и множество статей, представлявших интерес и в наши дни.
Следующим ключевым моментом в жизни Рихарда Зорге стал переход на работу в советскую военную разведку. Произошло это под воздействием различных причин, включая определённое разочарование работой в Коминтерне, не дававшей возможности реализоваться его деятельному и самостоятельному уму. Понимание того, что в складывающейся политической обстановке защита Советского государства выступает серьёзным фактором развития коммунистического движения; возникновение личного интереса к Востоку как определённой terra incognita, где разведка и предполагала использовать его силы.
Особое достоинство предлагаемой вниманию читателя книги Михаила Алексеева заключается в том, что рассказ о жизни «Рамзая» – Зорге органично вписан в канву исторических событий, происходивших в Китае. Его работа показана в динамике решения конкретных задач, различных по характеру и масштабам. И в каждом действии Рихарда раскрывается он сам – личность нестандартная, смелая, действенная, любящая людей и умеющая работать с ними.
Было много трудностей на пути Зорге. Сказывались и недостаток опыта агентурной деятельности, и нехватка военных знаний, и дискретный и лаконичный стиль руководства со стороны Центра. Но разведчик обеспечил решение поставленных задач как по добыванию информации о внутриполитической жизни Китая, так и по военно-политической обстановке, деятельности иностранных держав в этой стране. В итоге Рихардом Зорге были приобретены устойчивые навыки ведения разведки, и он превратился в высокого профессионала. Именно в таком качестве он прибыл в длительную командировку в Японию осенью 1933 г. Но это уже тема следующей книги Михаила Алексеева, которая, надеюсь, появится в скором будущем.
Рихард Зорге оставил память о себе в записках, написанных в японской тюрьме. В них прослеживается его жизнь и деятельность. Думается, что они сознательно писались, чтобы донести до потомков правду о себе, проломить стену молчания, которая долгое время окружала его имя. Их текст использовался исследователями, но требует обстоятельного психологического и фактологического анализа, чтобы понять мотивы поведения, образа жизни и конкретных действий разведчика.
Омар Хайям в одном из рубаи писал:
Трудно замыслы Божьи понять, старина,
Нет у этого неба ни верха, ни дна,
Сядь в укромном углу и довольствуйся малым,
Лишь бы сцена была хоть немного видна.
И в Китае, позже – и в Японии, Зорге отслеживал важную часть сцены мировых событий в её архисложности.
При этом он, говоря современным языком, был интерактивным наблюдателем. Ибо его информация, оценки ситуации дополнялись собственными предложениями и позволяли Центру видеть мозаику событий в динамике в преддверии Второй мировой войны и возможное развитие её начального периода.
Вот почему уже к концу чтения книги Михаила Алексеева непроизвольно складывается ответ на вопрос: «Кто вы, доктор Зорге?» Это сильная личность, учёный, журналист, политик-практик, разведчик, отдавший свою жизнь служению тем идеям, в которые верил, служению той стране, которую любил и которую защищал до конца своей жизни.
Словом, читателя этой книги ждёт интересный и объективный рассказ об удивительном и нестандартном человеке, безусловно, способном достичь успехов на любом выбранном поприще. Он выбрал разведку, потому что она соединяет практику и аналитику и, таким образом, позволила реализоваться его деятельному уму.
Алексей Изварин (Александр Петрович Алексеев, генерал-лейтенант, ветеран военной разведки)
Пролог. Китай – это больше, чем отдельное государство, это – отдельная цивилизация
1. Китайская империя и экспансия иностранных государств
Китайская империя на протяжении всей своей истории являлась многонациональным государством, насчитывавшим 56 народностей. Однако подавляющее большинство – свыше 90 % населения – составляли ханьцы.
Надо сказать, что по численности населения Китай всегда намного опережал все прочие страны мира, избыточность людского ресурса порождала в китайском обществе, особенно в последние столетия, немало серьёзных проблем. Повсеместно 15–20 % жителей китайских деревень не имели ни земли, ни работы. В старом Китае постоянно голодали миллионы, каждый год десятки и сотни тысяч умирали голодной смертью. По официальным оценкам правительственных органов, население Китая по состоянию на 1931 г. значительно превышало 400 млн человек.
В XVIII – первой половине XX в. соотношение между сельским и городским населением оставалось достаточно стабильным и в наиболее развитых районах низовий Янцзы городское население достигало 20 %.
К 1644 г. Китай был завоёван маньчжурами, и на всей территории страны упрочилась Цинская династия. Маньчжурский правитель – император – в соответствии с китайской традицией именовался Сыном Неба и считался лицом священным, посредником между Небом и людьми. Сын Неба совмещал в своей деятельности верховное законодательное и административное начала. Маньчжуры, насчитывавшие накануне завоевания 100-миллионной империи всего лишь 700 тыс. человек, утвердили своё господство над китайским народом. Завоеватели-маньчжуры составляли замкнутую касту. В китайской империи не было родовитой аристократии. Правда, члены императорского дома имели знатные титулы, однако эта знать ограничивалась кругом родственников. Равным образом и военное сословие в Китайской империи не имело самостоятельного значения.
Со времени завоевания Китая маньчжурские императоры проводили политику строгой изоляции своей огромной империи от внешнего мира.
К началу XVII в. в России отсутствовало реальное представление о Китае. Сведения о том, что все государство окружено кирпичной стеной, склоняли к мысли, что территория Китая не велика. И всё же в начале XVII столетия в Китай был отправлен томский казак Иван Петлин с целью установления торговых отношений. Это было первое после присоединения Сибири русское посольство в Китай. Петлин и его спутники выехали из Томска 9 мая 1618 г. Проследовав через Западную и Южную Монголию, в августе 1618 г. они добрались до границ Китайской империи. Петлин вручил китайскому императору грамоту, предлагавшую установить торговые отношения с Китаем, после чего благополучно вернулся в Россию.
Практической пользы эта дипломатическая миссия не принесла, но она внесла важный вклад в изучение стран Дальнего Востока. Составленные И. Петлиным «Роспись Китайскому государству…» и «Чертёж Китайского государства» содержали важные сведения географического, этнографического и политического характера. При этом использовались не только собственные наблюдения, но и устные сведения, полученные от бурят («брацкого татарина») и русских пленников.
В 1654 г., после посещения Москвы монгольским послом, из Тобольска в Пекин был направлен боярский сын Федор Исаакович Байков с царской грамотой, подарками и 50 000 рублями. Он получил подробный наказ собирать сведения о дорогах и о возможностях торговли. Лишь через четыре года русский посол вернулся в Москву. Официальное поручение – установить с Пекином «приятную дружбу без урыву» – выполнено не было. Принят он был холодно, а китайские хроники расценили его появление как принесение дани от русского государя («белого царя»). Отказ выполнить унизительный придворный этикет и незнание языков существенно осложнили ведение переговоров.
Миссия Ф. И. Байкова сыграла значительную роль в истории изучения Китая. Статейный список Байкова с подробным описанием пути в Китай, китайских обычаев и нравов вызвал живой интерес. Копия списка попала к иностранным дипломатам в Москве и скоро стала известна в Европе во французском, латинском, немецком, английском и голландском переводах.
В 1675 г. в Китай было снаряжено особое посольство, во главе которого был поставлен переводчик Посольского приказа Николай Гаврилович Спафарий (Милеску Николае Спэтарул), происходивший из православной греко-молдавской семьи. Посольству был придан характер научной экспедиции. В огромной свите Спафария находились образованные люди (главным образом греки) для отыскания лекарств, «для знатья каменного» и т. п. Были взяты с собой все необходимые инструменты. Поездка была тщательно подготовлена: сделаны выписки из западной литературы о Китае, выверены чертежи. В Тобольске Спафарий беседовал со ссыльным хорватом Юрием Крижаничем, который передал ему свои записки о китайских делах и «письмецо о китайском торгу».
Спафарий, получивший прекрасное образование в Стамбуле и служивший в качестве дипломата в странах Западной Европы, мог вести переговоры в Пекине через живших там иезуитов. От них же он сумел получить довольно много ценной информации о Китае. Сведения иезуитов подвергались проверке посредством опроса русских казаков, приезжавших в пограничные китайские города и близко общавшихся с местным населением. Спафарий оставил обширный труд с подробным описанием областей Китая, которые он смог посетить. Из литературных источников и со слов иезуитов он много узнал и о южной части Китая, о Японии, Корее.
И на этот раз дипломатические цели посольства достигнуты не были. Спафарий, несмотря на аудиенцию у самого императора Канси (1654–1722, император с 1662 г.), не получил от него даже ответной грамоты. Однако его труд «Описание первой части мира, называемой Азия, в которой находится Китайское государство с остальными городами и провинциями», написанный в 1677 г., вскоре стал широко известным в Европе и внёс важный вклад в исследование Дальнего Востока.
Европейцы, появившиеся в Китае ещё в XVI в., долгое время добивались для себя свободы торговли. На протяжении многих веков экспорт товаров из Китая преобладал над импортом. В Европе среди высших слоёв общества огромным спросом пользовались чай, шелковые ткани, китайский фарфор. За купленные товары иностранцы расплачивались серебром. Китайский внутренний рынок, фантастически ёмкий по европейским масштабам, был ориентирован на местное производство. Английские торговцы упорно пытались навязать товар, который был бы принят китайским рынком. Но китайский рынок отторгал все, что ему предлагали, включая английское сукно и индийский хлопок. И все же такой товар, в конечном счёте, был найден – им оказался опиум.
Опиум был известен в Китае как медицинское средство, начиная с VIII в. Однако как наркотическое вещество опиум становится известен только с XVIII в. и широко распространяется среди жителей некоторых приморских провинций Южного Китая, превращаясь в серьёзную общественную проблему. В 1839 г. по распоряжению генерал-губернатора провинции Гуандун в Гуанчжоу была конфискована и сожжена огромная партия опиума, принадлежавшего английским купцам.
Это и послужило поводом для вооружённой интервенции. Началась первая опиумная война, завершившаяся подписанием в 1842 г. Нанкинского договора, по которому пять портов Китая были открыты для иностранной торговли. В следующем году англичане добились от цинского правительства права экстерриториальности и создания своих поселений в открытых портах. Через год к этим неравноправным договорам присоединились Франция и США, а затем и другие европейские государства.
Задолго до этого (с 1715 г.) Российская империя имела на китайской территории Русскую духовную миссию, официально направленную в Китай в целях «пастырского надзора за потомством албазинцев» (жителей даурского поселения Албазин на Амуре – спорной территории между двумя странами) и распространением христианства среди китайцев. Фактически Русская духовная миссия являлась негласным дипломатическим и торговым представительством России в Пекине, откуда поступала крайне ценная информация о стране пребывания, закрытой для остального мира.
В 1858 г. был подписан Айгунский договор о русско-китайской границе. В этом же году между Китаем и рядом иностранных государств – Англией, Францией, США и Россией – были заключены Тяньцзинские договоры, которые значительно расширяли политические и торговые права иностранных держав в Китае. Однако спустя год китайская сторона отказалась от ратификации как Айгунского, так и Тяньцзинского договоров.
В марте 1859 г. в Пекин в качестве чрезвычайного посланника был направлен 27-летний генерал-майор Николай Павлович Игнатьев1 с целью урегулирования спорных вопросов, относившихся к Айгунскому договору и предоставления России прав на сухопутную торговлю во внутренних районах Китая. Вначале китайцы решительно отклонили предложения Игнатьева и предписали ему незамедлительно покинуть страну.
Тем временем англичане с французами открыли военные действия против Китая и в октябре 1860 г. заняли северную часть Пекина. Иностранные державы предъявили китайцам ультиматум, угрожая свержением маньчжурской династии и разрушением столицы. Императорский двор был в полной растерянности. Император бежал из столицы, оставив в качестве уполномоченного для ведения переговоров князя Гуна, своего младшего брата. В этот критический момент китайская делегация обратилась к генералу Игнатьеву с просьбой о помощи и посредничестве. Игнатьев к этому времени уже ознакомился с ультиматумом союзников и заручился их согласием на принятие посредничества. «Примите наши требования, – убеждал Н. П. Игнатьев китайцев, – обещайте следовать нашим советам в своих действиях и отношениях с союзниками, и я ручаюсь, что Пекин будет спасён и что маньчжурская династия останется на престоле». Гун принял условия русского представителя и тем самым сохранил на троне маньчжуров.
14 ноября 1860 г. был подписан Пекинский договор. Гун объявил Н. П. Игнатьеву, что подписывает договор «…в знак благодарности за оказанные благодеяния».
Пекинский договор подтвердил Айгуньский и Тяньцзинский договоры. Он определил восточную границу между владениями России и Китая. Согласно этому договору, Уссурийский край окончательно перешел под юрисдикцию России. Россия получила право беспошлинной сухопутной торговли вдоль всей восточной границы и в Кашгаре, в китайском Восточном Туркестане. В Урге (ныне Улан-Батор) и Кашгаре русскому правительству разрешалось учреждать свои консульства.
1860 г. ознаменовал новый этап проникновения западных держав в Китай. Агрессивные военные действия, развязанные Англией и Францией против Китая, закончились подписанием в 1860 г. Пекинских соглашений. Согласно этим соглашениям, иностранные государства получали право иметь свои представительства в Пекине, заключать выгодные концессионные соглашения, их торговцам и миссионерам разрешалось свободно передвигаться по Китаю и покупать землю. Иностранцы создавали в Китае свои особые поселения – сеттльменты, на которые не распространялась юрисдикция цинских властей. Стали складываться европейские общины, которые имели свои клубы и ассоциации, издательства, газеты, банки и даже полицию. Как посредник между Китаем и Западом наибольшее значение приобрёл Шанхай, который за короткий срок превратился в крупнейший порт и промышленный центр Китая.
В 1851–1864 гг. по Китаю прокатилось одно из крупнейших народных восстаний – Тайпинское восстание, направленное против Цинской династии. В первое время правительственные силы терпели поражения от восставших. Перелом в военных действиях был связан не столько с активностью войск центрального правительства, сколько с формированием по разрешению цинского правительства новых вооружённых сил – нерегулярных армий, находившихся под контролем китайских чиновников-военачальников в тех районах, по которым прокатились волны тайпинского нашествия.
Таким образом, были заложены основы явления, которое впоследствии получило название «региональный милитаризм» и имело весьма важные политические последствия для развития Китая. Суть его состояла в том, что ослабленная внутренними смутами и внешними вторжениями императорская власть была уже не способна удерживать страну в рамках системы централизованного контроля. У империи Цин не было регулярной армии и в деле обороны она использовала армии своих провинций и ополченцев, которые не имели стандартной униформы и вооружений. «Региональными милитаристами» были не маньчжуры, а представители китайской по своему происхождению чиновничьей элиты. Офицеры армий «региональных милитаристов» были верны своему начальству и объединялись в клики по географическому признаку или как одноклассники по военным академиям. Подразделения формировались из выходцев из одних провинций. Подобный принцип помогал избегать проблем с пониманием, связанных с большим количеством диалектов в китайском языке, но при этом данный принцип поощрял центробежные тенденции. Региональные армии создавались уже по европейскому образцу и нередко имели иностранных инструкторов. Начался упадок традиционной китайской государственности.
В 1891 г. русское правительство приступило к строительству Великого Сибирского пути. Первоначально планировалось вести Транссибирскую магистраль по Амурской дуге – по российской территории. Однако министр путей сообщения и финансов С. Ю. Витте считал, что России следовало добиваться от Китая разрешения на строительство Сибирской железной дороги «по прямой» – через Маньчжурию к Владивостоку. Осуществление этого проекта должно было обеспечить быструю переброску русских войск на Дальний Восток, подчинить русскому влиянию экономику Маньчжурии и прилегающих к ней провинций, предотвратить японскую агрессию против Кореи.
В 1896 г. между Россией и Китаем был заключён русско-китайский «Договор о союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги» (КВЖД). Статья 1 договора предусматривала военный союз, который должен был вступить в силу в случае нападения Японии на Россию, Китай или Корею. В статье 4 договора указывалось, что «…китайское правительство соглашается на сооружение железнодорожной линии через китайские провинции Амурскую и Гиринскую в направлении на Владивосток». В том же 1896 г. между китайским правительством и Русско-Китайским банком (был учреждён с участием русского и французского капиталов для реализации франко-русского займа Китаю), впоследствии – Русско-Азиатским банком, был подписан контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД. Это была юридическая фикция, имевшая своей целью скрыть участие русского правительства в проекте. Предусматривалось также учреждение Русско-Китайским банком Общества Китайско-Восточной железной дороги, которое и должно было осуществлять постройку и эксплуатацию железнодорожной магистрали. Для Общества КВЖД была избрана акционерная форма. Из всего пакета в 1000 акций (по 5 тыс. рублей каждая), 700 предназначались для русского правительства, 300 – для частных лиц (ими стали руководители Русско-Китайского банка).
По контракту России предоставлялось право эксплуатации дороги в течение 80 лет со дня открытия движения, после чего железная дорога бесплатно переходила во владение Китая. Вместе с тем китайскому правительству предоставлялось право «…через 36 лет выкупить эту линию, возместив полностью все затраченные капиталы и все сделанные для означенной линии долги с наросшими процентами».
Обществу КВЖД предоставлялись всевозможные привилегии: «…безусловное и исключительное управление своими землями», право сооружения телеграфа, доходы общества освобождались от налогов. Общество было свободно от какого бы то ни было контроля со стороны китайского правительства. Состав управления дороги, назначение и увольнение руководящих сотрудников подлежали утверждению русским министром финансов.
В 1903 г. строительство дороги было завершено. Протяжённость линии составила более 7,5 тыс. км. На строительство КВЖД царское правительство потратило около 375 млн рублей золотом. Общество КВЖД в своих интересах приобретало пароходы для организации морского судоходства. Во многих портах Дальнего Востока были устроены склады, конторы и даже пристани. Общество владело телеграфом, телефонными станциями, производило добычу угля, заготовку древесины, вело разведку полезных ископаемых в различных районах Маньчжурии. Россия получила от Китая на территории КВЖД те же права и привилегии, что и другие державы в Китае: экстерриториальность в Маньчжурии для русских подданных, право ввести свои войска для охраны дороги в «полосе отчуждения» и пр. Полоса отчуждения – коридор вдоль Китайско-Восточной железной дороги шириной 9 верст (9,6 км) по сторонам от линии – стала своеобразным государством в государстве.
Согласно Русско-китайской конвенции 1898 г., Россия получала в арендное («полное и исключительное») пользование на 25 лет Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далянь) вместе с прилегающим водным и территориальным пространством (Ляодунский полуостров). Общество КВЖД также получало право на строительство соединительной ветви от одной из станций магистральной линии до Дальнего – южной ветки Китайско-Восточной железной дороги, получившей впоследствии название Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), от Дальнего до Чанчуня.
В сентябре 1899 г. правительство США обратилось к другим державам с нотой, в которой предлагалось соблюдать равенство возможностей в торговле с Китаем. В последующем эта инициатива получила название доктрины «открытых дверей».
20 июня 1900 г. пекинское правительство объявило войну иностранным державам. В столицу вошли отряды членов тайного общества «Ихэцюань» («Кулак, поднятый во имя справедливости и гармонии»), движение которых начало развиваться ещё осенью 1898 г. в провинции Шаньдун. Ихэцюаньцы выступили против чужеземного засилья и совместно с цинскими войсками начали осаду иностранных миссий и концессий в столице Китая. Существенный ущерб был нанесён строившейся КВЖД. 40-тысячная армия из частей, представленных восемью державами (Великобритания, Германия, США, Франция, Россия, Япония, Австро-Венгрия и Италия), подавила восстание ихэтуаней («боксёрское» восстание) и в августе 1900 г. заняла Пекин.
Победители не смогли договориться между собой относительно раздела Китая и решили сохранить у власти цинский двор, добившись от него дальнейших уступок, закреплявших, по существу, полуколониальный статус страны. Китай обязывался уплатить иностранным державам в течение 39 лет огромную контрибуцию в размере 450 млн таэлей. Для обеспечения уплаты контрибуции иностранные государства получили право контролировать процедуру сбора таможенных пошлин и соляного налога. Им разрешалось также иметь в центральной части столицы укрепленный «посольский квартал» и размещать свои гарнизоны в 12 других стратегически важных пунктах Китая.
На рубеже XIX–XX вв. в своём окончательном виде сложились сферы влияния западных держав. Регионом преимущественного экономического проникновения Англии стал юг Китая: Англия арендовала сроком на 99 лет большую часть полуострова Цзюлун с прилегающими островами, включая Сянган (Гонконг), а также провинции среднего течения Янцзы.
Согласно Симоносекскому договору, заключённому между Японией и Китаем 17 апреля 1895 г. в г. Симоносеки (Япония) после поражения Китая в Японо-китайской войне 1894–1895 гг., Япония отторгла от Китая о. Тайвань, получила огромную контрибуцию и право занятия промышленной деятельностью в Китае для своих подданных. Сферой влияния Японии стали также провинции нижнего течения Янцзы (главным образом Фуцзянь).
Франция стремилась утвердиться в южных провинциях Китая, прилегавших к её владениям в Индокитае (Юньнань, Гуанси, Гуандун).
Германия установила контроль над Шаньдуном.
Основные интересы России были сосредоточены в Маньчжурии, где нарастало соперничество с Японией.
Русско-японская война 1904–1905 гг. изменила расстановку сил в Маньчжурии. Согласно Портсмутскому мирному договору 1905 г., Россия уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, признавала Корею сферой японского влияния и передавала Японии Южный Сахалин. Японии также отходила южная ветвь КВЖД – этот участок дороги Япония перестроила на свою колею.
В начале XX в. в провинциях Южного и Восточного Китая стали возникать различные антиманьчжурские организации. Одним из признанных лидеров революционного движения являлся Сунь Ятсен2. В конце 1894 г. Сунь Ятсен создал первую в истории Китая революционную организацию – «Союз возрождения Китая» («Синчжунхуэй»). Первоначально малочисленный союз объединил патриотически и антиманьчжурски настроенных молодых выходцев из социальных слоёв, уже соприкоснувшихся с европейской культурой и западным образом жизни. Цели этой организации нашли своё отражение в клятве, которую произносили вступавшие в союз: «…Изгнать маньчжуров, восстановить государственный престиж Китая, учредить демократическое правительство». В 1905 г. на основе объединения революционных организаций, в число которых входил «Союз возрождения Китая», был образован «Китайский революционный объединённый союз» («Чжунго гэмин Тунмэнхуэй»). В основу программы этой организации были положены сформулированные Сунь Ятсеном три «народных принципа»: национализм, народовластие и народное благосостояние. Под «национализмом» Сунь Ятсен понимал свержение цинской династии и восстановление суверенитета китайской (ханьской) нации. «Народовластие» трактовалось им как ликвидация монархического строя и учреждение республики. Принцип «народного благосостояния» содержал в себе уравнивание прав на землю, т. е. проведение постепенной национализации земли путём введения на неё прогрессивного налога на землю.
Из Пажеского корпуса вышел в лейб-гвардии гусарский полк (1849), штаб-ротмистр (1851). По Генеральному штабу службу проходил при штабе главнокомандующего гвардейским и гренадерским корпусом (1852), квартирмейстер 2-й легкой гвардейской кавалерийской дивизии, капитан (1854), флигель-адъютант (1855).
Военный представитель в Лондоне (7.06.1856–16.10.1857). Был отозван из Англии из-за того, что при осмотре военной выставки «по рассеянности» положил в карман ружейный патрон новейшего образца.
Генерал-майор (1858). Возглавлял военно-дипломатическую миссию в Хиву и Бухару (1857–1858), которая явилась одной из самых крупных и хорошо подготовленных за всю историю взаимоотношений России со среднеазиатскими ханствами. В состав миссии входили офицеры Генерального штаба, военные топографы, гидрографы, переводчики, астроном, ориенталист, фотограф (всего 119 человек). Миссию поддерживали суда Аральской флотилии.
Чрезвычайный посланник в Китае (17.05.1859–21.08.1961). Генерал-лейтенант (1860). Директор Азиатского департамента МИДа (21.08.1861–14.07.1864), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Константинополе (25.03.1864–14.01.1877). Командировка в Берлин, Лондон, Париж и Вену (февраль – март 1877 г.) с целью добиться нейтралитета европейских держав в Русско-турецкой войне. Подписывал Сан-Стефанский мирный договор с Турцией (1878).
Министр государственного имущества (25.03–4.05.1881), министр внутренних дел (4.05.1881–30.05.1882), член Государственного совета (с 3.12.1877 г.). Генерал-адъютант (1882). Почетный член Николаевской академии Генерального штаба, президент Славянского благотворительного общества (1888).
Похоронен в имении Крупнодерницы Киевской губернии. На его мраморном саркофаге были высечены две даты: «Пекин 14 ноября 1860 г.» и «Сан-Стефано 19 февраля 1978 г.».
Китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. Родился недалеко от Кантона. Происходил из простой крестьянской семьи, положение которой несколько улучшилось после того, как старший брат Суня эмигрировал на Гавайские острова, где составил себе состояние, основав преуспевающую скотоводческую ферму. Когда Суню исполнилось 12 лет, старший брат взял его к себе, решив дать ему образование в одной из миссионерских школ на Гаваях. Спустя три года, Сунь Ятсен, воспитанный в христианских воззрениях, вернулся на родину, где продолжил образование в одной из миссионерских школ в Гуандуне. Затем поступил в медицинский институт в Гонконге, который окончил в 1892 г. Занимался медицинской практикой в Макао.
Сформулировав программу возрождения Китая. Во время японо-китайской войны перешёл на радикальные антимонархические и антиманьчжурские позиции, создал в эмиграции партию «Синчжунхой» (Союза возрождения Китая) (1894). После провала восстания в Гуанчжоу 1895 Сунь Ятсен эмигрировал в Японию, откуда отправился в США и Европу. В Лондоне была предпринята попытка его похищения цинскими властями, вызвавшая большой общественный резонанс. В 1905 основал в Японии революционную группу Чжунго гэмин Тунмэнхуэя (Китайский революционный объединенный союз), программой которой были сформулированные Сунем «три народных принципа», трактовка содержания которых существенно менялась со временем. В период 1905–1911 организовал около десяти локальных восстаний в разных провинциях Китая.
Основатель и руководитель Гоминьдана (Национальной партии). Избран первым временным президентом Китайской Республики (1912). Президент Китайской Республики, формально объединившей пять южных провинций (1921–1922). Глава республиканских правительств в г. Гуанчжоу (Кантон, пров. Гуандун; 1917–1918 и 1923–1925). Генералиссимус. Умер от рака печени. В 1940 г. Сунь Ятсен посмертно получил титул «отца нации».
Город, в котором он родился, был переименован в Чжуншань.