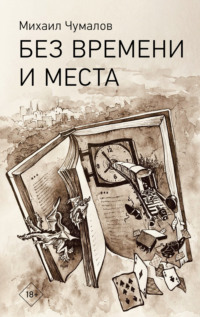Kitabı oxu: «Без времени и места»
© Чумалов М., текст, 2025
Без времени и места
Железнодорожная повесть
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
И. Тургенев
Что-то с памятью моей стало:
Всё, что было не со мной, помню.
Р. Рождественский

Время, место и прочее
Чтобы написать более или менее приличный рассказ или повесть, нужно не так уж и много: единство места и времени, герой и сколько-нибудь внятный сюжет.
Но скажите на милость, где я возьму всё это в скором поезде? Где янайду место в раскачивающемся на стыках вагоне, который мчится со скоростью сто двадцать километров в час? Сейчас он здесь, а не успеешь чаю попить, как за окном уже совсем другие края. Вчера ты заснул в субтропиках, сегодня проснулся среди донских степей, позавтракал, покурил – и поезд уже в сердце среднерусской равнины.
Где я, чёрт побери, возьму вам в поезде нормальноевремя?Здесь оно не течёт, как везде, от прошлого к будущему, а топчется на одном месте или колеблется, как кисель в чашке. В дороге время разбивается не на часы и минуты, а на промежутки от одной остановки до другой. Здесь спят и едят не тогда, когда положено, а когда надоедает пялиться в окно.
Мало того, что моё прошлое закончилось безвозвратно, а будущее настолько призрачно, что и говорить о нём нечего, так и настоящее ведёт себя причудливо. Я просто увяз в безвременье, как древняя муха в янтаре.
Разве можно говорить осюжете там, где ровным счётом ничего не происходит? Где прогулка через гремящие тамбуры в вагон-ресторан или покупка малосольных огурцов на полустанке составляют содержание целого дня.
А что касаетсягероя, так это вообще курам на смех. Небритая помятая личность, очнувшаяся от похмельного сна на третьей багажной полке плацкартного вагона – не герой, а чёрт знает что. У него и билета-то нет, и лишь по милости получившего мзду проводника оказался он здесь. На бёдрах у него синяки от жёсткой полки без матраца, в голове – туман и смятение, вызванное полной потерей идентификации, а в душе – недоверчивое изумление из-за открытия в себе чувств, о которых раньше и не подозревал. Кризис среднего возраста, видите ли, застал его на излёте третьего десятка лет – всё не как у нормальных людей. Нет, на роль героя этот тип не сгодится. Герой – это субъект решительного действия. А этот только лежит на своем ложе, предназначенном не для людей, а для чемоданов, под самым потолком купе да грезит об иных местах и временах, где возможно счастье.
Впрочем, это и есть я, автор. Познакомимся. Героем этого рассказа быть не претендую, здесь я только наблюдатель.
– Ну тогда наблюдай, – говорю я сам себе. – Рассказ-то надо продолжать, раз уж взялся. Посмотри вокруг: в этом поезде – шестьсот мест и столько же пассажиров, не считая проводников, машинистов и официанток вагона-ресторана. Неужели не найдется среди них кого-то, кто достоин быть героем твоего рассказа?
Вот, погляди: едет рядом молодой человек, похожий на тебя самого лет семь назад. На нём модная в интеллигентских кругах бородка а-ля Хемингуэй и в руках книга Курта Воннегута, выражение лица многозначительное, – всё выдаёт столичного студента или аспиранта. При этом вид у него мужественный, лицо загорелое и обветренное, широкие плечи и сильные руки в мозолях, пропылённые джинсы. При нём видавший виды брезентовый рюкзак. Не иначе как археолог. Чем тебе не герой? Поговори с ним и – я уверен – найдётся тебе тема для рассказа.
Или вот ещё: каким образом оказался здесь, в плацкартном вагоне, этот задумчивый мужчина в строгом костюме при галстуке, лакированных туфлях и с чёрным «дипломатом» в руках? Он нелюдим и будто напуган. Не скрывается ли тут интрига?
Обрати внимание и на эту загадочную личность, лежащую на верхней боковой полке лицом к стене вагона. За полдня езды этот человек ни разу не повернулся к людям и не издал ни одного звука. Кто он? О чём печалится, какие страсти его обуревают? А ещё лучше: поройся в своих воспоминаниях. Тысячи людей встретились тебе в жизни, и у каждого есть история, достойная рассказа.
Хотя и нет у меня сейчас настоящего, и будущее неясно, но прошлое-то осталось, и оно живёт в моей душе, терзает её и рвётся наружу, как шаловливый щенок. Стоит закрыть глаза, как полузабытые тени прошедшего обретают формы, краски, запахи и голоса. Времена смешиваются и путаются, наползают друг на друга и обрастают деталями, которых быть в них не должно. Огромный мир съёживается и вмещается в купе поезда. Оживают те, кого уже нет на этом свете, а те, кто далеко, оказываются рядом – только руку протяни. Они живут своей жизнью, говорят, спорят, любят и враждуют, совершают большие дела и мелкие глупости. И уже не разберёшь, что из этого было на самом деле, а что придумалось мне, когда я лежал на третьей багажной полке плацкартного вагона, уставившись глазами в потолок.
Симферополь. Вокзал
Четвёртого октября 1982 года скорый поезд № 8 «Нева» сообщением Севастополь – Ленинград прибыл на симферопольский вокзал точно по расписанию в 12 часов 39 минут. Локомотив притащил из режимного города морской славы восемнадцать полупустых вагонов. Зато на платформе было оживлённо: здесь ожидали посадки три сотни пассажиров.
У открытых дверей двенадцатого плацкартного вагона, где молоденькая проводница проверяла билеты, собралось два десятка отъезжающих. Андрей, подошедший к вагону последним, пристроился в конец небольшой очереди и принялся разглядывать своих попутчиков.
Пляжный сезон закончился, и курортников, заполнявших симферопольский вокзал в летние месяцы, было немного. Ленинградцев и москвичей Андрей определил сразу. Вот пожилой седовласый мужчина болезненного вида, худой и сутулый, одетый в длинное, не по погоде пальто. Целительный отдых на южном побережье, похоже, не пошёл ему на пользу: мужчина выглядел измождённым и явно чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Он ёжился и прятал лицо за поднятым воротником, словно пытался быть незамеченным кем-то, находившимся здесь же, на перроне. Вот молодая пара с большим чемоданом, которая ничем не привлекла внимания Андрея. В нашем рассказе они участия не примут. Да ещё прогуливались по перрону, покуривая, два мужика за пятьдесят с загоревшими и испитыми лицами. Эти двое, видимо, отбыли полный срок профсоюзной путёвки в одном из санаториев Южного берега, где оздоровительным процедурам и минеральным водам предпочитали массандровские вина и карточные игры. Их лица не выражали ничего, кроме усталости.
В остальных пассажирах угадывались крымские аборигены. Первым у двери стоял мужчина средних лет, выделяющийся среди других своей одеждой. На нём был строгий чёрный костюм, белая рубашка с галстуком и отчаянно блестевшие на солнце чёрные лакированные туфли. В руках он держал чёрный же «дипломат». В спальном вагоне такой наряд не вызвал бы никаких вопросов, но здесь, среди разноцветной и небогато одетой толпы обладателей плацкартных билетов, этот «чёрный человек» выглядел белой вороной.
Мужчина нервно подёргивал плечом, и этому была причина. За его спиной стояла женщина неопределённых лет и столь же неопределённой внешности, державшая за руку мальчика лет десяти. Ребёнок выглядел и вёл себя, мягко говоря, странновато. Уставив взгляд в стену вагона и совершенно не обращая внимания на окружающих, мальчик громко пел, но песня его ограничивалась одной только фразой.
– Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… – монотонно повторял он эти слова опять и опять, как испорченная пластинка. Заевший Мальчик – так назвал его про себя Андрей, который привык давать встреченным им людям прозвища, понятные ему одному.
Следом дожидался своей очереди аккуратно одетый поджарый молодой мужчина с восточным лицом и прямой осанкой, держащийся гордо и как бы отстранённо. В нём Андрей узнал представителя обиженного Сталиным национального меньшинства, которое когда-то было здесь национальным большинством и до сих пор не может смириться с этим фактом.
Дальше мужчина постарше и покрупнее в потрёпанной матерчатой куртке, с зычным голосом, большими руками и усами цвета спелой пшеницы – представитель национального большинства, которое ещё недавно было здесь меньшинством и тоже не может смириться с этим. У Андрея он получил прозвище Пшеничные Усы.
Наконец, по-южному дородная и румянощекая хлопотливая тётя – переспелый плод благодатной земли – с бесчисленными сумками и авоськами и что-то жующим дитём мужского пола, таким же дородным и румянощёким.
Быстро оглядев остальных и не найдя для себя ничего интересного, Андрей переключил внимание на проводницу. Весёлая хохотушка с живым лицом, приятно налитым телом и звонким голосом выгодно выделялась среди вялой толпы. Было ощущение, что девушка уже приняла на свою рвущуюся из-под форменной куртки грудь нечто такое, что придало её природной живости дополнительную энергию. Ей было лет двадцать, не больше, и, судя по стройотрядовской куртке с нашивками, какие назывались тогда «бойцовками», проводница была студенткой какого-нибудь украинского вуза или, скорее, техникума, подрабатывающей в летний период на железной дороге.
Андрей не раз ездил по южной трассе, и такой типаж был ему знаком. За месяц-другой поездной жизни, ошалев от внимания пассажиров и щедрых чаевых, студентки-проводницы забывали строгость своих провинциальных мамаш, привыкали пить, курить, драть нещадно деньги с безбилетников и зарабатывать всеми многочисленными уловками, изобретёнными на железной дороге, а главное – становились доступны для проезжих ловеласов разных возрастов.
Андрей с удовольствием пропел про себя: «Она стоит королевой, машет ручкою левой, в синем кителе она хороша – её важное дело, её нежное тело и до ужаса большая душа… Проводница! Ламца-дрица!». Так девушка, которую звали Оксана, тоже обрела прозвище в этом рассказе – мы вслед за Андреем будем звать её Ламцадрица.
Тут внимательный читатель вправе укорить меня за небрежность: эта песня впервые прозвучала лет через пятнадцать после описываемых здесь событий. Я знаю это, дорогой читатель, но поделать ничего не могу. Дело в том, что времена в наших воспоминаниях ведут себя своенравно: они обмениваются деталями, не спрашивая ничьего разрешениия. Впрочем, хорошая песня уместна всегда. Да и проводницы во все времена те же.
Конечно, в других обстоятельствах Андрей заметил бы и некоторую грубоватость лица проводницы, и излишнюю, не по возрасту, тяжесть в талии, и плохо прокрашенные волосы, выбивающиеся из-под засаленного синего берета. К тому же, на вкус москвича, держалась она вульгарно. Но стоило ли обращать на это внимание?
Сентябрь Андрей – аспирант-историк – провёл в степи возле Евпатории на археологической базе Московского университета, помогал друзьям-археологам как подсобный рабочий, землекоп. Сам Андрей археологом не был, а обязательную для всех студентов практику прошёл ещё первокурсником, так что особой необходимости тратить время каникул на тяжёлый труд не было. Но он любил экспедиционную жизнь: любил спать на нагретой за день земле под безбрежным южным небом, ловить ноздрями терпкий степной воздух и стряхивать по утру росу с палатки. Ему нравилось, обливаясь потом под злым крымским солнцем, долбить киркой окаменевшую, спекшуюся на жаре землю, отгребать её лопатой, срывать мозоли и чувствовать, как тело наливается крепкой мужской силой.
Больше городских ночных развлечений он ценил вечерние посиделки при свете самодельных ламп – их делали из свечей и пустых бутылок с выбитым дном – песни под гитару, неспешные разговоры за стаканом вина. Ему нравилось встречать приезжающих из Москвы новичков с чуть усталым видом бывалого копателя. Даже каждодневные хлопоты о том, где бы достать немного денег на вечернюю выпивку, оставляли приятные воспоминания. Словом, он любил всё, что составляет сумбурную экспедиционную жизнь: кто её знает, поймет, а кто не знает, тому всё равно не объяснишь. Поэтому уже третий год подряд Андрей приезжал сюда, но не летом, когда на раскопе учат азам археологической работы первокурсников, а в сентябре, когда остаются только свои, сильные и бывалые, когда работают на износ, без выходных, не за запись в зачётке, а за идею и интерес.
В этом году работали особенно упорно. Ещё летом начали расчистку скифского могильника, который казался неразграбленным, и потому торопились, чтобы вскрыть его до окончания полевого сезона. Так что о девушках пришлось на время забыть. Да и где их взять – сезон закончился, отдыхающие из окрестных посёлков поразъехались, до города добираться неблизко, и сил к вечеру уже не оставалось. Так что даже будь проводница постарше и подурнее, скорее всего, она всё равно бы показалась Андрею привлекательной.
Пассажиры уже прошли в вагон, и Андрей остался у дверей один на один с проводницей. Протягивая билет, он поднатужился и выдал девушке такой неуклюжий и двусмысленный комплимент с претензией на галантность, на какой бы при других обстоятельствах не отважился. Что-то о том, что поездка в этом поезде обещает быть весьма приятной, потому что здесь такие замечательные проводники, которые так любезны с пассажирами, но не все могут это оценить по достоинству, а те, кто могут, те… Тут он окончательно запутался и закруглил фразу, нимало, однако, не смутившись. Андрей знал, что его низкий бархатистый баритон производит куда более сильное впечатление, чем слова, которые он им произносит.
Ответом был кокетливый взгляд и сдавленный смешок, из чего Андрей понял, что нужный эффект произведён. Он достал сигарету, закурил и стал лихорадочно придумывать следующую фразу, чтобы закрепить успех.
– До отхода поезда осталось пять минут, – хрипло объявил репродуктор. И тут за спиной Андрея раздался топот и детские голоса. По перрону, волоча за собой сумки и рюкзаки, накатывала небольшая, человек пятнадцать, но шумная толпа подростков в одинаковых белых рубашках и пионерских галстуках.
– Здесь… Сюда… Двенадцатый… – пронеслось по перрону, и пионеры сгрудились у дверей вагона, толкаясь и нетерпеливо притоптывая. Из толпы выдвинулись и насели на проводницу две фигуры постарше: девушки за двадцать, невысокая блондинка в такой же, как у детей, белой сорочке и красном галстуке и стройная брюнетка в джинсах и чёрной свободной блузе. Обе загорелые, дышащие молодостью и свежестью недавнего отдыха. «Вожатые, ленинградки, – понял Андрей, – везут детей со смены в ”Артеке“ домой».
Только успели запихнуть детей в вагон, поезд тронулся. Как ни старалась проводница загнать туда Андрея вслед за пионерами, но тот был твёрд: сначала помог войти ей самой, галантно подтолкнув под талию, и только потом шагнул сам в ускоряющий ход вагон.
Симферополь – Джанкой
В вагоне было сумрачно и душно, пахло потом и какой-то кислятиной. Проталкиваясь между полками к своему месту, Андрей старался не задевать лицом человеческие ноги, тут и там торчащие в проход с верхних полок. Вдруг на его пути выросла невысокая фигура в расхристанном кителе с сержантскими погонами и в фуражке набекрень, из-под которой выбивался отросший не по уставу русый чуб. Дембель стоял на ногах нетвёрдо, но рукой крепко сжимал початую бутылку. Лицо его покрывала трёхдневная щетина, подворотничок был сер от грязи.
– Здорово, брат! – Дембель кинулся к Андрею так, будто они были закадычными друзьями. – Как дела?

– Дела у прокурора, – отшутился Андрей и сделал попытку протиснуться между сержантом и переборкой. Но тот жаждал общения.
– Откуда будешь? Из какого города?
– Из Москвы, – пришлось ответить Андрею.
– Земе-е-ля! – Лицо дембеля расплылось блаженной улыбкой. – Я ж сам с Ярославля! Земе-е-ля!… – Он заговорщически придвинул лицо к Андрею и, указывая на бутылку, добавил тихо: – Кирнём, братан? Водка есть… Ну выпей со мной, земеля… Я ж, понимаешь, один пить не могу. А тут, – он махнул рукой, – одни, бля, трезвенники и дети…
– Не сейчас, – вежливо, но твёрдо ответил Андрей и уже без церемоний отодвинул сержанта в сторону. С этого момента дембель обрёл имя, под которым он и будет выступать до конца нашего рассказа – Земеля.
Отбившись от навязчивого солдата, Андрей тут же забыл о его существовании. Но ты, читатель, не упускай его из виду. С ним мы ещё не раз встретимся в этом поезде. Этот нелепый человечишка станет немаловажным, а в чём-то даже одним из главных персонажей этой повести. Почему – это ты, читатель, узнаешь в конце.
Андрей занял верхнее место номер 16 в четвёртом отсеке. Забросив рюкзак на багажную полку, он присел внизу и стал изучать обстановку. Пионеры разместились в первых трех отсеках вагона, а две девушки-вожатые оказались соседками Андрея по купе – они занимали нижние полки. Позже Андрей узнает, что обеих зовут Наташами, и назовёт их про себя – Наташа Светленькая и Наташа Тёмненькая. На второй верхней уже ехал парень лет двадцати пяти с сильно загорелым и обветренным лицом. Его мускулистые руки и мозолистые ладони выдавали привычку к физическому труду. Занятой оказалась и верхняя боковая полка. На ней, лицом к стене, лежал какой-то человек, с головой накрытый простынёй, из-под неё виднелись только рыжего цвета вельветовые брюки. Разобрать, мужчина это или женщина, было невозможно. Человек, видимо, крепко спал: посадочная суета в вагоне не заставила его или её даже пошевелиться. На нижнюю боковую присел тот самый молодой мужчина восточной внешности, что стоял в очереди вслед за Заевшим Мальчиком.
В соседний, пятый отсек заселился сам Заевший Мальчик со своей мамашей. Песню он не прерывал ни на минуту. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…» – неумолимо раздавалось из-за перегородки, и этот бубнёж стал уже изрядно Андрея раздражать. Туда же проследовал загадочный мужчина с чёрным дипломатом. На верхнюю боковую в пятом отсеке взгромоздился Пшеничные Усы, а нижнюю заняла хлопотливая тётка со своими авоськами и дитём. Сутулый мужчина в пальто поселился на нижней полке в следующем, шестом отсеке. Компания, в которой Андрею предстояло проделать путь до Москвы, определилась.
– Сейчас придет тётя в форме, билеты будет проверять, – говорила женщина своему румяному сыну шёпотом, но Андрей, сидевший в метре от неё, слышал каждое слово, – так ты скажи ей, что тебе пять лет.
– Мама, мне шесть уже.
– Но ты скажи ей, что пять. Так надо… Посиди здесь, я сейчас вернусь. И никуда не отходи. Здесь все наши деньги. Украдут – нам кушать будет не на что. – Она с подозрением оглядела соседей. – Порисуй пока.
Она сунула мальчику книжку-раскраску и ушла в конец вагона, где были туалетные комнаты. Спокойно посидеть мальчику не удалось – рядом нарисовался Земеля, изнывавший от жажды общения.
– Здорово, малец. Доложи-ка дедушке дембелю, как звать тебя?
– Боря… – ребёнок был в восторге, что с ним разговаривает человек в военной форме. – А погоны у тебя настоящие? Ты генерал?
– А то! Гвардии сержант! А ты кто?
– Я солдатом буду, – гордо заявил Боря.
– Молодец! И сколько ж тебе лет, боец?
Боря насупился, подумал немного, но ответил, как велела мать:
– Пять.
– Так ты дух бесплотный!.. Я-то думал, ты – боец, а ты салабон, оказывается.
– Как это «салабон»?
– А так! – Земеля охотно пустился в объяснение неуставной военной терминологии. – Вот я, видишь, – «дембель». Главней меня никого нет. Только командиры.
– Ух ты! – сомлел от восторга Боря.
– А ещё есть «деды» и «черпаки» – это тоже нормальные пацаны, солдаты. А «слоны» и «чижи» или «духи» по-другому – это ещё не бойцы. Салабоны, короче. Понял?
Мальчик был готов расплакаться:
– Я не салабон. Я солдат. Мне шесть уже, я неправду сказал.
– Так это другое дело, боец! – Земеля расплылся улыбкой. – Шесть – это не пять, уважаю. Хотя до дембеля ещё далеко… Расти скорее, братан, – и Земеля ушёл в поисках достойного собутыльника.
В проходе появилась мама мальчика.
– Мама, – радостно закричал Боря, – деньги никто не украл. Вот они… А ко мне генерал приходил! С погонами! Он сказал, что я – боец!
– Тише ты! – буркнула мамаша и села, заслонив сумку с деньгами своим внушительным телом. Вскоре пришла и Ламцадрица. Проверив у женщины билет, она спросила:
– Мальчику сколько лет?
– Пять, – быстро отвечала мама.
– Не-ет, не пять, – вдруг вмешался Боря, – мне шесть уже.
– Как же так, Боренька? Что же ты говоришь? – затараторила мамаша. – Не слушайте вы его. Он сам не знает. Пять ему.
– Не-ет, знаю, – упорствовал Боря. – Знаю! Шесть! Я не салабон, я боец. Вот!
– Женщина, надо билет купить детский, – устало сказала Ламцадрица.
Земеля вертелся поблизости, и Андрею показалось, что он увидел на лице сержанта довольную ухмылку.
* * *
Человеком в рыжих вельветовых брюках на верхней боковой полке была Алёна. Весь путь от Севастополя она пролежала лицом к стене, накрыв голову простынёй и уткнувшись носом в подушку. Она беззвучно рыдала. Алёна переживала крушение первой любви, да и всей своей короткой девятнадцатилетней жизни, и никто не мог ей в этом помешать. В Симферополе вагон наполнился людьми и шумом. Вновь прибывшие тащили по проходу свои чемоданы и баулы, задевая головами Алёнины ноги, спотыкаясь и матерясь, с грохотом закидывали кладь на багажные полки, рассовывали её под сиденья. Но ни эта посадочная возня, ни грубые окрики проводницы, выгонявшей из вагона провожающих, ни даже противный детский голос из соседнего отсека, который монотонно напевал одну и ту же фразу «Пусть бегут неуклюже», – никакие силы мира не смогли бы заставить Алёну пожалеть наконец свой затёкший левый бок и повернуться лицом к людям. Сейчас она ненавидела весь человеческий род, всё это проклятое богом племя предателей и мучителей.
Едва месяц прошёл с того дня, когда Алёна пришла получать студенческий билет иняза и тогда, в курилке первого этажа, впервые увидела Славу. За этот месяц её неторопливое и беззаботное прежде существование сначала разогналось до скорости экспресса, а затем рухнуло под откос.
Иначе и быть не могло. У девушки, стоящей на пороге взрослой жизни, не было шансов не попасть под сокрушительное мужское обаяние Славы. Мало того, что он носил редкое имя Мстислав, он был старше и опытнее Алёны, в меру загадочен, начитан, успешен и красив той самой беспроигрышной в любовных делах красотой, когда уже обретенная мужественность сочетается с ещё не утерянными юношескими прелестями: гладкостью кожи, ясностью глаз и припухлостью губ. Слава был аспирантом. Он легко летел по жизни, сопровождаемый восхищёнными женскими взглядами. О своих достоинствах он знал и охотно ими пользовался. Случилось так, что в тот самый день Алёна впервые в жизни не пришла домой ночевать.
Увлечения случались у Алёны и раньше, были и страстные поцелуи, и вполне откровенные ласки, и даже нечто большее произошло дважды, пока родители были на даче. Но всё это оказалось полудетской вознёй в сравнении с тем взрывом неведомых раньше эмоций, которые Алёна испытала со Славой. Всего одной ночи, расцвеченной бессчётными фейерверками и трепетом плоти, оказалось достаточным, чтобы Алёна забыла обо всём другом. Выражаясь языком бульварных романов, она с отчаянием жертвы бросилась в омут всепоглощающей страсти. И когда Слава предложил ей провести вместе месяц бархатного сезона в его родном Севастополе, она не колебалась ни секунды.
К началу занятий в институт Алёна не явилась, и это грозило ей исключением. Вместо лекций она три дня провела в очередях, добывая себе достойные купальники, юбочки и босоножки. Ночами кроила и крутила ручку швейной машины: так на свет появились эти сногсшибательные, последней моды вельветовые брюки клёш. Алёна так и не решилась признаться родителям, что вместо учёбы она уезжает с любовником на курорт. Уходя из дома, оставила записку на обеденном столе. И теперь, лёжа лицом к дребезжащей стене вагона, она с ужасом представляла себе неизбежное объяснение с отцом.
Сказать, что поездка, в которую Алёна отправилась с ожиданием прекрасных чудес, не удалась, было бы слишком деликатным. Отдых обернулся кошмаром. Неприятности начались сразу, в поезде. Слава беззастенчиво флиртовал с соседкой по купе, часто выходил с ней курить в тамбур, кокетничал с официантками в вагоне-ресторане. Таков был его привычный стиль жизни, но Алёна оказалась к этому не готова. Нельзя сказать, что Слава не обращал на неё внимания. Вовсе нет, он был с ней нежен и игрив, но при этом смотрел на неё несколько снисходительно и даже высокомерно, как смотрит хозяин на красивую и удобную вещь, прихваченную с собой в поездку. Алёна молча кусала губы, но в объяснения не пускалась, опасаясь спугнуть зыбкую надежду на счастье.
Первые дни у моря прошли для Алёны спокойно. В Севастополе ей всё было ново. Слава показывал ей корабли, катал по бухте на катере, по вечерам они вместе любовались закатами. Но затем всё пошло кувырком. Природа взяла своё: Слава не обходил вниманием ни одной симпатичной девушки, и едва заметный сначала холодок в его отношении к Алёне с каждым днём становился всё более очевиден. Ночью, прижимаясь к тёплой спине любимого, Алена наслаждалась тихим счастьем, но дни были отравлены ядом ревности. Частенько Слава оставлял её одну на пляже, ссылаясь на какие-то дела. Всё разрешилось, когда, возвращаясь однажды в гостиницу через прибрежный парк, Алёна застала Славу на скамейке в обнимку с какой-то незнакомой девицей. Объясняться не было ни сил, ни желания. Алёна наскоро покидала в сумку самое необходимое, оставив в гостиничном номере свои замечательные новые купальники и сарафаны, и пешком отправилась на вокзал. И вот она здесь – на верхней боковой полке двенадцатого вагона – наедине с опустошённой душой и чёрными мыслями.
* * *
Сергей Ильич – тот самый мужчина в лакированных штиблетах и с чёрным «дипломатом» – занимал верхнее место номер восемнадцать в соседнем от Андрея отсеке, а именно в том, где ехал со своей мамашей Заевший Мальчик. Но его нескончаемая песня не беспокоила Сергея Ильича, погружённого в тревожные думы. Тяготило его совсем другое. Сергей Ильич готовился впервые в жизни получить взятку и по этому поводу нервничал. Ехать ему предстояло до Белгорода.
Сергей Ильич служил директором небольшого завода в Симферополе, и волею судьбы в его распоряжении оказался заводской профилакторий на Южном берегу у самого моря. В том самом профилактории нашёлся неиспользуемый участок, который в свою очередь приглянулся председателю богатого белгородского колхоза в видах устройства там дачи. От Сергея Ильича требовалось немного. Это и нарушением-то назвать можно только с натяжкой: всего лишь подписать с колхозом договор о сотрудничестве и оформить участок как сельхозугодья для подсобного заводского хозяйства. С благородной целью кормить рабочих выращенными там витаминами. Но за это «немногое» колхозник предложил солидную по меркам Сергея Ильича сумму.
Деньги ещё только ждали Сергея Ильича в Белгороде, но страх расплаты уже сковывал его нежную душу. Ещё сильнее терзала её моральная сторона предприятия. Дело в том, что Сергей Ильич был честным человеком. До сих пор не то что в криминальных делах, но и просто в сколько-нибудь неблаговидных поступках он не был замечен. Сказывалось родительское воспитание, а родители Сергея Ильича имели сталинскую закалку и соответствующие принципы. Положить свою жизнь на алтарь государственного блага, не требуя ничего взамен, было для них единственно возможным выбором. Так и сына воспитывали. Отец Сергея Ильича, в прошлом главный инженер большого и важного предприятия, за всю жизнь ни разу не воспользовался своим положением в личных целях. Потому они с матерью, бывшим районным терапевтом, и остались, как любил приговаривать папа, «с голым задом», то есть с обычной советской пенсией и без накоплений, сожранных денежной реформой. Сергею Ильичу и представить было страшно, что будет с папой, если тот узнает, что его сын – взяточник.
Сам Сергей Ильич к своим сорока пяти годам капиталов тоже не скопил. Не нищенская вроде бы зарплата разлеталась неведомо куда: Сергей Ильич воспитывал троих лоботрясов переходного возраста и соответствующих запросов. Семья требовала авто, но накопить на него никак не удавалось. А в жизненных планах Сергея Ильича значился ещё и маленький домик у моря, чтобы достойно встретить старость. Поэтому семь тысяч наличными, предложенные овощеводом – цена новенькой «копейки», – оказались слишком большим искушением. И Сергей Ильич решился: «Будь что будет, один раз возьму – и всё».
Бедный Сергей Ильич! По чистоте душевной он ещё не догадывался, что в карьере взяточника главное начать, а дальше она сама пойдёт. И что приводит она чаще всего не в собственный домик на взморье, а на лагерную шконку. Ничего этого Сергей Ильич пока не знал, потому и купил билет в Белгород.
Передача денег была назначена на утро следующего дня, но это мероприятие уже нанесло удар по семейному бюджету будущего взяточника. Требовалось одеться сообразно случаю. Приличный костюм и галстук в гардеробе нашёлся, а вот с обувью вышло неладно. Выходные туфли Сергея Ильича стоптались и покрылись трещинами. Чувствуя себя уже почти богачом, Сергей Ильич счёл зазорным ехать за деньгами в такой обуви. Пришлось срочно купить у спекулянта пару новеньких лакированных туфель. Они немного жали, вскоре Сергей Ильич натёр себе пятку, и это ухудшило и до того неважное состояние его души. Куплен был также большой чёрный «дипломат» – ну не везти же в самом деле такие деньги в хозяйственной сумке! Лишь в самый последний момент Сергей Ильич подавил в себе искушение дополнить свой облик дымчатыми очками. В них он безусловно являл бы собой персонаж шпионского фильма. Впрочем, и без таких очков в дурно пахнущей полутьме плацкартного вагона Сергей Ильич выглядел столь же чужим, как чиновник в парадном костюме для торжественных заседаний, оказавшийся вдруг на нудистской вечеринке.
На этом траты не закончились: пришлось выкупить два билета в спальном вагоне на обратную дорогу из Белгорода. По понятным причинам будущий нарушитель советских законов в особо крупном размере желал ехать в купе один. А вот на дороге «туда» Сергей Ильич, потративший уже почти всю зарплату, решил сэкономить. Так он и оказался одним из героев нашего повествования.
* * *
В четвёртом купе вагона номер семь играли в карты. Два закадычных приятеля Виталик и Валера – те двое с уставшими и испитыми лицами, которых Андрей приметил на перроне, – сели в поезд в Севастополе. Они возвращались домой после месячного отпуска на Южном берегу Крыма.
Валера и Виталик были неразлучны уже много лет. Их объединяла тайная страсть, носящая французское название. Не подумайте ничего плохого – речь идет о преферансе. Эта игра составляла главное содержание жизни каждого из них. Валера был завхозом одного из ленинградских театров, Виталик служил там же реквизитором, и почти всё свободное от работы время друзья проводили за карточным столом. Там они с успехом бомбили ушастых лохов, выкачивая из тех лишние деньги.