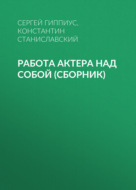Kitabı oxu: «Беседы о кино и кинорежиссуре»
Серия «Театральные опыты»
Фотографии на обложке предоставлены Shutterstock и наследниками М. И. Ромма

© М. И. Ромм, наследники, текст, фото 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2026
Беседы о кино
От автора
Здесь собраны статьи, написанные мною в разные годы. Перечитывая их, я с особенной очевидностью убеждаюсь, как много значит для художника защита своих рабочих позиций. В последние годы я заметил, что теоретическую позицию очень многих режиссеров можно понять до конца, только узнав, над чем этот режиссер работает или собирается работать. В течение моей режиссерской жизни, размышляя над кинематографом, над местом режиссера в этом искусстве, я, иногда сам того не замечая, просто готовил себе удобную платформу для ближайшей картины, а еще чаще старался оправдать себя, оправдать свою практическую работу, оградить свою позицию от собственных внутренних сомнений, от колебаний, от недовольства собою, от тревожного и опасного разочарования в результатах своего труда.
Эта борьба с собою за утверждение рабочей гипотезы на ближайшую картину или на ближайшие годы иногда оставалась скрытой, внутренне засекреченной, иногда же принимала форму, открытого высказывания, статьи.
Перечитывая свои статьи сейчас, я заметил, что чем глубже, болезненнее были сомнения, тем категоричнее тон высказываний.
Однако в каждой из статей этого сборника есть хоть что-нибудь, что я считаю и по сей день верным или нужным – нужным мне лично, как режиссеру. Именно поэтому я решился на публикацию: нужно мне, может пригодиться и другому.
Жизнь шла, времена менялись, двигались и мои рабочие платформы.
Статья «Режиссер и фильм» написана после «Ленина в 1918 году». Это защита моей режиссерской позиции применительно к ленинским фильмам. До того как написать ее, я поделился примерно теми же мыслями с С. Μ. Эйзенштейном. Он посмеивался, едко и остроумно возражал, почти ни с чем не согласился, но в рецензии на одну из моих ленинских картин написал: «Это победа не только режиссера Ромма, но и режиссерского метода Ромма». Человек поразительной широты мышления (кстати, очень поучительной для нас широты мышления, прирожденный руководитель и воспитатель), Эйзенштейн умел ценить и то, с чем спорил, и даже то, с чем боролся всем своим теоретическим и практическим творчеством. Он умел поддержать собрата по искусству даже тогда, когда не был согласен с ним, но считал работу его в целом нужной советскому искусству и советскому обществу.
Однако через несколько лет, во время перезаписи «Человека № 217», он напомнил мне этот спор, ехидно заметив: «Помните вашу статейку? Вы решили умереть в актере, в содержании, в чем там еще вы хотели умереть? Чуть ли не в звукооператоре?.. Не удалось однако. Режиссер живуч!» И, показав на экран, добавил: «В каждом кадре ромовые пышки с начинкой из мечты». Тут же он нарисовал карикатуру: я умираю в актере, то есть попросту в животе у актера, но, умирая, я пропарываю актера изнутри.
Перечитывая сейчас эту статью, я не могу избавиться от ощущения, что ее написал не я, а кто-то другой, и не двадцать два года назад, а совсем недавно.
Рабочая платформа режиссера выдерживает множество ударов. Каждый день что-то сдвигает ее, толкает, спорит с ней, пытается ее расколоть, повернуть и даже уничтожить.
Жизнь то и дело с поразительной силой, внезапностью, очевидностью предъявляет тебе феномены, перед которыми ты останавливаешься в недоумении и тревоге, ибо они требуют немедленного ответа – принятия или отторжения, а ответ приходит не скоро, иногда через годы. Меж тем твой рабочий замысел начинает казаться тебе плоским и негнущимся, как чугунная сковорода, перед лицом ни с чем не сравнимой сложности и непредвзятости подлинной жизни.
Само искусство, которому ты посвятил себя, вдруг вспыхивает то в той, то в другой – не твоей, чужой картине поражающим тебя до боли светом открытия, которое кажется тебе почти знакомым, как бы где-то и когда-то смутно уже виденным или чувствованным, ибо ты сам искал его где-то рядом и не нашел.
Не подвергнуться мгновенным влияниям, порадоваться или огорчиться, но остаться собою, пережить, сделать своим, переработать своей кровью все, что тебя поражает в жизни – хорошее и дурное, странное и простое, близкое и чуждое тебе, – пройти своей дорогой среди громоздящихся вокруг явлений искусства, видя во всем этом признаки нужного тебе движения, сохраняя верность сквозной мысли твоего художнического существования, меняясь, поднимаясь над вчерашним днем, карабкаясь и цепляясь за все, что может удержать тебя, за все, что делает тебя человеком, ибо это же делает тебя художником, – так сегодня вижу я главную и самую трудную из задач, которые стояли раньше и стоят сейчас передо мной.
Это та самая задача, которую можно выразить кратко: убежденная партийность художественной мысли, принадлежащей тебе, рожденной тобою, ведущей тебя в твоем искусстве.
Портреты и рецензии
Как я стал режиссером
(Автопортрет)
В молодости я был неудачником. Прежде чем стать кинематографистом, я переменил много профессий; правда, все на дорогах разных искусств. Мне кажется, что это – история большинства наших режиссеров. Всем нам по сорок лет, некоторым больше, очень немногим чуть меньше1. Когда мы были молоды, кинематография еще не стала искусством. Это была область деятельности, любопытная и не совсем уважаемая; считалось, что честный и способный юноша не может всерьез готовить себя к кинематографическому поприщу. Вот почему все мы потом пришли в кинематографию случайно, большей частью из смежных искусств. Мы терпели крах в качестве театральных актеров, скульпторов или художников и искали выхода в кинематографии. Сотни разнообразнейших неудачников устремились тогда в кинематографию. Стать ассистентом и даже получить постановку было нетрудно в Москве и в Ленинграде, а на Украине или в Грузии того легче.
Из этого разношерстного потока режиссеров большинство отсеивалось после первой или второй картины, доказав свою неспособность или просто наскучив трудным на поверку режиссерским делом. Часть оставалась, превращаясь в не очень грамотных профессионалов. Немногие оказывались действительно режиссерами… Так создавались наши кадры. Кстати, если вдуматься, это отнюдь не самый плохой способ создавать кадры.
Итак, я был неудачником. Я поздно догадался заняться кинематографической деятельностью: мне было 28 лет, когда я получил первый гонорар за детскую короткометражку, написанную в соавторстве еще с тремя лицами. До этого я занимался всеми видами искусства, кроме балета и игры на тромбоне.
По образованию я скульптор. Бросил я скульптуру отчасти из-за того, что не мог достать в Москве хорошую мастерскую, а поместить тонну мокрой глины в жилой комнате, между бельем и посудой, было хлопотливо и неприятно. Главная же причина заключалась в том, что мне было скучно и холодно наедине с глиной и деревом, а кроме того, я просто не верил в свою скульптуру. Меня хвалили, но я очень хорошо видел, что другие талантливее меня. Посредственность в искусстве не нужна и обидна.
По этой же причине я расстался и с литературой, которой начал было заниматься всерьез.
Актер из меня не получался. С театральной режиссурой ничего не выходило.
Неудовлетворенный, веселый и жадный, я неутомимо метался в поисках настоящего дела. Все мои искусства не кормили меня. Я утешался бескорыстием. Зарабатывал черчением диаграмм, переводами с французского и типичными «вхутеиновскими» халтурами: оформлял выставки, улицы к праздникам, малевал какие-то плакаты, делал обложки. Как известно, волка ноги кормят.
В 1928 году я решил попытать счастья в кинематографии. После недолгого размышления я избрал довольно оригинальный способ изучения этого искусства: поступил в Институт методов внешкольной работы (был такой) в качестве внештатного и бесплатного сотрудника по детскому кино.
Четыре часа в день я изучал реакцию детей младшего возраста на кинокартины и за это получал возможность вертеть в руках пленку, просматривать любые картины за монтажным столом или на маленьком экране и вообще возиться с ними, как угодно, даже вырезать куски и потом вставлять их обратно. Я решил заучивать лучшие картины наизусть, наивно полагая, что если я буду знать, из чего состоит картина, то сумею ее сделать. Я выучил, помнится, девять картин, среди них были: «Броненосец “Потемкин”», «Парижанка», «Трус». В те времена меня можно было разбудить ночью и спросить, что происходит в кадре, скажем, сто сороковом картины «Трус». Я ответил бы без запинки: «Средний план, трактир, спереди Торренс, правая рука с сигарой поднята, он, улыбаясь, поворачивается, в глубине четыре человека делают то-то, за окном видно то-то, длина кадра два с половиной метра!»
Таким образом, кинематографией я занялся, быть может, и нелепо, но вплотную, как до этого занимался всякими другими искусствами. Работал я как вол, круглые сутки. Зарабатывал на жизнь по-прежнему диаграммами, плакатами, переводами.
Через год я счел себя достаточно подготовленным и попытался написать сценарий. То, что из всех видов кинематографической деятельности я выбрал поначалу сценарную, объясняется просто: у меня был знакомый сценарист, я знал процесс писания сценариев, да и прежние мои литературные занятия толкали меня на это.
Первые два сценария были отвергнуты без объяснений, следующие три – уже с объяснениями. Дело явно шло на лад. Так я стал сценаристом.
Но, по правде сказать, я стал сценаристом только для того, чтобы стать режиссером. Как только у меня накопилось три-четыре принятых сценария, я попросился к Мачерету на картину «Дела и люди». Директором тогда был, помнится, Синявский, веселый человек. Он сказал мне: «К чему вам идти в ассистенты? Хотите, я сразу дам вам постановку? Скажем, какую-нибудь хорошенькую короткометражечку». Я, однако, убоялся короткометражечки, и Синявский, посмеиваясь, назначил меня на «Дела и люди».
Наступил торжественный день – я пришел прощаться с Институтом методов внешкольной работы. Моим начальством была очень хорошая старушка. У нас были буколические, чудесные отношения. Выслушав меня, она немного помолчала, затем попросила меня выйти из кабинета и вернуться за ответом через полчаса. Когда я вернулся, она встретила меня стоя и сказала с глазами, полными слез, совершенно так, как говорят над гробом дорогого покойника:
– Милый Михаил Ильич! Вы были чистым и талантливым юношей. У вас хорошее сердце, и я любила вас как сына. Теперь вы уходите на кинопроизводство. Через год вы станете дельцом и проходимцем… Не спорьте, я знаю, что такое кино! Вы станете очень плохим человеком. Но я хочу сохранить о вас светлые воспоминания. Поэтому я больше вас не знаю и не хочу знать. Идите и будьте счастливы. Не сомневаюсь в вашей удаче.
Я вышел смущенный, растроганный и с легким сердцем.
…«Дела и люди» снимались больше года.
После картины я стал кандидатом в самостоятельные режиссеры. К этому времени (конец 1932 года) пробиваться в режиссуру стало труднее. И все-таки, для того чтобы получить постановку, достаточно было, чтобы ты упорно верил в себя. Я верил преимущественно в то, что могу написать для себя хороший сценарий. А это казалось мне самым важным. Кроме того, «Дела и люди» были одной из первых звуковых картин, и я, ассистируя Мачерету, изучал технику звукозаписи, напрактиковался в съемке голоса, сопровождаемого шумами и музыкой, без перезаписи (ее еще не было у нас) и т. п. По тем временам это было редким капиталом. Я стал отказываться от всех назначений в ассистенты и даже в сорежиссеры и требовал самостоятельной постановки. Такая уверенность подействовала.
В апреле 1933 года меня вызвал директор и сказал, что если я возьмусь написать за две недели сценарий немой картины, в которой было бы не свыше десяти дешевых актеров, не больше пяти простых декораций, ни одной массовки и со сметой, не превышающей ста пятидесяти тысяч (средняя смета немой картины была втрое, а звуковой вдесятеро выше), то мне дадут самостоятельную постановку.
Меня особенно огорчило то, что картина должна быть немой. Ведь мое главное достоинство заключалось именно в том, что я знал звук, с немыми же картинами я совсем не имел дела. Но директор был непреклонен, он мотивировал требование тем, что немые картины нужны для деревни, где еще мало звуковых установок. Я согласился.
В тот же вечер я уже ломал голову над тем, что бы такое «немое» сочинить для деревни в две недели без массовок, на десять актеров и почти без декораций. Выручил меня приятель, начинающий сценарист. Случайно забредя ко мне, он узнал про мои затруднения и с легкостью мысли, поразительной даже для его двадцати лет, посоветовал экранизировать что-нибудь из классики, скажем, Мопассана. Несмотря на то, что Мопассан явно не гармонировал с задачей обогащения сельского экрана, мы очень быстро остановились на «Пышке». Утром я принес в дирекцию подробную заявку с глубоким теоретическим обоснованием, почему необходимо ставить именно «Пышку». Моя оперативность сразила директора. Я стал режиссером.
Перед первым съемочным днем я пришел к Сергею Михайловичу Эйзенштейну и попросил у него напутствия.
– Да ведь все равно не послушаетесь, – посмеиваясь, сказал Эйзенштейн.
– Честное слово, послушаюсь!
– Хорошо. С какого кадра вы начинаете съемку?
– С самого простого: крупный план, сапоги стоят перед дверью.
– Съемка у вас завтра?
– Завтра.
– Предположим, что послезавтра вы попадете под трамвай. Снимите ваш кадр так, чтобы я мог принести его во ВГИК, показать студентам и сказать: «Смотрите, какой великий режиссер безвременно погиб! Он успел снять всего один кадр, но этот кадр бессмертен. Мы поместим эти бессмертные сапоги в архив».
– Слушаюсь, – сказал я.
– Под трамвай попадать не обязательно, – сказал Эйзенштейн.
– А дальше как снимать? – спросил я.
– Разумеется, точно так же! Каждый кадр, каждый эпизод и каждую картину.
* * *
Много веселого и грустного, странного и поучительного можно рассказать про мою режиссерскую деятельность, так же, впрочем, как и про деятельность любого другого режиссера. Про съемку каждой картины можно написать очень интересную книгу. Но это – не тема статьи. Я пишу о том, как я стал режиссером, как пришел к этой жизни и как остановился именно здесь. Прежде чем я окончательно закрепился в новой профессии, произошло несколько небольших событий, каждое из которых могло повлечь за собою крушение моей режиссерской деятельности. Пожалуй, их нужно перечислить. Вот они:
Я начал снимать «Пышку» в августе 1933 года, но в октябре пришел другой директор и законсервировал картину. Скоро его сменили, но и новый директор не возобновил съемки. Пришлось подождать еще. Директоры тогда менялись часто. Сменили и этого директора. Картина была восстановлена и благополучно закончена в июне 1934 года.
Это, впрочем, не помешало тому, что через два месяца я был уволен из кинематографии вовсе. Случилось это так: тогдашний руководитель кинематографии решил урегулировать дело выдвижения молодых кадров и завел для этого не то комиссию, не то отдел. В целях этого урегулирования меня направили на студию в Душанбе.
В Душанбе не было никакой студии. Я, естественно, отказался ехать в Душанбе. Тогда меня уволили.
Через несколько месяцев меня, впрочем, восстановили, но… без права писать сценарии.
Я стал писать тайно.
Вместе с покойным В. Гусевым написал сценарий «Командир», который мне очень нравился. К сожалению, картина была безнадежно снята с производства накануне первого съемочного дня.
Однако я не падал духом. Все считали, что мне везет в жизни, я тоже. Если сегодня дела обстоят неважно, рассуждал я, то завтра непременно случится что-нибудь неожиданное и все переменится.
В самом деле, не прошло и двух месяцев, как меня срочно вызвал тогдашний руководитель кинематографии Б. З. Шумяцкий. Вместе со мной был вызван сценарист И. Л. Прут. Ни он, ни я не знали, в чем дело.
– Один товарищ, кто именно не имеет значения, видел одну американскую картину, – сказал Шумяцкий. – Действие происходит в пустыне, американский патруль погибает в борьбе с туземцами, но выполняет долг. Картина империалистическая, истеричная, но высказано мнение, что нужно сделать примерно в этом роде о наших пограничниках. Беретесь? Сценарий будете писать вместе.
– А картину посмотреть можно?
– Нет. Она уже отправлена обратно. Но это не важно. Важно, чтобы была пустыня (у нас есть превосходные пустыни), чтобы были пограничники, басмачи и чтобы почти все погибли. Почти все, но не все, товарищ Михаил, это вы учтите!
Я вышел от Шумяцкого несколько ошарашенный.
– Беремся? – спросил я Прута.
– А у тебя много других предложений?
Других предложений у меня не было, и я промолчал.
Мы молча оделись и молча вышли из знаменитого кинематографического здания по Малому Гнездниковскому переулку, где столько режиссеров переживали свои величайшие удачи и тяжелейшие удары судьбы. Молча зашагали по переулку.
– Нужно немедленно ехать в пустыню, – сказал наконец я.
Прут даже остановился:
– Зачем?!
– Ну, посмотреть хотя бы, что это такое…
– Пустыня потому и называется пустыней, что там ничего нет, – нравоучительно сказал Прут. – Это пустое место… Лучше давай сочинять сюжет. Сколько у нас будет героев?
– Тринадцать, – мрачно сострил я.
– Очень хорошо! В этом что-то есть: тринадцать!.. Это загадочно, это что-то предвещает… А что если мы назовем картину: «Тринадцать». А?.. Звучит!
Самое забавное, что во время съемок количество действующих лиц убавилось на одну единицу. Осталось только двенадцать. Но мы уже привыкли к названию и не стали менять его. «Тринадцать» действительно звучало, а «Двенадцать»… Нет, «Двенадцать» не звучало! Кроме того, «Двенадцать» уже было. У Блока. Мы надеялись, что никто не станет считать героев.
Снимали мы в пустыне. И жили в пустыне. Было очень жарко… Нет, это не то слово! Это было невероятно! Такое можно выдержать раз в жизни. Люди болели, сходили от жары с ума, писали в Москву отчаянные письма. Материал нельзя было отправлять для проявки, так как, пока поезд пересекал пустыню, эмульсия плавилась. Мы вырыли в песке глубокий погреб и хранили пленку на льду. В группе никто не верил в меня. Говорили, что даже «Пышку» снял вовсе не я, а мой бывший ассистент. Не только актеры, но и добрая половина съемочной группы считала, что все эти страдания – зря, что нужно кончить с авантюрой.
Дела шли так плохо, что очередная дирекция «Мосфильма» решила законсервировать картину. Но у меня был очень хороший директор картины В. П. Чайка; заместитель его, Коля Привезенцев, был чудеснейший, безгранично преданный делу человек. Мы собрались впятером: Чайка, Привезенцев, я, Борис Волчек и Эра Савельева, – обсудили и постановили: решение дирекции от группы скрыть, съемки продолжать.
Нам, разумеется, перестали переводить деньги.
– Очень хорошо, – сказал Чайка. – Самое выгодное положение – это быть должником. Теперь мне ни в чем здесь не откажут: будут бояться, что мы сбежим, не расплатившись. Выдавать зарплату и суточные я, конечно, не смогу, но кормить буду.
Одна за другой приходили телеграммы с требованиями немедленно отправить группу в Москву. Чайка перехватывал телеграммы в Ашхабаде и прятал их. Мы продолжали снимать.
Наконец из Москвы приехал уполномоченный дирекции с категорическим наказом: прикрыть картину. Но он оказался умным и смелым человеком: посидел на съемке, хлебнул пустыни, провел совещание, дал нам несколько дельных советов и уехал, не выполнив приказа дирекции.
Съемочная группа между тем медленно, но верно таяла: кто заболевал, кого волей-неволей приходилось отправлять в Москву, – из пяти человек операторской группы осталось двое, из моих двух ассистентов и двух помощников остался один ассистент, счетовод работал, лежа в больнице, уехала часть актеров, уехали все звуковики… Но мы снимали – и в конце концов сняли натуру.
Когда я вернулся в Москву, родная сестра не узнала меня на перроне вокзала, но в снятом нами материале не чувствовалось ни жары, ни жажды. Я полагал, что уж это-то получится само собою, но, к моему изумлению, на экране было прохладно! Жару и жажду нужно было, оказывается, играть актерам, а мы не хотели «нарочно играть» эти обстоятельства, мы честно боролись с ними. Кадры, снятые при темтературе, которую хорошая хозяйка считает достаточной, чтобы пирог испекся за полчаса, выглядели очаровательно свежими. Пришлось насыпать в павильоне вагон песка и доснимать крупные планы.
«Пышка» и «Тринадцать» дали мне самое важное для режиссера: на этих картинах сложился наш съемочный коллектив – Волчек, Савельева, Привезенцев.
После «Тринадцати» я был вновь уволен с «Мосфильма».
Но тут понадобился режиссер, который взялся бы в неслыханно краткий срок выполнить очень ответственное задание – в два с половиной месяца поставить картину о Владимире Ильиче Ленине2.
Фильм «Ленин в Октябре» сыграл огромную роль в моей творческой и личной судьбе, и писать об этой решающей для меня картине я должен очень много или почти ничего. В этой статье придется избрать второй путь.
«Ленин в Октябре» был для меня самым серьезным в жизни и окончательным экзаменом на режиссерскую зрелость. Не только ответственность темы, размах картины и необычайно краткие сроки производства требовали от меня величайшего напряжения всех жизненных и творческих сил. Сама задача – показать на экране великого Ленина – была для меня почти устрашающе трудна.
Иной раз я сам себе казался безумцем и нахалом. Было страшно, именно страшно, и не только мне, а и Щукину, и, вероятно, всем нам, работавшим над картиной.
После «Ленина в Октябре» я окончательно стал режиссером, и никто уже в этом больше не сомневался, никто меня больше не увольнял и не подвергал сомнению мое право на работу.
Вот так это и случилось. Я ничего не приукрасил и не преувеличил. Было именно так – немножко странно и как будто очень случайно и даже как бы не совсем серьезно. Полагаю, однако, что история большинства режиссеров более или менее похожа на эту, хотя обычно изображается несколько иначе. Словом, внешне дело выглядит так: был неудачником и стал наконец режиссером. Получил, так сказать, должное воздаяние за труды и добронравие…
Однако есть и внутренняя сторона процесса. Тут начинается тема очень серьезная и объемистая. Совсем новая тема. Это история о том, как складывается не профессия, а мировоззрение и художническая вера мастера в то, что определяет и решает его судьбу в искусстве. Рамки и характер этой статьи не позволяют мне сколько-нибудь существенно коснуться этой стороны дела. Поэтому я ограничусь только одним, по-моему, очень важным примечанием: дело в том, что, пока я был неудачником, я накапливал опыт, знание жизни и грамотность, складывал свои эстетические воззрения и вкус. Когда же я стал режиссером, я начал отдавать все это, а накапливать почти перестал.
В самом деле, всем тем, что мне удалось сделать в кинематографии, я обязан моему докинематографическому прошлому. Обязан моей службе в Красной Армии, встречам с самыми разнообразными и интересными людьми, эшелонам, теплушкам, проселочным дорогам России, по которым я колесил с восемнадцатого по двадцать первый год (то в качестве продагента, то красноармейца, то инспектора Особой комиссии полевого штаба Реввоенсовета). Обязан моим бесконечным неудачам в искусстве; они, эти неудачи, учили меня изобразительной и литературной грамоте, учили понимать запах и вкус хорошего искусства, учили ничего не принимать на веру и все пробовать самому.
В результате моих неудач, странствий и бесконечных перемен профессий я пришел в кинематографию с довольно объемистым хотя и неаккуратно собранным багажом. Вот почему мою первую картину «Пышку» мне было легко ставить (если не считать профессиональных затруднений). Но чем дальше, тем ставить становится труднее, хотя профессию я знал лучше. «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» профессионально дали мне очень много. Работая над этими картинами, я больше всего узнал о работе режиссера. И тем не менее «Мечта» далась мне гораздо тяжелее «Пышки», хотя обе картины лежат в одном ряду, обе проникнуты тем же ироническим отношением к материалу. И дело здесь вовсе не в том, что осложнились задачи. Не это решает. Приобретя профессиональные кинематографические навыки, я попросту растерял значительную часть общих творческих навыков, отвык от легкости и отвык от иронии. До кинематографа ироническая манера в искусстве была очень близка моему сердцу, я непрестанно упражнялся в ней. Вот почему «Пышка» оказалась кинематографическим выражением того, что было хорошо изучено, известно как нечто родное. Все мне тут пригодилось, даже переводы с французского, даже собственное мое мелкобуржуазное происхождение, ибо мелкая буржуазия в существе своем одинакова во все времена и во всем мире, и моя родная тетка была похожа на госпожу Луазо, и, вероятно, одинаково с ней торговалась в лавке и реагировала на проститутку. Все это было свежо, и потому работать было легко.
Pulsuz fraqment bitdi.