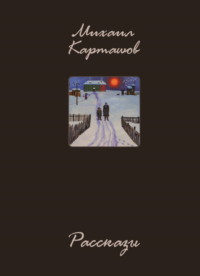Kitabı oxu: «Рассказы»

В издании использованы работы Михаила Карташова и графика Людмилы Кусаковой.

© 2021, Сазонов Игорь Алексеевич,
e-mail: 8642@mail.ru
Ангел Златые власы

Ангел Златые власы
Бог – не идол, которому нужно молиться и льстить;
Бог – идеал, который должен воплощать человек в своей повседневной жизни.
Люси Роуз Мэллори
– Тефтель – она и в Африке тефтель. Оттого, что ты ее в блинной съешь, она блином не станет! – браня два маленьких катышка мяса, облитых на редкость неаппетитной красной подливой, мужчина с лицом веселого евнуха, щеки и отвисший второй подбородок которого, судя по всему, никогда не были тронуты бритвой, что сразу бросалось в глаза, не сняв с себя пальто и шапки, жирно наплывающей на уши, плюхнулся на стул у ближайшего стола. Сдвинув локтем в сторону неприбранную посуду, он освободил на столе место для своей тарелки и видавшего вида терракотового портфеля, который он поставил прямо перед собой, прислонив его к стене, чтобы тот не падал.
Вид у “Евнуха”, несмотря на смешливое выражение лица, был видом измотанного за день беготней вечно спешащего человека. А может, он просто торопился в баню. День был крайний, субботний.
Народу в блинной было много, хотя за столами сидело всего несколько человек. Большинство, осушив стоя стакан компота, потом воровато наливали в него из початой бутылки и долго морщась, как бы нехотя, как что-то удивительно противное, но непременное, выталкивали содержимое стакана в разинутый рот, а потом, утерев рукой полуоткрытые губы, выходили на улицу.
Пытаясь подцепить на двузубую и абсолютно плоскую алюминиевую вилку упругий кусочек мяса, похожий больше на губку, “Евнух” продолжал выказывать свое недовольство.
– Ее даже на вилку наткнуть нельзя! Из резины, что ли… Резиновая она! Шайба!
И вдруг засмеялся беззлобным ватным смехом. Он был, наверное, человеком обо всем говорившим вслух. Говорил о том, что чувствовал или видел вокруг себя. Привык к этому давно, не различал важности происходящего и относился одинаково ко всему.
– Если ты блинная, то торгуй блинами. Неделю хожу блиночков поесть, а все говорят кончились. Как это кончились? На Руси блины кончились! Ехал, думал, что уж здесь, во Владимире, блинков поем, люблю их. Для интуриста небось есть, а для тебя – кончились.
Ему надоело говорить просто так, самому себе. Захотелось общения. Он видел, что его никто не слушает, и ему было обидно, поскольку он говорил сейчас не просто так, а по делу.
Взяв стакан давно остывшего кофе пухлой, маленькой, нестареющей ручкой подростка, он зычно втянул его в себя, как утомленная жаждой, загнанная в пустыне лошадь, раздувая при этом крылья своего остренького, едва заметного на лице носа. Закончив обедать, он перевернул стакан вверх дном и опустил его на пустую тарелку, долго рассматривая, как по граненым стенкам текли мутные струйки недопитого кофе, будто он решил погадать на кофейной гуще, что его ждет дальше.
Тень суетливой усталости пропала с его скопческого лица. Он откинулся к стене, снял шапку и, как бы объясняя окружающим свое состояние, громко икнул. Подождав немного, не повторится ли икота опять, сказал:
– Не пойму, наелся или нет, но брюхо набил.
И снова засмеялся. По всему было видно, что теперь он никуда не спешит. Ему стало тепло и тяжело в ногах. Не поворачивая головы, он смотрел на входящих и выходящих людей, а также разглядывал тех, кто сидел за столами.
Зрачки его, будто два шарика, бессмысленно катались туда-сюда, как у нарисованной кошки на деревенских часах-ходиках. Но вот завод кончился, и они остановились на высоком бородатом старце, сидящем за пустым столом в дальнем углу блинной.
Его большие породистые руки лежали на раскрытой перед ним газете, подле которой стоял нетронутый стакан чая. Он был очень стар, но старость не ссутулила его и не оставила неприятных старческих изъянов. Лицо его было бескровным, землистым, и он походил на древнюю римскую статую, отрытую еще только по пояс. Ног старика не было видно из-за стола. Он смотрел прямо перед собой, но взор его был обращен куда-то далеко. Видно, он уже давно не жил настоящим. Оно стало для него нереальным. День изо дня он проживал уже давно прожитое, и в этом было его теперешнее существование. Казалась, что старик просидел на этом месте целую вечность, а здание выстроили вокруг него. Иначе он не сидел бы сейчас здесь, в этой пропахшей прогорклым маргариновым чадом небольшой владимирской блинной.
Но “Евнух” не почувствовал этого, глядя на старца. Он просто кое-что о нем слышал.
– Правду ли говорят, что этот старик царя развенчивал? – спросил он своего соседа по столу, поворачиваясь к нему всем засупоненным в зимнее пальто телом.
Тот ничего не ответил, отхлебнув из стакана не то воды, не то водки, и как-то мучительно вздохнул, будто давно томился каким-то недугом.
– Матерь божья, спаси и помилуй нас… – прохрипело где-то внутри него. “Евнух” непонимающе заерзал по соседу глазами.
Был он человеком без возраста, отчаянно уставшим от жизни, но не старым, хотя и молодым его назвать было нельзя. Нельзя было назвать его и человеком средних лет. Приметы возраста были неуловимы и по-разному проявлялись в чертах некрасивого на первый взгляд лица. Редкие волосы цвета соли с перцем спереди были совсем короткие, а сзади лежали на плечах спутанными, давно нечесаными патлами. К тому же был он страшно сутул, и плечи начинались почти у огромных мясистых мочек его ушей, напоминающих большие морские раковины, в которых слышен шум прибоя. Выпиравшие за пределы линии лица скулы подчеркивали беззубость его рта, очерченного тонкими, обветренными, как уличная штукатурка, губами. Большой горбатый нос заканчивался седловидным хрящом, как на анатомическом экорше, но все его скуластое лицо занимали глаза, хотя были они небольшими и сидели глубоко под навесом совершенно прямых бровей. Глаза были желтого, скорее золотого цвета, когда начинали жить, излучая теплую заинтересованность к чему-то, и зеленели, как сплав старой бронзы, становясь холодными и безжизненными, как только гасли в них золотые искорки общения. Но искры не гасли в них до конца, а превращались в холодные кристаллы безразличного созерцания. Иной раз глаза делались слепыми. Они не видели ничего вокруг, и было трудно тогда понять, бьется ли сердце у этого замерзающего во вьюге каждодневной суеты жалкого и никому ненужного существа. Звали его Парфеном.
Узнал об этом “Евнух” уже на улице, когда разомлевшие от водки и долгого сидения в душной блинной они оказались на морозе. Был поздний вечер. Немного протрезвев на холоде, они бессмысленно толкались у закрывшейся блинной.
А выпито было уже много. Допив оставшуюся у Парфена водку, они распили еще две бутылки, доставшиеся случайно из-под полы в гостиничном буфете и бережно хранимые “Евнухом” в его терракотовом портфеле. Сидели они до тех пор, пока ворчавшая все время себе под нос старуха, злая на весь мир, не выхватила из-под них стулья и не водрузила их на стол кверху ногами, с шумной негодующей правотой вечно обслуживающего человека.
Парфен не был пьян. Его качало от хромоты, а около этого опьяневшего человека его удерживала возможность поговорить. Он его слушал. Парфена уже давно никто не слушал. Все, с кем ему случалось постоянно сталкиваться в жизни, а круг его общения был мал, знали, о чем он говорит. Многие смеялись прямо ему в глаза, подначивали, а кто пропускал его разговоры мимо ушей, те относились к нему все равно не лучше.
Новый же его знакомый слушал его с удивленным интересом, и это согревало Парфена внутри. В нем будто оттаяло его прошлое, давно молчавшее и уже никому ненужное, ненужное даже самому Парфену. Но вот поддавшись человеческой слабости, воскресшим воспоминаниям, его прошлое, как отколовшийся ледник, набирая скорость, двинулось куда-то вперед. И Парфен был рад этой случайной встрече.
– Пойдем, купим еще водки и посидим у меня. Я недалеко здесь живу. Живу один, мешать никто не будет, – просительно сказал Парфен.
– Пойдем, купим, – пьяно согласился “Евнух”, – мне все одно, спешить некуда, я командировочный.
Подойдя к освещенному дребезжащим неоновым светом магазину, они поняли, что опоздали. Человек тридцать мужчин с единым выражением лица тщетно пытались достучаться в закрытую дверь. Распинаясь друг перед другом о несправедливости подобного положения, они все равно не расходились и непонятно чего ждали.
Парфен взял “Евнуха” за рукав и захромал в черную дыру подворотни. Тот покорно поплелся за ним. Они вошли в колодец темного магазинного двора. Несколько зажмуренных фонарей еле освещали его. Посреди двора стояла большая крытая машина, из которой с шумом выгружали ящики. Их ловко вытаскивали большими металлическими крюками и сталкивали вниз один за другим в обитое оцинкованным железом горло подвала. Повсюду валялась всевозможная разбитая тара. Большие куски промасленной бумаги, схваченные морозом и сквозняком, носились по двору, словно мелькающие белые летучие мыши.
Парфен зашел за какие-то едко пахнувшие бочки и почти тут же вернулся назад.
– Дай денег, а то у меня и на бутылку не хватит. Надо взять больше. Время у нас впереди долгое.
“Евнух” полез за пазуху, как-то долго копошась, – не то чесался, не то искал что-то запавшее за подкладку. Наконец, достав сжатый комочек денег, он повернулся к Парфену спиной и стал вытягивать из него нужную бумажку.
– Только сдачу принеси, – сказал он, давая Парфену деньги.
– Сдачи тут быть не может. У них тоже интерес должен быть, – ответил ему Парфен и снова скрылся за горой рассохшихся бочек.
Пройдя сплетенные друг с другом переулки, они вышли на улицу с одним рядом домов. Другая сторона ее падала круто вниз к заледеневшей Клязьме. За ней далеко-далеко, исчезая в темноте леса, разметались поля, аккуратно застланные снегом, как холодные солдатские койки. Где-то внизу справа, стараясь заснуть, тяжело дышал вокзал. А высоко над этим всем, в звенящем от мороза небе, висело старое фарфоровое блюдо луны с отбитым неровным краем. Оно висело так высоко, что почти нельзя было различить на нем вытертый и полинявший голубоватый затейливый рисунок.
Парфен шел быстро, несмотря на свою хромоту. “Евнух” еле поспевал за ним.
– Куда ты летишь, Парфен? Бабы, что ли, нас ждут?
– В груди жжет… Выпить сильно хочу!
Они шли вдоль заборов, провисших по оврагу, напоминавших растянутые меха гармонии.
– Несет тебя черта хромого, – бубнил “Евнух”, стараясь не покатиться спьяну вниз, – говорил: «живу близко…»
– Пришли! – и Парфен толкнул ногой забор.
Забор дрогнул от неожиданности, и в нем отворилась калитка, ругаясь и охая спросонья на поздних пришельцев.
Парфен жил в старом двухэтажном доме, смотрящем тремя рядами окон на овраг. Самый низ дома был каменный, не кирпичный. Нижнее помещение ранее всегда было подсобным, нежилым, пока не поселился в нем Парфен. Первый этаж дома был кирпичный, а второй – деревянный. Двухэтажные террасы с разбитыми и тусклыми, давно немытыми стеклами, подпирали дом с двух сторон. А развешенное внутри белье билось на ветру, как пойманные птицы в клетке, и от хлопанья их полотняных крыльев становилось еще холоднее. Стоптанные, ставшие тонкими, как страницы в разорванной книге, ступени провели их в давно уже уснувший дом.
Темнота выколола “Евнуху” глаза, и он остановился как вкопанный, боясь двинуться дальше. Взяв его за руку, Парфен заученно пошел вперед, разбивая собой возникшую перед ними черную стену. Дойдя, видимо, до двери, он оставил “Евнуха” и двинулся в темноту один. Скрипя половицами и сдвигая что-то на своем пути, он добрался до выключателя.
Голая крутобедрая лампа вспыхнула ярким светом, обрадованная приходом хозяина, и тут же погасла, стесняясь наготы своей перед неизвестным, впервые вошедшим в их дом человеком.
– Тьфу ты! Лихоманка ее раздери! Перегорела никак!
Темнота снова лишила их зрения.
– Ты лампу-то прикрути. Коптит лампа-то. И как она у тебя сохранилась, ценность доисторическая?
– Я при ней частенько сижу, когда глаза утомляются от электричества.
Старая керосиновая лампа освещала только стол, частично накрытый вытертой до подкладки клеенкой, напоминающей из-за этого географическую карту. Давно некрашеные стены еле угадывались вокруг. Комната была большая, но низкая. В ней почти ничего не стояло. “Евнух” не стал рассматривать жилье Парфена. Ему было все равно, что вокруг – подвал или хоромы. Главное, что были стены, был стол, стулья и что выпить. Был даже стакан, правда один, второй заменила банка из-под майонеза. Парфен торопливо разлил и, не дожидаясь “Евнуха”, выпил ее одним махом.
– Чудило ты, Парфен! Тебя послушать, так ты старее этого Шульбина или как там его… Шульгина.
– Да я и есть старее, настолько старее, что и представить трудно.
– Опять ты свое. Ты что, за дурака меня держишь?
– Дурак ты или нет, бог тебя разберет. И мне все одно, веришь ты или нет. А не веришь ты мне оттого, что никому не веришь, даже себе. А я от веры живу. Вечный я этим. Шульгин разуверился и помрет, и ты помрешь, и все умрут, а я верой вечен… Вечен я, понимаешь?
– Ты в бога веришь?
Парфен посмотрел на “Евнуха” так, будто увидел его в стекла перевернутого бинокля – бесконечно далеким и маленьким.
– И ты с этим!
Он долго молчал, как бы не решаясь начать долгий и больной для себя разговор. И сам не понял, то ли заговорил, то ли задумался.
– Нес меня конь навстречу стреле татарской. Сбросила она с седла меня, прибила бездыханным к земле. Кровью залитое угасало пламя побоища нечеловеческого. Поле стонало, тлело, заливалось ручьями телесной влаги. Птицы грузнели на израненной груди его, не в силах подняться в полет. Солнце дрожало в судорогах удушающего, исходящего смертного воздуха, и ворон ждал, когда взгляд мой остекленеет. С кровью из раны утекла в песок память о том, кто и где родил меня и как имя мое. Помнил я лишь, что был когда-то живым. Проклятье страха и жадность быть не дали остановиться пробитому сердцу, и предсмертный стон запекся с кровью на губах моих. И тогда ударил в меня золотой сноп света. Ясные глаза склонились ко мне: – Живи, для веры рожденный! – прошептали невидимые уста.
И жизнь затянула мне рану. Старцы вынесли меня с поля и ходили за мной, как за сыном и братом своим. А когда смог я поднять израненное тело, отвели они меня к алтарю и нарекли меня Порфирием, в честь умершего недавно отца игумена. Я остался с ними, но ослепленный видением не знал, что делать и как жить дальше. С тоской слонялся я среди стен святых, и предчувствие большого свершения томило меня.
Раз, уставший под лучами весеннего солнца, присел я в тени, и лень отяжелила мое еще больное тело. Вокруг бродило все, как молодое вино, и все было пьяно, будто на улице ликовал великий праздник. И задремал я, но грусть не покидала меня.
Во сне вновь пережил я ранение свое и со стоном пробудился. На белой стене, перед которой сидел я, лучами солнца был начертан прекрасный лик – тот, что явился мне на поле битвы. Кровь закипела во мне, как смола на дереве, брошенном в огонь. Вскочил я и побежал к старцам своим. Привел я их на то место и, показав им лик чудесный, сказал: – Молитесь ему!
А они кроме солнечных бликов ничего не увидели. Тогда в тоске, посрамленный невидением их, ушел я в келью свою.
Долго левкасил я доску. Долго тер краски, не смея соединить их. Я знал силу удара меча по врагу, но чувства своего воспеть не умел. В злобном бессилии счищал я неумение свое и вновь левкасил доску, и снова тер краски. Через долгие годы в неотступном труде пришло умение, но солнце не светило в работе моей, и я уничтожал ее.
Старцы мои давно умерли, так и не увидав завершенным труд мой. Но другие состарились и, как прежние, умершие, любили и оберегали меня. Я не знал, сколько прошло лет моей бесплодной работы, молод ли я или стар, сколько лет мне отпущено еще пытать свое счастье, зажечь небесным огнем написанные мною глаза, озарить улыбкой любви шепчущие людям радостную весть уста, чтобы засветились святостью чудные златые власы.
Но я твердо верил в то, что должен оставить после себя всем страждущим и скорбящим лик тот чудный, чтобы они, только увидав его, могли испытать то очищение души и силу в теле, как когда-то я на поле брани, уходящий с проклятиями из жизни ничтожный грешник.
Я мало ел и спал мало, боясь потерять время для работы. Когда в бессилии своем выходил я к старцам и просил их сказать мне, молод ли я и хватит ли сил мне в труде моем, они, всегда жалеющие меня, отвечали: – Ты молод еще, Парфен, и сил тебе хватит. Иди, сын и брат наш, трудись дальше. Мы любим и верим в тебя.
Но силы оставили меня, и я упал однажды в келье своей у той доски, которой отдал по капле и пот, и кровь, и разум, и душу свою. И так лежал я долго, и день уже должен был уйти, но солнце почему-то все еще светило в келью мою. Тогда собрав последние силы, я поднял голову, и снова, как много лет назад, сноп золотого света ударил в глаза мои, и я увидел то, к чему стремился всем существом своим. Засиял взор неземной любовью, и зашептали уста назидательно: – Верь вечно! Вечно и жив будешь!
Вопль радости вырвался из стесненной груди моей, и в келью мою сбежались старцы, услыхав его. Они пали ниц перед образом, созданным мною, а после с пением и слезами на глазах унесли его людям, чтобы те могли видеть его.
С тех пор я не видел его и снова, удрученный бессилием своим, силюсь разжечь тот сноп золотого света. Ем и сплю мало, боясь потерять время для работы, и отрываюсь только для битв неизбежных.
Лил я смолу на крылатых поляков, колол шведов и стрелял во французов, рубился с турками, братался с немцами и бился с русскими на гражданской войне, замерзал у финнов, горел в танке, подбитом фашистами, и тонул в лодке подводной в Японском море.
И знал я ежечасно, что вернусь в свою келью закончить труд свой и начать новый, потому как верил в него вечно, вечно и жив был им.
Парфен разлил оставшуюся водку и придвинул стакан к всклоченной голове “Евнуха”, тяжело лежащей на сложенных ладонях, как на плахе. Пьяной рукой он поднял ее за волосы, будто только что ударил по ней острым топором и теперь отсеченную хочет показать ждущей, притихшей толпе. Он заглянул в глаза ее и, обожженный их тупой, веками накопленной злостью, отдернул руку.
Голова “Евнуха” ударилась о шершавый от неубранных крошек стол и вместе с телом шумно скатилась на пол. С трудом Парфен усадил упавшего снова на стул. “Евнух” словно пробудился от тревожного сна. Он смотрел на него своими бессмысленно бегающими шариками глаз, точно видел его впервые, и напрягал свою оскопленную память, силясь понять, где он и кто перед ним.
– Выпей, – Парфен подал ему стакан.
“Евнух” разом опрокинул его в широко раскрытый рот, но водка не влилась в переполненную глотку, а тягучими струями потекла по губам и дряблому бабьему подбородку. Отплевываясь и фыркая, он беспомощно замахал руками, точно силился выплыть на тихую воду из завертевшей его стремнины.
– Врешь ты все, Парфен, врешь! Чушь это собачья, никому не нужная, – “Евнух” отдувался и как-то тяжело дышал. – Вот про Шульгина ты с делом говорил, и я подумал, что ты человек, что у нас разговор получится. А ты псих оказался. Ну что смотришь, псих? Сейчас много таких развелось. Про боженьку все талдычат, иконы на стенки вешают. Сперва смешно смотреть было, а теперь тошно.
“Евнух” подался вперед и чуть снова не упал со стула.
– Надо делом заниматься, чтобы жить хорошо было тебе, а через тебя другим, а ты рожи святые рисовать хочешь…
При этом он скрючил лицо так, что Парфен отвел от него глаза и уставился снова на коптящее пламя лампы, которое отразилось в его глазах и вспыхнуло непримиримой обидой в оскорбленной душе его, но он погасил ее. Он всегда гасил в себе все пожары страстей, кроме одного пожара – своей веры, который испепелял его, но как великий город, сожженный дотла, он вставал из пепелища еще могущественней.
– Ты, Парфен, все про вечность, про вечность, но твоей святостью вечно сыт не будешь. Вот ты выпить хочешь, а куплялок-то нету, куплялки или заработать, или украсть надо… Кто ворует, тому твоя святость не нужна – вор он, понятно. А работяге тоже она ни к черту, он ее в гробу видит, святость эту.
– Молчи, есть она, есть! – хрипло перебил его Парфен.
Он заговорил быстро, словно осталось у них разговора считанные минуты. – Ты по себе не суди. Она исчезнуть не может. Она меняется, ее кожей видеть надо, как ясновидящие. А ты глухой ко всему и петь не можешь, ты свой голос не слышишь, а чужой вражьим считаешь.
– А что у нас врагов мало? – “Евнух” озлился, будто один собрался защитить мирно спящий народ от неожиданного коварства невидимого врага и, как почти у всех прошедших через войну, в нем заговорило право вспомнить о совершенном своем долге. – Я на войне кровь проливал. Я жизнь защищал и ее тоже как-нибудь без тебя понять умею, а ты меня глухим выставить хочешь!
– Мир твой в тебе. Если ты глух, то и мир твой глухой. Я надорвать глотку смогу, а ты меня не услышишь. Если тебе одна дудка – оркестр, то это твое горе, а вот если в оркестре ты только одну дудку слышишь и других убеждаешь, что она одна только слышна всем, – тут вина твоя.
– Вина говоришь, эн ты куда загнул! – “Евнух” сделал неосмысленное пьяное движение. Видно плебейское чувство драки засосало где-то под ложечкой, но семя этого пагубного зла еще не оплодотворилось нахлынувшим чувством нетерпимости ко всему тому, что непонятно, непостижимо. – Значит ты, святоша, виноватых ищешь? А я так скажу: человек я правильный. Мне пить дали, есть дали – я доволен, я благодарен.
– Это собака довольна, что не бьют ее и жрать дают вдоволь. А человека человеком душа сделала.
“Евнух” замотал головой и, как в школе учили, выпалил давно заученный урок: – Не душа, а труд.
– И муравей, и слон трудятся, однако, они насекомые и звери. Ты людей за проволоку посади и один труд им оставь. Они людьми быть перестанут, озвереют.
– Разве люди не сидели?
– Сидели.
– Разве все зверьми стали?
– Нет, не все. У тех, кто не стал, вера была в правду, освобождение, победу. Вера хранила их, людьми оставила и в жизнь вывела. Она им души спасала.
И посмотрев в синеющую тьму, которая все еще висела по стенам комнаты, Парфен, понизил голос до шепота: – Быть может, мной написанный лик помог тому, кто видел его когда-то. И напомнил он ему видом возвышенным, что тот бедолага, униженный до звериного бездушия, на самом деле человекоподобен.
Золотой свет глаз Парфена задрожал и, как из древесной раны от удара беспощадного железа, из них потекли струйки янтарных слез. Но лицо его не выражало плача, оно было бесстрастным и сухим, как пустыня, по которой текли две прямых соленых струйки, пропадавших в небритых зарослях упрямого подбородка.
Двигая губами, как отрыгнувшая траву корова, “Евнух” словно перетирал зубами сказанное Парфеном в словесный порошок, который брезгливо сплюнул на пол.
– Кому нужны твои художества, когда жрать хочешь так, что о смерть опереться только можешь?! Это раньше бы твои иконы в церкви висели и им поклоны чинили – “спаси, сохрани и хлеба дай”. А тебе на – выкуси! – и показал своей ребячьей рукой кукиш.
Парфен отвел ее, точно она мешала ему ступить вперед.
– Это дураки при молитве себе лоб расшибают. Не хлеба надо просить. Хлеб самому растить надо и живот набивать, ты душу проси наполнить, душу! Заученные молитвы только тупицы твердят. Сам молитву себе сложи. Чем чище ты, чем мудрее, тем и молитва твоя возвышенней. В ней исканья твои и свершенье. Молитвы твои, как в растущем стволе дерева могучие кольца жизни, умудрят тебя, – Парфен точно пел. – Душа твоя – это мир, вселенная. Если ты в солнце не веришь, оно для тебя не светит. Если ты красоту вокруг не видишь, нет ее у тебя. Если гармонию не ценишь, всю жизнь лягушкой проскачешь, а уверуй в гармонию, и в ее уродских скачках красоту познаешь. Вот сила веры в прекрасное. Я идолов не писал, я идеал создать старался. И создал, и возлюбили его люди.
Парфен схватил лампу. От резкого движения стекло упало и разбилось. Пламя погасло в ней, но он не заметил этого, потому что белесый от раннего утра сумрак оттаял, и на стене мягким золотым светом обозначились четкие, как тетива натянутого лука, черты неповторимого лица.
Чуть наклоненная голова, обрисованная золотыми волосами, смотрела глазами полными кроткой доброты, а твердая убежденность их притягивала к себе взгляд, оторвать который не было уже сил.
– Вот, смотри! – почти прокричал Парфен. – Теперь веришь?!
Он подошел к “Евнуху” вплотную и положил свои дрожащие руки к нему на плечи. В умирающей темноте он пытался заглянуть ему в глаза, но они были холодными и пустыми, как последний трамвай, несущийся невесть куда по горбатым и кривым улицам маленького городка, затерявшегося в необъятных просторах ночи. Но Парфен бежал за ним, пытаясь догнать и вскочить в него на полном ходу, чтоб заполнить собой его пустоту и придать его замкнутому рельсами движению хоть какую-нибудь пользу.
– Давно открыл я, что идеала быть не может. Время меняет его, и я не в силах угнаться за ним. Но вера в прекрасное сильнее времени. Она делает меня вечным, но обрекает на муки познания красоты, которая дает людям силу растить хлеб и, наевшись хлебом, не выть волком, а петь прекрасно. Но не всем дано быть вечным, только избранным. Подобно грешникам ада варятся они ежечасно в страстях и сомнениях, чтоб другим нести радость победы своей над неверием в…
Необъяснимое чувство родилось вдруг в тупеющих от выпитого мозгах “Евнуха”. Оно пронзило его до пят, будто он схватился за оголенные провода.
– Нет, не вечен ты, не вечен! Вот, смотри! – закричал он. – Теперь веришь?!
Парфен не успел договорить. Все произошло быстро, как бывает только в российских драках. Алый платок крови покрыл лицо его, а в руке “Евнуха” застыл ощетинившийся трезубец горла разбитой о голову Парфена бутылки.
На утро никто не хватился его. И в своем доме он был всем безразличен. Лишь струйка крови, красной змейкой выползшей из-под двери, заставила соседей войти в его комнату.
Они увидели Парфена лежащим на полу, утонувшим в красной проруби собственной крови, которая пузырилась у его рта, так как он еще силился дышать.
Осмотрев комнату и опросив соседей, приехавшие вслед за скорой помощью работники милиции нарисовали себе ясную картину пьяной драки. В силу толщины стен и изолированности помещения, в котором жил пострадавший, она не была слышна спящим жильцам дома номер шесть дробь один по Овражному переулку.
При осмотре комнаты были обнаружены: старая керосиновая лампа с разбитым стеклом, явно применявшаяся в драке для нанесения телесных повреждений, пустой коленкоровый портфель, облитый водкой и запачканный кровью, по словам соседей не принадлежащий пострадавшему, четыре пустые бутылки из-под водки, одной из которых был нанесен смертельный удар по голове, а также запачканная кровью страница из журнала «Огонек» с изображением мужского лица божественного происхождения с надписью «Из сокровищницы древнерусского искусства “Ангел Златые Власы”. Конец двенадцатого века. Новгородская школа. Государственный Русский музей».
Парфен умер от потери крови на пути в городскую больницу. Его сразу отвезли в морг. Уголовное дело об убийстве Порфирия Никитовича Храмова, мастера живописных работ артели по изготовлению вывесок на стекле при комбинате бытового обслуживания номер три банно-прачечного треста города Владимира, было закрыто за недостаточностью фактического материала.
Никто из свидетелей не мог рассказать об убитом ни плохого, ни хорошего – все его мало знали. Говорили, что он был нелюдим, много пил, хотя пьяным его ни разу не видели. Одни его считали тронутым, другие – верующим. Лишь старик вахтер долго сокрушался о произошедшем, моргая своими старыми слезящимися глазами. Говорил он, что знает Парфена давно, еще до начала войны, и будто бы тот совсем не изменился, а вот он успел уже состариться и почти ослеп.
– Дело странное, очень странное, товарищ следователь, – причитал старик, – кому понадобилось загубить его? Просто диву даюсь. Безобидный он был, незащищенный. А мастер какой! Лучше его никто не мог написать «Парикмахерская, дамский зал», а под этим такое личико намалевать – ну просто ангелок с золотыми волосами!
Следователем товарищем Итягиным были обнаружены следы предполагаемого убийцы, вышедшего через окно комнаты, где им было совершено преступление.
Мертвенно-белое покрывало снега, лежащее на впалой груди оврага, было безжалостно располосовано четкими свежими следами ног убегавшего в сторону вокзала человека, обнаружить которого так и не удалось.
Быть может, уверовав в свою правоту, он стал вечным. И неизвестно, в какую командировку он сейчас едет.