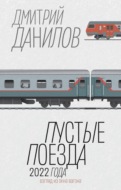Kitabı oxu: «Невидимый Саратов»
© Левантовский М.С.
© ООО «Издательство АСТ»
Глава 1
Оля! Зимой я трижды вспоминал твои трогательные (от слова «трогать») веснушки.
Первый раз – когда был на барахолке, проводил экскурсию для приезжего друга. Мы шли вечерними рядами по утоптанному снегу, поскальзывались, как два пингвина, и я упал и случайно задел, уронил товар с прилавка – мешочек с игрой лото. Из него высыпались деревянные бочонки, картонные кружочки-фишки, разлетелись по снегу шагов на пять. Собирали втроем, извинялись и смеялись. Я всё смотрел на картонные фишки и думал: надо же, как похоже на твои веснушки.
Второй раз – когда я внезапно попал на крышу дома. Собирался пойти к реке, посмотреть, как замерз лед. Во дворе на выходе из парадной обнаружилась неразбериха, чистильщики снега что-то там забыли внизу и не могли спуститься, будучи уже привязанными и застрахованными, и охранник попросил меня подняться к чердаку, передать ребятам какую-то железяку, и вот я пошел, поднялся туда и, пока передавал железяку, глянул над крышей – а на деревьях, на фоне неба, так, знаешь, редко-редко, врассыпную, оставались осенние листья. Я тогда посмотрел и подумал: надо же, как похоже на твои веснушки.
Третий раз – когда был в гостях у Оганесянов. Они пекли торт, долго спорили, «Графские развалины» это или «Хлопчик кучерявый» (вроде бы так называется). Пока спорили, на улице стемнело. Мне поручили натереть горький шоколад на терке. Терка была без ручки, трудно ее держать, старался попасть аккуратно в чашку. Оганесяны хихикали, щипали друг друга и, кажется, чуть-чуть целовались в прихожей. Терка, как я уже сказал, была без ручки, как я был без тебя в тот вечер, и шоколадная крошка иногда сыпалась мимо, на белый стол. Я всё смотрел на нее и думал: надо же, как похоже на твои веснушки.
Воуодя
* * *
Эмиль из Лённеберги, двое из ларца, гости из будущего, черт из табакерки. А семья Саратовых – из небольшого городка.
– Да какого городка! – кричит из машины проезжающий мимо таксист Дядь Витя. – Обычный пэ-гэ-тэ.
Это значит «поселок городского типа». Дядь Витя считает, что до статуса города и инфраструктуры не хватает, и населения, и много чего еще. Он всегда всё знает. И как будто бы во всём разбирается.
Но – такси уехало, а городок стоит.
Казалось бы, ничего тут нет примечательного. Центральная площадь, махонький парк, зеленый микрорайон с панельками, какой-никакой проспект. Больница, поликлиника, несколько школ. Большинство улиц и домов в городке – так называемый частный сектор с приусадебными участками и огородами.
Проезжая мимо, и не подумаешь, какие истории могут скрываться за этими улицами. Какие легенды.
А в городке, между прочим, действительно есть своя легенда. Про странных цыганинов. Большинство здешних жителей так и говорят: цыганины. Как фамилия. «Цыганины» на СТС.
Кстати, вот как раз идет женщина из местных.
Что она знает о таинственных цыганинах?
– Как вам сказать… Я прожила довольно долгую жизнь.
На этом диалог с прохожей обрывается: увы, она слишком не в себе, чтобы ответить понятно и прямо. Говорят, в юности женщина крутила роман с бродягой из табора. Страстно и, к ее сожалению, недолго. Прощаясь, цыганин сказал, что вернется – его можно будет узнать по красной шапке. И не вернулся. А женщина, отчаявшись ждать, сама нацепила красную шапку и с тех пор ее не снимает.
Вот еще один прохожий.
– Знаете, – спрашивает, – кто эта женщина? Она когда-то хотела стать знаменитой, а потом ей цыганин помог. Удружил, как видите. Хе-хе. Короче, с цыганинами тут лучше не связываться. У Сашки Ерофеева в прошлом году из-за них дом сгорел. Беда!
Прохожий понизил голос:
– Сашка сам виноват. Он пьяный цыганина побил. На Новый год. Полез в избушку, где цыганины ночуют. Нельзя их трогать! Им лучше добро сделать, тогда и они с тобой по-доброму.
Оглянувшись по сторонам, житель городка перешел на полушепот:
– Ирка вон с мужем ребеночка заделать не могли. Так однажды цыганинов подвезли на своей машине, и всё. Получилось. Зря вы смеетесь! Ирка сама рассказывала: прям из центра они их забрали с мужем. Говорит, как из-под земли выросли. Стоят, баулы на плечах, в лохмотьях каких-то, на дорогу показывают – ну понятно, подвезти просят. Вот они, эт самое, до крайней улицы их отвезли, где дом заброшенный. Денег брать не стали. Так Ирка через полтора года двойняшек родила! А? А вы говорите. С бродягами дело непростое. Я сам как думаю: жизнь, она ведь, понимаете…
Услышав разговор, подошли другие прохожие. Да, мол, появляются в городке такие товарищи. Если цыганина обидеть, проклянет так, что человек заболеет, попадет в неприятности, пропадет без вести. А кто на них зла не держит, тому и желание могут исполнить.
Заговорив о сокровенном, прохожие начали спорить, а успокоившись, кинулись рассказывать про себя, про жизнь, про молодость. Про цены, политику, дороги и увлеклись настолько, что забыли, с чего начали.
Бродяги тем временем пропадали, появлялись, опять держали путь, ведомый только им, и вот теперь снова оказались в городке – на этот раз на улице Октябрьской, по которой сырым весенним днем возвращалась домой из школы восьмиклассница Катя Саратова.
Полчаса назад она подралась и прогуляла последний урок. Первое с ней случалось редко. Второе – практически никогда. Саратова – прилежная ученица и, как надеются учителя, будущая медалистка.
Улица Октябрьская, огибающая городок с северной стороны, у развалин мукомольного комбината, даже в апреле оставалась октябрьской. На других улицах пробивалась зелень, земля уже дышала теплом, пока еще робким и прозрачным. А Октябрьская как была помойкой, так и осталась. Грязная, неухоженная, одичалая. С вечными пакетами мусора и бродячими собаками в овраге (Кате иногда мерещилось, что на дне оврага лежит мертвая проститутка). Бетонные плиты заборов торчали над глиняными оврагами как прокуренные зубы. Вдоль плит вела тропинка с комбината, и улицей этот путь назывался, должно быть, лишь потому, что с другой стороны стояло несколько пустых домов.
Катя достала влажную салфетку – на пачке красовалась надпись «Для всей семьи», – приложила к губе, поморщилась: еще кровит. Тропинка вильнула и вывела к пустырю. Впереди, за кустами и ржавой бочкой, послышалось хриплое лаянье.
Надо прикинуть обходной путь. Еще разок прижав салфетку ко рту, Катя брезгливо бросила ее в траву, пошла напролом через кусты и увидела собак. Тощие, с грязной рыжей шерстью, местами словно выдранной лишаем, они скалились и рычали на испуганного мальчишку, приближаясь к нему с трех сторон.
Пацан заметил, что на него смотрит кто-то еще, кроме одичалых псов.
В этот момент Катя замахнулась и бросила камень в сторону ближайшего, покрупнее. Камень глухо стукнулся об землю, спугнув собак, они заскулили и, оглядываясь, побежали вниз, к оврагу.
– Ты как? – Катя подошла к мальчишке. – Испугался?
Пацан показался неместным. Кареглазый, смуглый, в засаленной зимней куртке на несколько размеров больше нужного, он теребил грязные пальцы, торчащие из подвернутых рукавов, и молчал.
– Может, заблудился?
Растерянный взгляд.
– Где ты живешь? Проводить тебя?
Мальчик приоткрыл рот, пытаясь что-то произнести, и стал делать Кате знаки и жесты, ни один из которых она не понимала даже примерно.
– Погоди. – Катя потрогала себя за уши. – Ты не слышишь, не говоришь?
«Вот я дура, зачем тогда спрашиваю».
Мальчик отошел на шаг.
– Ладно, ладно, всё, ухожу.
Их глаза – ее удивленные серые и его напуганные черные – встретились. Воздух качнулся, в голове зашумело. Пацан глядел в упор, не моргая. Во взгляде блеснуло что-то пугающее, как пугает кухонный нож в руке подвыпившего человека.
Черные глазища стрельнули в сторону, Катя оглянулась и увидела цыганинов.
Много лет спустя их образ иногда будет топать в дальних комнатах ее памяти. Одетые в лохмотья, обмотанные тряпьем, подпоясанные чем попало, в стоптанных сапогах или в неожиданно белых кроссовках (украденных?), разного роста и возраста, они стояли и смотрели на Катю.
От них пахло дымом, как в предбаннике, бальзамом «Звездочка» и мокрой собачьей шерстью. Катя подумала, что это странно и странно то, что от незнакомцев не воняет, например, мочой и перегаром, как от некоторых бездомных, что встречались ей возле вокзала и на рынке за старыми ларьками, где они жили в коробках и картонках, иногда устраивая между собой медленные разборки с тягучей и ни к чему не приводящей возней, после которой, кажется, все засыпали.
Это совсем другие бродяги.
Со стороны оврага затрещали кусты. Высокий цыганин с седыми усами вздернул нос, принюхиваясь.
Над линией неровной земли, за которой шел обрыв и спуск вниз, показались лохматые уши, волчьи морды. Цепляясь за кочки, перебирая худыми лапами, псы вылезли наверх, обошли бродяг с нескольких сторон и зарычали.
Цыганин с седыми усами кивнул своим. Те потеснились, пропустив вперед женщину в черном платке. Она вышла на пустырь, остановилась возле Кати, сняла с головы платок, плюнула на него и взмахнула трижды.
Собаки заскулили, присели на задние лапы.
Катя схватилась за голову: в затылке больно ковырнуло. Ноги подкосились. Померещилось, будто трава под ногами женщины ожила и заговорила.
Платок медленно кувыркнулся, как ленточка в руках гимнастки. Собаки рухнули набок и замолкли.
Опережая испуг человеческой девочки из небольшого городка, женщина посмотрела на Катю и сказала:
– Я их не убила. Я их усыпила.
Собаки и вправду спали.
– Тут болит? – Усыпительница показала на голову, обращаясь к Кате. – Боишься?
Катя нехотя согласилась.
– Скоро перестанет. Дома долго спать будешь.
Усыпительница сняла сумку с плеча, порылась в ней:
– Подойди. – Протянула Кате пирожок. – Скажи, чего хочешь, потом съешь. Будет твое, пока солнце не сядет.
Катя повертела пирожок в руках, присмотрелась, понюхала – чуть подгорелый, подсохший, с косичкой-швом посередине, шершавый на ощупь.
Цыганины повернулись и пошли своей дорогой. Впереди шел старый цыганин в черной одежде, за ним еще несколько, потом все остальные, за ними мальчик, а за мальчиком, то отставая, то приближаясь, прыгая с лапки на лапку и оглядываясь, шла маленькая птица с глазами цвета арбузных семечек. Спины сливались в темное пятно, становились всё меньше, меньше, еще меньше, пока не пропали совсем, далеко за деревьями, в начале Октябрьской.
Катя усмехнулась, чуть не бросила пирожок спящим собакам, но оставила себе. Пошла домой. Весенний воздух, прохладный и мягкий, гладил волосы. Солнце щекотало щеки. Голова перестала болеть. Хотелось спать.
За тремя перекрестками и одним проулком уже был дом.
Дома никого. На кухне – неуютный душок грязной посуды, залитой в раковине. Катя зевнула, вынула из сумки пирожок. Оставив его на тарелке, ушла в свою комнату и провалилась в долгий сон, где увидела отца: он бежал по темному лесу, оглядываясь по сторонам, словно кого-то искал и никак не мог найти, а потом была мама, она стояла посреди чащи, смотрела папе вслед и уходила в другую сторону, а он всё бежал и бежал, и мама уходила дальше, и лес не кончался, и папа бежал, и мама тихо шла, и между ними разрасталась чаща, «ча-ща», которая, запомните, дети, пишется через «а», через долгое протяжное «а-а-а», отчаянное «а-а-а», ревущее «а-а-а-а», непроизносимое «а-а-а-а», выплаканное в подушку, свернутое в животе мокрой тряпкой обиды, которую ничем не высушить, никак не вытащить, никем не прикрыть и долго не унять, и папа бежал и спотыкался, а мама уходила в другую сторону, и ничего с этим не сделать, и все вместе втроем они останутся только на старых фотографиях, где родители совсем еще молодые, а она – щекастый пузан-барабан, смеющийся в коляске, с размазанным по лицу фруктовым пюре, и вот еще такая, со школьными бантами, и еще несколько летних снимков, и снова темная чаща.
* * *
Накануне ночью отец Кати, Володя Саратов, остался у своего старого друга Серёги Заруцкого.
Несмотря на поздний час решили выпить: Саратов поругался с женой, предстоял сеанс дружеской «психотерапии», как раз у друга пива в холодильнике под завязку: собирался на выходных шашлыки делать, да не сложилось.
Из колонки, подключенной к старенькому ноутбуку на подоконнике – что-то вроде кухонного телевизора, – уютно бормотало радио «Монте-Карло». Коллекция золотых хитов. Или золотые хиты на все времена, что-то такое.
Заруцкий, услышав “I Want to Break Free”, метнулся в коридор и эффектно вернулся на кухню, управляя на ходу пылесосом:
– Похож?
– Усов не хватает. – Саратов наклонил бокал, наливая пиво из двухлитровой пластиковой бутылки. – Слушай, а ты вот…
– Ниже наклоняй, пена одна!
– Да наклоняю, наклоняю. Бармен, блять.
– А когда не бармен?
Приглушив радио, друзья поговорили о ссоре, случившейся у Саратова.
Заруцкий внимательно, не перебивая, выслушал рассказ, понимающе почесал бороду и сказал:
– Короче. Ты как хочешь, а я думаю, вам надо поговорить. Просто вот сесть и нормально поговорить.
– Я с табуреткой лучше поговорю, чем с ней.
– Да хоть с тумбочкой, Вов. – Заруцкий надломил вяленую рыбу, оторвал кусочек. – Вам правда стоит поговорить. Поверь, ничего лучше еще не было придумано.
– Угу.
Заруцкий продолжал говорить, а Саратов в это время, слушая друга одним ухом, представил, как в столицу, в какой-нибудь большой модный отель, съезжаются лучшие эксперты со всей страны. Вечером у них деловой ужин, а наутро – большая конференция на тему «Придумано ли для Саратовых что-нибудь лучше, чем поговорить». Выступают спикеры, гости задают вопросы, ученые читают доклады, показывают презентации, объясняют графики. Умные люди кивают, что-то записывают.
– Мужчина, – Заруцкий пощелкал пальцами, – мы вас теряем?
– Да чёт задумался.
Заруцкий покрутил бокал в руке, отхлебнул.
– А ты по детству звонил в скорую для прикола? – Голос Саратова прозвучал неожиданно и странно, примерно так люди говорят во сне. – Типа, знаешь, там: «А-а-а-а-а, умираю, помогите, кишки вылезли» – вот это вот всё.
– Не-е, у меня бабушка врачом была, я как-то стеснялся. Пацаны какие-то знакомые звонили однажды, угорали.
Саратов усмехнулся:
– Я прост чё думаю. Понятно, что мы щеглы были, не понимали. Делать нехуй было, развлекались как могли. И вот, прикинь, мы тогда звонили ведь просто поугорать, а теперь – оп?
Заруцкий вопросительно вскинул брови, глядя на захмелевшего друга.
– А теперь, – захмелевший друг провел в воздухе линию и остановился. – Теперь мы вот тут, в этой точке. Взрослые мы во взрослой нашей жизни. Теперь, если мы будем звонить в скорую, а кто-то уже, может, и звонил, то это будет по-настоящему.
Заруцкий допил пиво залпом, кивнул и пожал плечами: мол, ну да, как-то так.
Пшикнула новая бутылка, полилось в бокалы.
Саратов продолжал:
– А вот это время, которое между теми звонками в детстве, по приколу, и нынешними, серьезными, как это назвать? Вот эту линию, от точки А до точки Б?
– Вовений, ты что-то усложняешь. – Заруцкий пощелкал пальцами, потер нос. – Ну как это еще назвать. Жизнь, наверное. Просто жизнь.
Саратов вполголоса повторил: «Просто жизнь». Просто жизнь, просто жена. Просто показала письма своим просто подружкам. Просто зависала в тачке со своим просто шефом. Просто замечательно.
Приложился к пиву и, не опуская кружку, уставился в окно. Над забором горел фонарь, на улице давно стемнело. В небе мигали красным далекие огоньки самолета.
Саратов подумал: «Кто летит в этом самолете? Кто и куда? Сколько там людей? О чем они думают? Боятся ли они лететь? Они уже так высоко, когда ни дом Заруцкого, ни городок не видно? Или еще видно? И почему, когда видишь, как в темном небе светятся красные огоньки далекого-далекого самолета, становится немного грустно?»
Красные огоньки напомнили о мигалках скорой помощи.
Саратов поморщился.
Первый пилот доложил по радиосвязи: «Пролетаем над эпохой обиженных мужчин. Никому слова не скажи. Наблюдаем двух взрослых мужиков, рефлексирующих на кухне. Подготавливаемся к снижению. Повторяю: два взрослых рефлексирующих мужика. Предположительно, один рефлексирует по своей жене, другой за компанию».
– Может, по водке? – Саратов подмигнул приятелю. – Кисляк какой-то это пиво.
На розовощеком лице Заруцкого засуетились веснушки.
– А когда не по водке? Я вообще-то сразу предлагал!
Заруцкий похвалил себя за то, что вовремя кинул бутылку в морозилку. Саратов погрыз себя за то, что вспомнил про скорую. Внутренний жук-точильщик подбирался к пульсирующей мякоти обиды.
Всевидящий и всепонимающий друг не выдержал:
– Вов! Да хорош ты загоняться. Помиритесь еще сто раз, ебать-колотить. Столько лет вместе живете, а ты сидишь лирику разводишь. Лицо как на поминках.
– Да. Ты прав. Чёт я это… – Саратов встал, походил по кухне, разыскивая продолжение мысли. – Я просто понял, что надо было по-другому сделать.
Заруцкий встряхнул в руке сигаретную пачку:
– А я тебе что говорил? Конечно, блять, по-другому. Ты тоже странный такой, торпеду включил, хоть бы разобрался сначала. Зачем ты его вообще ударил? Этот терпила интеллигентный завтра накатает на тебя заяву – и привет. Или Ольгу уволит. Тьфу-тьфу, конечно.
Саратов наполнил рюмки, хрустнул бутербродиком со шпротой и соленым огурцом, прожевал и сказал, предлагая выпить:
– Так вот. Я думаю, не надо было его по ебальнику бить. Надо было с ноги втащить. Вот так было бы правильно.
– Старик. Завязывай. – Заруцкий пододвинул к себе пепельницу. – Согласись, ты горячку напорол. И вообще ты какой-то смурной стал.
Даже если не считать ваши с Олей, это самое, отношения. Что не так?
– Да не знаю… – Саратов скрестил руки, пожал плечами. – Такое чувство, как будто я шел, шел и никуда не пришел. Работа одна и та же, всё каждый день одно и то же. Я с этими надгробиями сам уже иногда как надгробие. Всё какое-то неживое. Не знаю. И что я сделал за тридцать пять лет? Чего полезного?
– Ну, тут ты не прав. Во-первых, из этих тридцати пяти ты как минимум одиннадцать лет штаны в школе протирал. А это уже не тридцать пять, а двадцать четыре. Оттуда еще убери время, когда мелкий был. Совсем другая цифра получается, нестрашная. Тридцать пять – вообще хуйня. Мне батя рассказывал, что он в это время только что-то понимать начал и жить начал.
Саратов поморщился.
– Ты вон почти сам дом построил. Или что там. В смысле пристройку сделал. Дочка у тебя вон какая. Скоро выше тебя будет.
– Это она в мать, – буркнул Саратов и на секунду просиял, подумав о дочери. – Катька классная. Когда в первый класс пошла, я решил, что никогда ее не буду за оценки кошмарить, как меня родители кошмарили. Двойки, тройки, да и хер бы с ними. А она в итоге вообще отличницей оказалась. Вот так.
– Видишь! – Заруцкий наполнил рюмки до краев. – Давай, за отличницу!
Разговор вышел из берегов и растекся во все стороны, затопив кухню пьяной болтовней. Саратов говорил Заруцкому, что тот классный чувак и хороший дизайнер, только мечется много и боится расти дальше. Заруцкий соглашался, с благодарностью глядел на приятеля влажными глазами и в свой черед говорил, что Саратов – вот такой мужик! Что Саратов, если бы не забросил свои творческие дела, мог бы стать артистом. Какие песни сочинял! «В ключицах раковины скапливалось мыло» – ну это еще надо придумать такое! «В ключицах раковины»! А всё равно красавчик, нашел себя в надежном деле, стабильная работа сегодня важнее всего. И вообще, у него, на минуточку, уникальная профессия. Памятники, надгробия, портреты на граните – что, много у кого такая работа?
– Работа-работа, – добавил опьяневший Саратов и потянулся к гитаре, – перейди на Федота.
Пальцы пощипали струны. Хотелось поорать во всю глотку, но это надо еще подпить. Когда в животе уже тепло, хочется курить одну за одной, разговаривать о жизни и чувствовать, как чешется сердце. Вот тогда – да. А сейчас – нет, сейчас не то.
А еще Саратов смущался, если надо было спеть-сыграть при жене. Робел, терялся, сдержанно краснел. Зато подкидывать ей письма – обожал. И Оля это тоже обожала. Саратов писал бы их дальше, подсовывая жене конверты и записки. Если бы кое-что не произошло.
Внутри окреп и распустился цветок сентиментальности.
Саратов отложил гитару и исповедническим тоном сообщил другу, что очень, очень любит Олю. Что она ему, между прочим, и жена, и любовница, и друг, и собеседник. «Нивея» – «Три в одном». Спокойно с ней. Всегда кажется, что встретил ее как будто вчера. Понимаешь, да? Как будто вчера, честное слово.
Стоило Заруцкому порадоваться, что друг успокоился, размяк и пробоина в нем залаталась разговорами, как из тумана выпитой водки показался фрегат под названием «Знаешь, что она сделала?».
– Знаешь, что она сделала? Не сейчас, не вчера. Просто однажды.
Заруцкий придвинул пепельницу и скрестил руки, обозначая готовность выслушать долгий рассказ. И этот рассказ начался со сравнения любви с зоопарком.
Любовь к жене Саратов назвал внутренним заповедником. Будто диковинный зоопарк без клеток. В зверинце кого только нет: и животные, и птицы, и рыбы – всех цветов и размеров, и даже те, что занесены в Красную книгу, и даже те, что давно вымерли, и, может быть, даже те, что еще не открыты или не придуманы природой.
Рыжие лисицы ходят на задних лапах друг к другу в гости, ездят верхом на жирафах, а временами приплывают на спине рыбы-тунца – море тоже входит в состав саратовского заповедника. Лисицы читают газеты, обсуждают гороскопы, пекут печенье, поют тихие песни на выдуманном языке.
Потешные индюки живут на перекрестках тропинок и изображают регулировщиков движения – одни громко свистят, другие тут же улюлюкают, размахивая во все стороны красными кожаными соплями, и в многоголосом хаосе есть свой птичий порядок, даже некоторое умиротворение, несмотря на общую сумятицу.
Упитанные пантеры расхаживают тут и там в кокетливых солнцезащитных очках и говорят по-французски, а может, только делают вид, что говорят по-французски, и всячески держат фасон.
Необъятная, бесчисленная живность занимается всем чем угодно и черт знает чем, кроме занятий, привычных ей в обычном мире. Заповедник безумствует и в то же время будто бы ведет обычную жизнь. Должно быть, так происходит с теми и внутри тех, кто влюблен.
Но однажды в зверинце появилась мертвая мышь.
– Ишь ты поди ж ты, – присвистнул Заруцкий, наполняя рюмки, – а когда не появилась? И чего она, прям мертвая?
Да, Серёга, прям мертвая. И не занимается эта мышь ничем, кроме того, что отравляет всё вокруг. Маленькая, мелкая, серая, невзрачная на вид – а столько от нее пакости. Гадкая мертвая мышь. Вонючая, проклятая.
И Саратов рассказал, как мертвая мышь попала в заповедник.
В тот день жена собрала дома подружек. Вечерняя пати с вином и фоновым пересмотром какой-то части «Гарри Поттера». Несколько подруг с работы, на которой жена стала пропадать всё чаще, бывшая одноклассница и подруги, о которых Саратов мало чего знал.
К спонтанным домашним девичникам Володя относился спокойно. Ему нравилось, когда девчата собирались вместе, хихикали, шушукались, готовили что-то вкусное, наполняли дом приятно щекотным, теплым. Нравилось, что он почти никогда не попадал на эти вечера, специально задерживаясь на работе, и что это сразу стало понятно и было принято как негласное условие, хотя на самом деле условий никаких не было и он мог бы в любой момент присоединиться к веселью.
Саратов вернулся к полуночи. Было лето. Пахло жасмином, летел дымок из банной трубы. В окнах горел свет, с крыльца негромко играла музыка в блютус-колонке. Из дома вылетали голоса и смех. Мелькали тени. Звенела посуда.
Значит, еще не разошлись.
Саратову захотелось присесть возле окошек, не вслушиваясь в разговоры, просто посидеть в траве, подложить под низ что-нибудь, устроиться поудобнее и побыть в тени, пока в доме продолжается праздник жизни, который устроила его supergirl, которая, как пела в тот момент блютус-колонка, don’t cry.
Так он просидел, может, полчаса. Любимые треки Оли, любимый двор, темно-синие сумерки и – опять же, любимая – тяжесть в ладонях после хорошей работы. Весь день он готовил надгробие с необычной деталью: заказчик попросил выбить по углам аммониты – спиралевидные узоры.
Получилось красиво.
Звуки, запахи, ласковый воздух снаружи – всё это закручивалось в Саратове в спираль, но не кончалось точкой в середине, а бесконечно кружилось, набирая новые витки. Редкое и счастливое ощущение благодарности жизни за то, что она, эта жизнь, сейчас – именно такая. «Жизнь такова и никакова больше», – любила шутить жена.
И вдруг – как пробегающая кошка в свете фар – возникло желание: заглянуть в окно. Баловство? Да нет. Напугать ради прикола? Тоже нет. Крикнуть что-то смешное и приятное, чтобы все засмеялись, успокоились, опять засмеялись и позвали залезть внутрь с улицы? Может быть. Но тоже нет. Захотелось просто чуть-чуть, самую малость, осторожно посмотреть в окно, увидеть жену, ее подруг, увидеть дом внутри. Великая радость мгновения.
Саратов осторожно приподнялся, вытянулся и заглянул в окно.
Оля сидела за столом, держала что-то в руках, перебирала, перекладывала и показывала это «что-то» девчонкам. Подруги шумно отзывались, приглядывались поближе, тыкали пальцами, сосредоточенно и быстро изучали и так же сосредоточенно и быстро галдели, обсуждая увиденное. Слов было не разобрать, как и того, что показывает Оля.
В руках мелькнуло желтое, прямоугольное.
Движения пальцев. Быстрая смена кадров. Стоп. Подруги придвинулись поближе. Жена оживилась, демонстрируя нечто, вынутое из желтого прямоугольного. Подруги стали выхватывать, рассматривать поближе. Каждый раз при этом неистово хохоча, громче, чем музыка на крыльце.
Саратову поплохело. Показалось, что жена держит в руке стопку его писем, и письмо в желтом конверте, особенное письмо, полное доверительной откровенности, тоже там, и подруги читают, смотрят и смеются.
Голова закружилась от накатившего стыда, злости, обжигающего непонимания, как так могло произойти. Больно и странно, как пощечина от матери.
О том, что он увидел в окне, Саратов ничего не сказал жене. Ничего не спросил. Даже не намекнул. Он просто прекратил писать ей письма.
В тот вечер в его зоопарке поселилась мертвая мышь.
Еще больше разочарования добавило то, что Оля не спрашивала, почему больше нет писем. Как будто они не особо-то и были нужны.
Со временем Саратов стал подмечать, что жена часто задерживается, пропадает на каких-то курсах, очень уж тщательно одевается на работу, часто красится, игриво спешит, и видел в этом дурной знак. Будто кто-то третий или уже натоптал в их домике, или вот-вот натопчет, подленько и гадостно, воспользовавшись Олиной доверчивостью, вскружив ей голову какими-нибудь небылицами.
– Неб… былицами, – подтвердил Заруцкий, – и лисицами. Короче. Теперь то же самое, только не мне. А ей. А не мне. А я… Чё-то я кривой, как турецкая сабля.
Ночь закончилась одновременно со второй пачкой сигарет. Заруцкий, с трудом произнося слова, резюмировал, что открывать третью не стоит, а то потом зубы выпадут. Да и светает уже, надо расходиться.
Саратов отказался от утреннего ночлега у друга и пошел домой.
На холоде он быстро протрезвел. Неуютность и сиротливость вели его под обе руки, а следом (как следователь) шла совесть и спрашивала, не стыдно ли идти домой в таком виде.
Так а вот уже и дом, какие вопросы?
Саратов с трудом разулся и, затаив дыхание, словно могут сработать невидимые алкотестеры, добрался до спальни. Разделся, нырнул под теплое одеяло, их с женой любимое. С жирафами!
И тут же остро ощутил всем животом – что ужасно голоден.
На кухне угораздило споткнуться о свои же мебельные заготовки. Недоделанные стулья и полка пылились в углу.
Саратов зевнул, шаря глазами в поисках чего-нибудь съедобного. Увидев одинокий пирожок, он бросился к нему, жадно съел в три укуса, запил двумя стаканами холодной воды и на цыпочках, как фавн, вернулся в спальню.
Шторы пришлось задернуть – утро подглядывало в окна.
Саратов снова забрался под одеяло и лег поудобнее набок.
Засыпая, он разглядывал фотографию в стеклянной рамке, стоявшую на тумбочке возле кровати. На снимке – он с женой. Оба совсем еще молодые. Оля в то время ходила с длинными, как поэма Гомера, волосами, плотными, волнистыми, черными, с мягкой проседью, неизвестно откуда появившейся у нее еще в школе. Запрокинув голову, она хохотала, и солнце гладило ее лицо. Саратов и сейчас слышал этот смех. Он всегда казался ему заразительным, обволакивающим.
Сам он стоял рядом в распахнутом пальто, с сигаретой в зубах, обняв жену ниже плеча, и с серьезным видом смотрел в камеру, похожий со своей бородой, как Оля не раз говорила, на актера из фильма «Три плюс два», только он постоянно забывал, на какого именно, потому что втайне ревновал и не хотел быть на кого-то похожим.
«Парней так много холостых, а я люблю Саратова», – пошутила однажды Оля.
Это было давно.
Сонный взгляд выхватил на снимке чей-то темный силуэт слева от Оли. Хотя нет, просто куст сирени возле кинотеатра «Луч», куда они ходили на ретроспективу Тарковского.
Сирень встрепенулась, ожила и придвинулась ближе к молодой паре. Олино лицо стало еще красивее, а Саратов потускнел, проявились темные мешки под глазами, опустились плечи, пальто повисло, выглядело дурацким.
Рука уже не обнимала, а безвольно висела в кадре, едва придерживая Олю за локоток.
Взгляд снова вернулся к сирени, и на месте куста выросла фигура Калитеевского, всей своей напыщенностью и спокойной уверенностью говорившая: «Не Калитеевского, а Антона Константиновича Калитеевского, будущего заведующего станцией скорой помощи».
Калитеевский встал поближе, ущипнул Олю за бочок, игнорируя просьбу фотографа смотреть в объектив и улыбаться. А Оля – это было заметно – поглядывала в сторону новенького начальника, большого умницы и всеми любимого доктора, который отказался от карьеры в столице ради работы в родном городке.
Саратов сглотнул пересохшим горлом и снова посмотрел на фото.
Сирень темнела сбоку, никакого Калитеевского там не было, разве что где-то сзади виднелись прохожие, случайно попавшие в кадр.
В голове заново развернулась вечерняя сцена. Опять эта машина, включенные фары, в салоне веселая музыка, вот рука Калитеевского с массивными дорогими часами, эта рука небрежно лежит на руле, а другая тянется к Оле, сидящей рядом, и вот он, сука, наклоняется и тянет губячки, трогает Олю за плечо, а она долго держит Калитеевского за руку.
Опять стук в стекло, опять оборачивается удивленный Калитеевский, чтобы посмотреть, кто стучит, и опять за шкирку вылетает из машины.
Саратов еще разок посмотрел на фотографию. И подумал, что больше всего хотел бы стать невидимкой. Чтобы в любой момент оказаться рядом с Олей, а она не узнает. Провести так целый день, как тень быть рядом, окружать ее везде, где она будет. Всё видеть, всё слышать. Всё узнать. Вот хорошо бы так! Стать невидимкой.
Pulsuz fraqment bitdi.