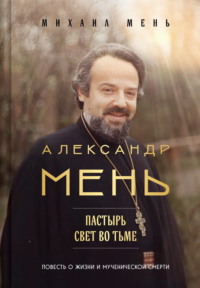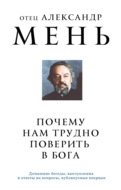Kitabı oxu: «Александр Мень. Пастырь. Свет во тьме. Повесть о жизни и мученической смерти»
Серия «Александр Мень. Священник, пастырь и пророк»
В книге использованы фотографии из личного архива автора.

© Мень М.А., текст, иллюстрации, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Предисловие к повести Михаила Меня «Пастырь. Свет во тьме»
«9 сентября 1990 г. в поселке Семхоз Московской области, по дороге в храм, был убит священник Русской Православной Церкви, отец Александр Мень», – так сообщали многие крупные СМИ Советского Союза, Европы и Америки. Это страшное известие быстро облетело мир в тот сентябрьский день.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митр. Сурожский Антоний, кардинал Франции Жан-Мари Люстиже, папа римский Иоанн Павел II и другие церковные иерархи и члены правительств были потрясены этим чудовищным злодеянием, о чем свидетельствовали многочисленные выступления, заявления для прессы. Президент СССР Михаил Горбачев распорядился, чтобы ему лично докладывали о расследовании этого преступления.
В заявлении архиепископа Парижа кардинала Люстиже в частности говорится: «…Убийство человека, отдавшего жизнь Богу – это бунт против Бога и рана, нанесенная собственному народу. Я молюсь за отца Александра Меня, за его близких, за его приход и за всю Православную Церковь, которой нанесен страшный удар».
А вот слова митр. Антония (Блума): «…Теперь отец Александр лицом к Лицу созерцает Спасителя. Мы не смеем говорить о своей оставленности, об одиночестве, о сиротстве! Отец Александр не умер, а приобщился к Жизни Божественной, остался для всех своих Пастырем добрым молитвенником, ходатаем, заступником! И зовет он каждого, кто его любил, кто в нем видел образ истинного христианина, на Путь Крестный и к славе Воскресения! “Будьте мне последователями, как и я последователь Христов!”».
Александр Мень родился 90 лет тому назад, в 1935 г., в Москве, столице огромной страны – Советского Союза. К 1935 году общество было уже окончательно порабощено. И «официальная» Церковь Московского патриархата была почти задушена, обезглавлена после смерти патриарха Тихона в 1925 году (осталась без патриарха на долгие годы; за исключением нескольких епископов, остававшихся на воле, – все архиереи были убиты или арестованы; обновленческий раскол, организованный ГПУ-НКВД, разрушал Церковь изнутри). Сталин уже развязал в СССР «большой террор», шли массовые аресты, в ГУЛАГ уже были брошены миллионы людей.
В то тяжелое время жестоких гонений на верующих, на «врагов народа», религиозное воспитание можно было получить только в подполье, в «катакомбах». Многие из тех, кто являлись духовными учителями Алика Меня, были репрессированы за участие в «антисоветском церковном подполье». Все они были членами Катакомбной церкви – церкви, казалось бы, слабой и гонимой, но на самом деле – непобедимой. Гонимую Церковь основали святые исповедники и мученики, духовенство тех страшных лет. В то время полной беспросветной тьмы эта община святых спасала основы христианства, чистоту православия ценой своей жизни.
Для человека, родившегося в Москве в разгар сталинских репрессий, биография Александра Меня не просто необычна, она выглядит как чудо, как легенда – он с детства участвовал в тайных богослужениях, вырос и сформировался в условиях подпольной Церкви, когда литургии служились в лесу, на поляне, или в комнате незаметного деревенского дома, – поэтому он знал цену подлинной христианской жизни, знал, что Дух дышит, где хочет, и там, «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них».
А ведь, обладая разносторонними и значительными дарованиями, он мог бы сделать успешную карьеру в самых разных областях! Александр Мень с детства интересовался миром природы, миром животных, изучал биологию в институте и, имея незаурядный научный склад мышления, мог стать, например, ученым-биологом. Мог также стать музыкантом, ведь у него были прекрасные музыкальные способности, или художником – с детства он рисовал, брал уроки живописи, иконописи, в юности писал акварели, пейзажи, портреты; его иллюстрации к книге «Сын Человеческий» очень выразительны; есть несколько икон его письма. Он мог бы стать прекрасным писателем, о чем свидетельствуют его книги по истории религии, – они написаны с великолепным художественным мастерством и читаются с огромным интересом, как романы. Отец Александр очень любил кино, в его планах было снять фильм о жизни и смерти. Из него мог бы выйти замечательный кинорежиссер: в домашних условиях, используя слайды, он делал великолепные диафильмы на библейские сюжеты.
Но он решил все свои таланты принести в дар Господу. И стал пастырем, священником. Почему же Александр Мень, блестяще образованный, отказался от возможности сделать прекрасную карьеру (на том или другом поприще), реализуя свои богатые дарования, а выбрал не просто трудный, но полный испытаний и риска путь сельского священника, обрекая себя и свою семью на жизнь в провинции, среди темной, суеверной, в основном невежественной паствы?.. (И так и прослужил в деревнях с 1960 до 1990 гг.) Прежде всего потому, что видел в детстве пример жертвенного служения, непоколебимой и светлой веры в катакомбной церковной общине, а позже сам обрел опыт личной Встречи с Христом. Когда был еще подростком, «тогда же я услышал зов, призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех пор оно определяло все мои интересы, контакты и занятия. Вместе с этим пришло решение стать священником», – пишет о. Александр в очерке «О духовном опыте».
Уже в 12 лет Александр принял твердое решение стать священником и целеустремленно шел к этому из года в год.
Александр Мень окончил Ленинградскую духовную семинарию, Московскую духовную академию, аспирантуру, защитил богословскую диссертацию по теме «Элементы монотеизма в дохристианской религии и философии».
Промыслительно и то, что христианство Александра Меня, родившегося в интеллигентной еврейской семье, берет свое начало задолго до его рождения. Вот слова самого о. Александра из письма 1971 г.: «Я был рожден в православии не только формально, но и по существу. Семья наша издавна считала себя живущей под благословением о. Иоанна Кронштадтского. Он вошел в ее жизнь не из книг. Мамина бабушка, которая еще нянчила меня, бывала у о. Иоанна, и он исцелил ее от тяжкой болезни. При этом он отметил ее глубокую веру, хотя знал, что она не была христианкой, а исповедовала иудейскую религию. Думается, что благословение о. Иоанна не осталось втуне: мать моя с раннего детства прониклась верой во Христа и передала мне ее в те годы, когда вокруг эта вера была гонимой и казалась угасающей, когда многие люди, прежде бывшие церковными, отходили от нее. Это была трагическая эпоха, требовавшая большого мужества и верности. Поколебались многие столпы… И мне остается только быть вечно благодарным матери, ее сестре и еще одному близкому нам человеку за то, что в такое время они сохранили светильник веры и раскрыли передо мной Евангелие. Наш с матерью крестный, архимандрит Серафим, ученик Оптинских старцев и друг о. А. Мечева, в течение многих лет осуществлял старческое руководство над всей нашей семьей, а после его смерти это делали его преемники, люди большой духовной силы, старческой умудренности и просветленности. Мое детство и отрочество прошли в близости с ними и под сенью преподобного Сергия. Там я часто жил у покойной схиигуменьи Марии, которая во многом определила мой жизненный путь и духовное устроение. Подвижница и молитвенница, она была совершенно лишена черт ханжества, староверства и узости, которые нередко встречаются среди лиц ее звания. Всегда полная пасхальной радости, глубокой преданности воле Божией, ощущения близости духовного мира, она напоминала чем-то преподобного Серафима или Франциска Ассизского. Я тогда <…> считал (да и сейчас считаю) ее подлинной святой. Она благословила меня в конце 50-х годов на церковное служение и на занятия Священным Писанием. У матери Марии была черта, роднящая ее с Оптинскими старцами и которая так дорога мне в них. Эта черта – открытость к людям, их проблемам, их поискам, открытость миру. Именно это и приводило в Оптину лучших представителей русской культуры. Оптина, в сущности, начала после длительного перерыва диалог Церкви с обществом. Это было начинание исключительной важности, хотя со стороны начальства оно встретило недоверие и противодействие. Живое продолжение этого диалога я видел в лице о. Серафима и матушки Марии. Поэтому на всю жизнь мне запала мысль о необходимости не прекращать этот диалог, участвуя в нем своими слабыми силами. […] Со студенческих лет особенное значение имели для меня пример и установки моего духовника (благословившего меня в 1960 г. принять священнический сан) о. Николая Голубцова (1900–1963), который до самой своей смерти не оставлял меня своим попечением и дал мне еще один высокий образец «открытости» к миру, служения в духе диалога.
Под знаком этого диалога проходило и проходит мое служение в Церкви»1.
За 35 лет, прошедших со дня мученической кончины протоиерея Александра Меня, о нем многое написано и сказано. Выдающийся богослов, ученый-энциклопедист, писатель, автор многих книг, библеист, несравненный проповедник, миссионер – и все это составляло цельный образ доброго пастыря.
К отцу Александру с полным правом можно отнести слова архиепископа Иоанна (Шаховского) из его книги «Философия православного пастырства»: «Добрый пастырь есть воин и начальник воинов… Рулевой и капитан… Отец, мать, брат, сын, друг, слуга.
Плотник, шлифовщик драгоценных камней, Искатель золота. Писатель, пишущий Книгу Жизни…»
Отец Александр принес все свои дары, труды, все, наработанное им с детства, отрочества – своей пастве. Он сам говорил: «Все мною написанное, все книги – часть пастырского служения». Не будь Александр Мень священником, он написал бы другие книги. А он все положил на алтарь пастырского служения.
Чем отличается пастырь добрый от наемника?
Иисус в Евангелии от Иоанна в главе 10 (1-18) обличает тех, кто не печется об овцах, кто равнодушен и не будет рисковать своей жизнью ради овец, которые ему «не свои».
Наемник не имеет личной связи, родства с овцами, не берет на себя ответственность, не отвечает за их судьбы.
Пастырь не может быть теплохладным. Истинный пастырь следует за Христом, за Тем, Кто сказал о Себе: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин 10:11). И жизнь его тоже постепенно становится жертвоприношением (это не всегда такая жертва, как у о. Александра – бывает ведь и бескровное мученичество).
У Александра Меня было абсолютное призвание к священству, по призыву Христа, услышанному Аликом в раннем отрочестве среди грозной реальности сталинской империи, о чем свидетельствуют его стихи – даже самые ранние, детские, а затем и отроческие, юношеские. А суть священства для него раскрывалась через Иисуса Христа, пожелавшего быть тем «страдающим рабом», о котором возвестил пророк Исаия. Христос говорит в Евангелии, что пришел «послужить», и Он Сам дает пример священнического служения и того, в чем, главным образом, должно быть предназначение священника. Христос в Сионской горнице перед Тайной Вечерей умывает ноги ученикам.
И пастырское служение не бывает истинным и плодотворным, если священник, подобно своему Учителю, не преклонит колен перед людьми в духе смирения и служения, если не умоет их ног. Священник принадлежит каждому человеку – потому что принадлежит Христу. Таким священником был Александр Мень. «Наша задача быть не жрецом, но – пастырем», – говорил о. Александр.
Существует немало книг-биографий А. Меня, последняя из которых вышла в знаменитой серии ЖЗЛ («Отец Александр Мень». Михаил Кунин.)
Но ни в одной из них читателю не предоставляется возможность пережить вместе с героем тепло и радость атмосферы дома в Семхозе, где вместе жили три поколения и где никогда не было конфликтов, ссор, выяснения отношений, потому что все любили друг друга и берегли мир. А также повесть дает нам почувствовать напряжение, страх от резкого вторжения в этот счастливый дом темной силы – КГБ приходит с обыском, в течение пяти часов переворачивая все вверх дном.
Автор дает нам узнать, увидеть, на фоне какой действительности формировалась уникальная личность этого человека с детства, отрочества: с одной стороны – гармоничный внутренний мир семьи Меней, а с другой – убогая коммуналка с ее бытовыми условиями и атмосферой страха и доносов; советская послевоенная школа с темными забитыми необразованными учителями. Ту реальность, среди которой прошли все зрелые годы жизни и служения Александра Меня, тоже можно воспринять достаточно конкретно. «Острые ощущения» читателю обеспечены описаниями допросов, разработками методов борьбы с «Миссионером» (так метко обозначили в органах А. Меня) в кабинетах 5-го управления, или обсуждения подготовки «устранения» ставшего слишком опасным для номенклатуры КГБ – Александра Меня. От сцены с генералом в отставке, который, помешивая ложкой чай, доказывает своему бывшему подчиненному, полковнику КГБ, почему сейчас тот должен «закрыть вопрос» с А. Менем, который своим возрастающим авторитетом мешает этим хозяевам жизни, привыкшим править страной и распоряжаться судьбами миллионов, продолжать «свое дело» с еще большей прибылью и цинизмом в новых условиях, – впечатление столь сильное, что пробирает дрожь…
В своей повести автор предлагает нам ознакомиться с одной из версий убийства отца Александра. Кто-то может принять ее, а кто-то нет. Это право читателя.
Но хочу напомнить, что Михаил долгое время, начиная с 1993 года, работал в органах государственной власти на очень высоких должностях и, безусловно, имел возможность получать информацию в правоохранительных органах в гораздо большем объеме, чем все мы видели в открытых источниках. Поэтому думаю, что эта версия – самая реалистичная.
В документальном повествовании, говоря об исторических событиях, рисуя почву той эпохи, в которой проходит жизнь героя, невозможно достичь такого эффекта проникновения в обстоятельства, такого воплощения всех оттенков взаимоотношений между действующими лицами, как это реально сделать средствами прозы в художественном произведении.
Михаил Мень пишет повесть и погружает нас вместе с героями туда, где разворачиваются события не только внешние, но и внутренние, – в мысли, переживания, настроения как положительных персонажей, так и отрицательных. Мы можем видеть, что происходит в каждом из них в процессе их противостояния.
В отце Александре, благодаря все большему упованию на Бога, укрепляется решимость успеть как можно больше написать, сказать, влить силу и энергию в нуждающихся, помочь страждущим, – будь то в приходе или в Детской клинической больнице, где страдают и умирают дети и сиротеют в горе их родители…
И как накапливается злость, переходящая в ярость в умном, на протяжении многих лет последовательно борющемся с отцом Александром майоре, а потом полковнике Селиверстове. От бессилия прекратить вредоносную деятельность своего противника, подловить его на чем-нибудь, нарушающем закон, поймать, так сказать, «с поличным»…
А ведь как старался майор-полковник: и по заданию от начальства, и по личному призванию души! И обыск в доме проводили, и на допросы вызывали, и в приход агентуру внедряли, и телефоны прихожан прослушивали, и беседы проводили, и через церковное начальство нажимать пытались, и клеветой, и ложью действовали – и публично через СМИ, и по церковным каналам распространяли всякого рода фальшивку. А он, этот «Миссионер», ошибок не совершает, не отвечает борьбой на все эти мероприятия, не срывается, нигде не жалуется, – он просто продолжает делать то, что делал, не боясь и не оглядываясь на Селиверстова и К°.
Что же с ним можно сделать?! Автор повести «Пастырь. Свет во тьме» – сын отца Александра. Многое из того, о чем он пишет, он знает изнутри, многое пережито им. Зная о записках с угрозами, он не представлял себе, что отца могут убить. Жизнь для Михаила Меня после 9 сентября 1990 года разделилась на «до» и «после»…
Быть сыном Александра Меня – не только дар, но и испытание.
Но в чем же все-таки «Свет во тьме»?.. А в том, что он – неуничтожим, в чем была одна из важнейших интуиций отца Александра. И повесть, как ни парадоксально это может показаться, подтверждает неуничтожимость Света.
В конце повести есть такой неожиданный поворот, такая интрига – не хуже какого-нибудь детектива! Но не будем предвосхищать события сюжета и раскрывать интригу, хочется, чтобы читатель сам увидел, каков смысл всех лет борьбы и кто в ней побеждает. И в чем она, эта победа…
Наталия Большакова-Минченко —
главный редактор литературно-богословского альманаха «ХРИСТИАНОС»
Pulsuz fraqment bitdi.