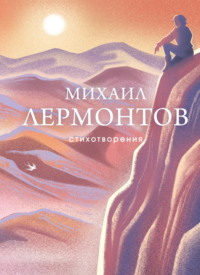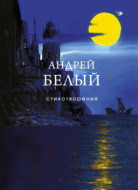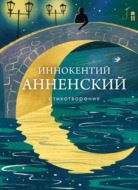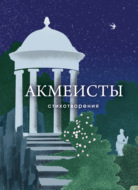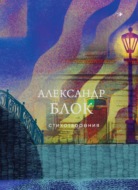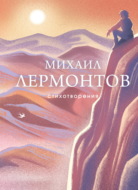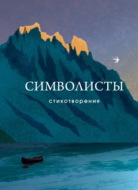Kitabı oxu: «Стихотворения»

© Шубинский В.И., предисловие, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Изгнанник

Михаил Юрьевич Лермонтов традиционно занимает в массовом сознании место «второго русского поэта» – по крайней мере, второго поэта XIX столетия. Собственно, литературное значение Некрасова, Фета, Баратынского, не говоря уж о Тютчеве, не ниже. Но, видимо, сама судьба Лермонтова столь волнующа, а та специфическая нота, которую он принес в поэзию, настолько заражает и захватывает (особенно в юности), что его образ зримо присутствует в сознании многих поколений, сопутствуя образу Пушкина, а иногда и соперничая с ним.
Жизнеописание романтического поэта тянет начать с древней легенды, и легенда под боком. Лермонтов вел свое происхождение от шотландского рода Лермонтов. Основатель рода участвовал в свержении Макбета, но самый знаменитый Лермонт – Томас по прозвищу Рифмач, легендарный бард XIII века, обладавший пророческим даром и, как говорят, бесследно исчезнувший – отправившийся в волшебную страну эльфов. Неизвестно доподлинно, был ли Томас Рифмач прямым предком Лермонтова, но считается, что был. Потомком Томаса Рифмача считал себя Джордж Гордон Байрон, по женской линии происходивший из Лермонтов. Михаил Лермонтов легенду о Томасе Рифмаче, вероятно, не знал, не догадывался и о своем родстве с Байроном – поэтом, который в юные годы был для него образцом и идеалом («Нет, я не Байрон – я другой, еще неведомый изгнанник…»).
Одного из Лермонтов, Георга, судьба военного наемника привела в начале XVII века в Московию. Он женился, перешел в православие, его потомки русифицировали фамилию. В 1812 году, накануне наполеоновского нашествия поручик Юрий Петрович Лермонтов (1787–1831) женился на семнадцатилетней Марии Михайловне Арсеньевой, барышне состоятельной, чувствительной, нервной и с отягощенной наследственностью (ее отец в зрелых летах покончил с собой из-за несчастной любви). В феврале 1817 года она умерла от туберкулеза (хотя, опять-таки, ходили слухи о самоубийстве). После этого Юрий Лермонтов передал сына на воспитание своей теще, Елизавете Алексеевне Арсеньевой, урожденной Столыпиной, женщине еще в цветущих летах, энергичной и властной. Сам он общался с сыном лишь периодически – например, ездил с ним в 1825 году на Кавказские минеральные воды; эта поездка оказала огромное влияние на личность и творчество Михаила Лермонтова.
Мальчик рос в имении Тарханы, на Средней Волге, под Пензой, рос болезненным и впечатлительным, много читал. Бабушка выписала ему личного врача из Франции, тратила большие деньги на обучение языкам (в отличие от Пушкина, Лермонтов с детства отлично владел не только французским, но и английским и немецким). В 1828 году бабушка привезла мальчика в Москву, и он поступил в Благородный пансион при Московском университете. Одновременно ему дава- ли домашние уроки словесности профессор и поэт А. Ф. Мерзляков и С. Е. Раич – знаменитый литературный наставник, среди учеников которого был и Тютчев. В 1830 году, не закончив курса пансиона, Лермонтов поступил собственно в университет, но два года спустя вынужден был оттуда уйти из-за конфликта с профессором П. В. Победоносцевым, отцом знаменитого обер-прокурора Синода. В Петербургском университете ему отказались зачесть два года обучения и предложили поступать на первый курс. Тогда Лермонтов круто меняет свою судьбу – поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалеристских юнкеров. В 1834 году он был выпущен в чине корнета и определен в Лейб-гвардии гусарский полк.
К моменту исключения из университета за плечами у Лермонтова было более 300 неопубликованных стихотворений. Посмертная репутация Лермонтова привела к некоторому завышению их достоинств. При всей талантливости юного автора и очень рано освоенной поэтической технике в этих юношеских стихах больше от эпохи, чем от лермонтовского гения. В стихах поэтов пушкинской плеяды, даже не самых крупных, дебютировавших в начале и середине 1820-х, были гармония и свежесть. Но приемы быстро автоматизировались, язык закостеневал, да и вкусы читателей менялись (в том числе по социологическим причинам). Чтобы оживить стих, многие даровитые поэты 1830-х годов (повлиявший на Лермонтова Александр Полежаев, Андрей Подолинский, моднейший в свое время Владимир Бенедиктов и множество стихотворцев поменьше рангом) утрировали свои чувства, злоупотребляли поверхностными красивостями. Сказались эти тенденции и в ранних, подражательных стихах Лермонтова. Идеал отверженной миром и презирающей его байронической личности носился в воздухе, ему хотелось соответствовать – и он стал объектом имитаций. К тому же Лермонтов был очень молод, а юности всегда свойственна самомелодраматизация. Потому неудивительно, скажем, что одно из обращений шестнадцатилетнего поэта к Н. Ф. И. (Наталья Федоровна Иванова – девушка, которой он был увлечен) заканчивается так:
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье!
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!
Другое дело, что судьба Лермонтова и пафос его зрелой поэзии наполняют и эти юношеские строки смыслом и дыханием. Но сами по себе они были общим местом.
Однако среди юношеских опытов Лермонтова есть несколько стихотворений, ставших классическими. Прежде всего это «Ангел». Как ни удивительно, Лермонтов не включил этот шедевр в свою единственную прижизненную книгу (хотя и опубликовал в 1839 году в «Одесском альманахе»; примерно такая же история с другим ранним стихотворением, куда менее совершенным, но не менее знаменитым – «Парус»). «Ангел» поражает и лаконизмом, и новым для русской поэзии, великолепно найденным ритмическим решением (четырехстопный амфибрахий с парными рифмами; Лермонтов пользуется им еще в нескольких ранних стихотворениях), но главное – очень характерной, очень лермонтовской лирической мыслью:
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Человек хранит в сознании «звуки» из какого-то иного бытия – и они порождают в нем «чудное желание», он ощущает себя изгнанником в мире. Ничего подобного нет у Пушкина: у него инобытие разлито в посюсторонней реальности и впитывается и постигается через нее. При этом (забегая вперед) эта устремленность к «иному» у Лермонтова не ведет к бесплотности, беспредметности. Нет, очень даже увлечен красками реального мира, он говорит о них с особой, напористой, завлекающей звучностью – Пушкин рядом с ним кажется сдержанным и строгим (если говорить о юношеских стихах, эта красочность и звучность впечатляют в «Русалке», которую Лермонтов в сборник включил); но среди этих контрастно-ярких красок и звуков Лермонтов тоскует и рвется прочь из мира – к загадочному источнику таинственной музыки.
Но вернемся к юношеским стихам. Есть еще одно удивительное стихотворение – «Молитва», написанное в 1829 году, в пятнадцать лет, в котором есть такие строки:
…Мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не тебе молюсь.
Читая их, не удивляешься тому, что к тому же году относятся первые наброски поэмы «Демон». Впрочем, не только ее. С 1828 года Лермонтов одну за другой пишет поэмы – «Черкесы», «Кавказский пленник» (ремейк пушкинской поэмы), «Корсар», «Преступник» и так далее – в общей сложности более дюжины. Действие части из них происходит на так впечатлившем юного Лермонтова Кавказе (как будто он предвидел ту роль, которую сыграет этот край в его биографии) – в том числе огромной поэмы «Измаил-Бей» (1832). Во всех присутствует мелодраматический сюжет – связанный обычно с любовным соперничеством и повторяющийся от поэмы к поэме. Война Российской империи с горцами (в которой Лермонтову предстояло принять участие) описана в нейтральных тонах – Лермонтова вдохновляет доблесть обеих сторон.
После поступления в юнкерское училище Лермонтов очень изменился. Из робкого, неуверенного в себе студента он стал отчаянным бретером, разудалым участником немудреных юнкерских забав. Изменяется и его творчество. На четыре года он перестает писать лирику, но продолжает работать над поэмами (одну из них, «Хаджи-Абрек», даже публикуют без имени и помимо воли автора), создает все новые редакции «Демона», пробует себя в прозе (незаконченная повесть «Вадим» из времен пугачевского бунта), наконец, пишет стихи и поэмы на темы юнкерской жизни – юмористические и обычно скабрезные.
Период службы в Лейб-гусарском полку более плодотворен. В это время создана «нравственная поэма» «Сашка», написанная как ответ на скандальную поэму Полежаева, ставшую началом его несчастий, но не в пример более глубокая и изощренная, но, увы, незаконченная; фрагментами ее Лермонтов воспользовался позднее в стихотворении «Памяти Одоевского». И, наконец, в 1835 году рождается «Маскарад» – странная драма, написанная, как «Горе от ума» Грибоедова, разностопным ямбом (даже прототипы некоторых персонажей у Грибоедова и Лермонтова общие). Но вместо сатиры у Лермонтова – сложная и трагически заканчивающаяся интрига, за которой стоит демоническая фигура Неизвестного. Мир профессиональных картежных игроков и светских любовных увлечений предстает загадочным и зловещим карнавалом. С «Маскарада» (если не считать «Ангела») начинается подлинно великий Лермонтов. Но пьеса не была одобрена театральной цензурой, в том числе ее более слабый, искалеченный вариант («Арбенин»).
Заметим, что «Маскарад» был не первым опытом Лермонтова в драматургии. В 1830–31 годы он написал объемистую драму в стихах «Испанцы» (про преследование евреев инквизицией) и две наивные психологические драмы в прозе, посвященные все тем же гиперболизированным юношеским переживаниям – «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек». Их никогда не ставят; были постановки пьесы «Два брата» (1836), сюжет которой (как и неоконченной повести «Княгиня Лиговская») можно воспринимать как пролог «Героя нашего времени» – впрочем, еще отдающий мелодрамой.
В 1836 году Лермонтов возвращается к лирике, начиная с вольных переложений Байрона («Умирающий гладиатор», «Еврейская мелодия»). Однако в начале следующего года его жизнь резко меняется. Под впечатлением от известий о гибели Пушкина Лермонтов пишет стихотворение «Смерть поэта», которое его приятель Святослав Раевский (не имевший никакого отношения к генералу Раевскому и его семье) распространял его в списках. Это очень знаменитое стихотворение (не лучшее у Лермонтова и не лучшее из написанных на смерть Пушкина) привлекает ныне прежде всего искренностью чувства и тем особым звучанием, которым Лермонтову удавалось оживить даже, казалось бы, безнадежно-риторические строки:
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он – с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Так или иначе, стихотворение, в котором в гибели Пушкина обвинялись «жадною толпой стоящие у трона» интриганы-нувориши, было сочтено дерзким. 20 февраля Лермонтов был арестован. Через пять дней он был по решению Николая I переведен тем же чином в Нижегородский драгунский полк – на Кавказ, а Раевский отправлен на службу в Петрозаводск. На Кавказе Лермонтов, благодаря хлопотам бабушки, провел лишь полгода, участия в боевых действиях так и не принял, но побывал в Дагестане, Грузии, Азербайджане, Чечне, в Кисловодске и Пятигорске – что дало ему огромный литературный материал. В октябре 1837 года он был определен в Гродненский гусарский полк, квартировавший под Новгородом, добрался туда к февралю 1838 года, а уже в апреле был возвращен в Лейб-гвардии гусарский полк и переехал в Петербург.
К моменту возвращения в столицу Лермонтов уже был сложившимся и известным поэтом. Напечатать в течение 1837 года ему удалось только «Бородино», которое школьники полтора столетия учат как звучное стихотворение о победной битве (на самом деле это стихи о бессмысленности победы). И «Бородино», и написанный во время пребывания под арестом за «Смерть поэта» «Узник» – переделки (принципиально меняющие и несравнимо улучшающие текст) ранних стихов. Но другие шедевры этого года – «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («Я, матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Спеша на север издалека…» (стихотворение, написанное по пути с Кавказа) уже не имеют прообраза в прошлом. Этим же годом датируется поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Ее сюжет, модернизирующий историю, тоже, видимо, косвенно связан с пушкинской дуэлью. Купец убивает опричника, оскорбившего и скомпрометировавшего его жену, в кулачном бою. В костюмы XVI века одеты современники Лермонтова, но исключительно тонко имитированный былинный стих и слог, мастерство рассказчика и интонация делают историю убедительной. В 1838 году Лермонтов публикует еще одну поэму – «Тамбовская казначейша», с бытовым и «анекдотическим» сюжетом. Она куда менее знаменита.
В 1838–1840 годы Лермонтов живет в Петербурге, служит в Лейб-гусарском полку и ведет довольно бурную светскую и литературную жизнь. Он много печатается и под конец выпускает сборник стихотворений. Он входит в загадочный «кружок шестнадцати», в котором велись как будто и политические разговоры. Почему-то он спокойно позволяет Варваре Лопухиной (женщине, которая была главной любовью его жизни) выйти замуж за другого человека; при этом он заводит светские интрижки, одна из которых (с княгиней Щербатовой) закончилась 18 февраля 1840 года дуэлью (сперва на шпагах, затем на пистолетах – с бескровным финалом) с бароном Эрнестом де Барантом, сыном французского посла. В результате 11 марта Лермонтов был арестован, а 13 апреля вновь сослан на Кавказ – в Тенгинский пехотный полк.