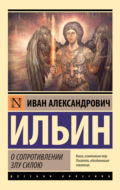Kitabı oxu: «Веселое приключение»
© М.М. Зощенко, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Сентиментальные повести
Предисловие к первому изданию
Эта книга, эти сентиментальные повести написаны в самый разгар нэпа и революции.
И читатель, конечно, вправе потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса – одним словом, полной и высокой идеологии.
Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге не много будет героического.
Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, во всей его неприглядной красе.
Пущай не ругают автора за выбор такой мелкой темы – такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано.
Один писатель широкими мазками набрасывает на огромные полотна всякие эпизоды, другой описывает революцию, третий военные ритурнели, четвертый занят любовными шашнями и проблемами. Автор же, в силу особых сердечных свойств и юмористических наклонностей, описывает человека – как он живет, чего делает и куда, для примеру, стремится.
Автор признает, что в наши бурные годы прямо даже совестно, прямо даже неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном незначительном человеке.
Но критики не должны на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь. Автор и не лезет со своей книгой в ряд остроумных произведений эпохи.
Быть может, поэтому автор и назвал свою книгу сентиментальной.
На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой.
Однако ничего не поделаешь. Придется записать так, как с этим обстояло в первые годы революции. Тем более, мы смеем думать, что эти люди, эта вышеуказанная прослойка пока что весьма сильно распространена на свете. В силу чего мы и предлагаем вашему высокому вниманию подобную малогероическую книгу.
А что в этом сочинении бодрости, может быть, кому-нибудь покажется маловато, то это неверно. Бодрость тут есть. Не через край, конечно, но есть. Последние же страницы книги прямо брызжут полным весельем и сердечной радостью.
Март 1927
И. В. Коленкоров
Предисловие ко второму изданию
Ввиду многочисленных запросов, сообщаем, что вышеуказанная подпись И. В. Коленкоров – есть подпись подлинного автора сентиментальных повестей.
Вот краткая биографическая справка о нем.
И. В. Коленкоров – родной брат Ек. Вас. Коленкоровой, тепло и любовно выведенной в повести «Люди» наряду с другими героинями. Он родился в 1882 году в городе Торжке (Тверской губ.), в мелкобуржуазной семье дамского портного. Получил домашнее образование. В молодые годы был пастухом. Потом играл в театре. И наконец мечта его жизни воплотилась в действительность – он стал писать стихи и рассказы.
В настоящее время И. В. Коленкоров, принадлежащий к правому крылу попутчиков, перестраивается и, вероятно, в скором времени займет одно из видных мест среди писателей натуральной школы.
Сентиментальные же повести написаны им под руководством писателя М. М. Зощенко, ведущего литературный кружок, в котором около пяти лет находился наш славный автор.
И в настоящее время, выпуская эту книгу, Иван Васильевич приносит т. Зощенко свою благодарность и желает ему дальнейшей удачи в многотрудной педагогической деятельности.
Май 1928
К. Ч.
Предисловие к третьему изданию
В силу постоянных запросов сообщаем, что роль писателя М. Зощенко в этом труде свелась главным образом к исправлению орфографических ошибок и выравнению идеологии. Основная же работа принадлежит вышеуказанному автору, И. В. Коленкорову. Так что по-настоящему на обложке книги надо было бы поставить фамилию Коленкорова. Однако И. В. Коленкоров, не желая прослыть состоятельным человеком, отказался от этой чести в пользу М. Зощенко. Гонорар же Иван Васильевич получил полностью.
Сообщая об этом, пользуемся случаем сказать, что некоторые сентиментальные нотки, нытье и кое-какое идеологическое шатание в ту и другую сторону следует отнести не к руководителю литкружка, а отчасти к автору, И. В. Коленкорову, отчасти же к тем литературным персонажам, которые выведены в этих повестях.
Тут перед вашими глазами пройдет целая галерея уходящих типов.
И новому, современному читателю необходимо их знать, чтоб увидеть уходящую жизнь во всех ее проявлениях.
Июль 1928
С. Л.
Предисловие к четвертому изданию
В силу прошлых недоразумений писатель уведомляет критику, что лицо, от которого ведутся эти повести, есть, так сказать, воображаемое лицо. Это есть тот средний интеллигентский тип, которому случилось жить на переломе двух эпох.
Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия – вот чем пришлось наделить нам своего «выдвиженца» И. В. Коленкорова. Сам же автор – писатель М. М. Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей, – давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность и розы распускаются. А если в другой раз эти розы вянут и нету настоящего сердечного спокойствия, то совершенно по другим причинам, о которых автор расскажет как-нибудь после.
В данном же случае это есть литературный прием.
И автор умоляет почтеннейшую критику вспомнить об этом замысловатом обстоятельстве, прежде чем замахнуться на беззащитного писателя.
Апрель 1929
Ленинград Мих. Зощенко
Коза
1
Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер Иван Нажмудинович от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил:
– Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово, под сокращение не попасть… Ну куда ты торопишься?
Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.
Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок не маленький. Ведь если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет?
В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил: «Четыре», четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так – любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.
А что до встреч, то бывает, конечно, всякое… Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная личность сапоги гуталином чистит, – дама вдруг… Черное платье, вуалька, глаза… И подбежит эта дама к Забежкину… «Ох, скажет, молодой человек, спасите меня, если можете… Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают…» И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо… А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.
Или еще того проще – старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще головокружение. Забежкин к нему… «Ах, ах, где вы живете?» Извозчик… Под ручку… А старичок, комар ему в нос, – американский подданный… «Вот, скажет, вам, Забежкин, триллион рублей…»
Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек может подойти к Забежкину? Какой это человек может иметь что-либо вообще с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загогулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло – природа, а вот прически, верно, никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.
И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку – из союза молодежи – сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклейки или даже колюшки крошечной.
Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?
2
Но однажды приключилось событие.
Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.
Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал – не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.
Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена, и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?
Виски заломило еще пуще.
И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмудиновича домой пораньше уйти.
– Иди, Забежкин, – сказал Иван Нажмудинович, и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился. – Иди, Забежкин, но помни – нынче сокращение штатов…
Взял Забежкин фуражку и вышел.
И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:
– Извиняюсь.
– Господи! – сказал Забежкин. – Да что вы? Да пожалуйста…
Но прохожий был далеко.
«Что это? – подумал Забежкин. – Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит… Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же моль, мошкара, мошка крылами задела… И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый… Извиняюсь, говорит. Ах ты штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него…»
– Ах! – громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.
И шел Забежкин долго за ним – весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли – шляпки с перьями – заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий.
А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал.
«Ого, – вдруг подумал Забежкин, – куда же это такое я зашел? Каменноостровский… Карповка… Сверну», – подумал Забежкин. И свернул по Карповке.
И вот – трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!
«Присяду», – подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.
И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление:
«Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться».
Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилось слишком, и Забежкин снова сел на лавку.
«Что ж это, – подумал Забежкин, – странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются… Это мужчина требуется, хозяин. Господи, твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!»
Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.
– Коза! – сказал Забежкин. – Ей-богу, правда, коза стоит… Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина… Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза, – женюсь. Баста. Десять лет ждал – и вот… Судьба… Ведь ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается – значит, квартира есть. А квартира – хозяйство, значит, полная чаша… Поддержка… Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой… Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама солидная, порядок обожает, порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно, и все только и спрашивает: «Не хочешь ли, Петечка, покушать?» Ах ты штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше – жрет меньше.
Забежкин открыл калитку.
– Коза! – сказал он задыхаясь. – У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже… Пускай Иван Нажмудинович завтра скажет: «Вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов…» Хе-хе, ей-богу, смешно… Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду… Пожалуйста. Коза есть. Коза, черт меня раздери совсем! Ах ты вредная штука! Ах ты смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил – не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нос, здесь его величество мужчина требуется…
Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.
3
У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.
«Жаль, – с грустью подумал Забежкин, – старая коза, дай бог ей здоровья».
Во дворе мальчишки в чижика играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.
Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямо-таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.
«Вот дура-то», – подумал Забежкин.
Девка изнемогала.
– Эй, тетушка, – сказал Забежкин громко, – где же это тут комната внаймы сдается?
Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.
– Товарищ, – спросила голова, – вам не ученого ли агронома Пампушкина нужно будет?
– Нет, – ответил Забежкин, снимая фуражку, – не имею чести… Я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.
– А если ученого агронома Пампушкина, – продолжала голова, – так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.
Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.
– «Несколько слов в защиту огородных вредителей»…
– Чего-с? – спросил Забежкин.
– А это кто спрашивает? – сказал агроном, сам подходя к окну. – Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: «Несколько слов в защиту огородных вредителей»… Да вы поднимитесь наверх.
– Нет, – сказал Забежкин, пугаясь, – я комнату, которая внаймы…
– Комнату? – спросил агроном с явной грустью. – Ну, так вы после комнаты… Да вы не стесняйтесь… Третий номер, ученый агроном Пампушкин… Каждая собака знает…
Забежкин кивнул головой и подошел к девке.
– Тетушка, – спросил Забежкин, – это чья же, например, коза будет?
– Коза-то? – спросила девка. – Коза эта из четвертого номера.
– Из четвертого? – охнул Забежкин. – Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?
– Там, – сказала девка. – Только сдана комната.
– Как же так? – испугался Забежкин. – Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так – сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты…
– А не знаю, – ответила девка, – может, и не сдана.
– Ну, то-то – не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот про кур лучше скажи – чьи куры ходят?
– Куры-то? Куры Домны Павловны.
– Это какая же Домна Павловна? Не комнату ли она сдает?
– Сдана комната! – с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи.
– Врешь. Ей-богу, врешь. Объявление есть. Ежели бы объявления не было, тогда иное дело – я бы не сопротивлялся. А тут – объявление. Колом не вышибешь… Заладила сорока Якова: «Сдана, сдана…» Дура такая. Ты лучше скажи: индейский петух, наверное, уже не ее?
– Ее.
– Ай-я-яй! – удивился Забежкин. – Так ведь она же богатая дама?
Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла.
Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.
«Вот, – подумал Забежкин, – ежели сейчас лизнет в руку – счастье: моя коза».
Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.
– Ну, ну, дура! – сказал, задыхаясь, Забежкин. – Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то… Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь… Ну, ну, после дам…
Забежкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.
– Вам чего? – спросил кто-то, открывая дверь.
– Комната…
– Сдана комната! – сказал кто-то басом, пытаясь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.
– Позвольте, – сказал Забежкин пугаясь, – как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ… Как же так? Я время потратил… Проезд… Объявление ведь…
– Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?
Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой и что дама – размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.
– Сударыня, уважаемая мадам, – сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая, – мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуренушку…
– А вы из каких будете? – спросила изрядным басом Домна Павловна.
– Служащий…
– Ну что ж, – сказала Домна Павловна, вздыхая, – пущай тогда. Есть у меня еще одна комнатушка. Не обижайтесь только – подле кухни…
Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забежкина в комнаты.
– Вот, – сказала она, – смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.
– Прекрасная комната! – воскликнул Забежкин. – Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни… Разрешите – я и перееду завтра…
– Ну что ж, – сказала Домна Павловна. – Пущай тогда. Переезжайте.
Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз с грустью прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.
«Да-с, – подумал Забежкин, – с трудом, с трудом счастье дается… Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут… Да еще телеграфист… Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!»
4
Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: «Ага!» И ученый агроном Пампушкин, оставив ученую статью «Несколько слов в защиту вредителей», подошел к окну.
И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.
Забежкин развязывал свое добро.
– Подушки! – сказали зрители.
И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.
– Сапоги! – вскричали все в один голос.
Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «Ого!» И Домна Павловна милостиво потерла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.
– Книги… – конфузясь, сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.
– Книги?
И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.
– Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком, – сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги. – Это что же, – продолжал он, – это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?
– Нет, – сказал Забежкин, сияя, – это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, движимость. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать… а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск да бессмысленная игра огней…
– М-м, – сказал агроном с явным сожалением, – то-то я и смотрю – что такое? – будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?
– Цвет! – сказал Забежкин в восторге. – Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет – раз, два и обчелся…
– Катюшечка! – крикнул агроном голове с флюсом. – Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали.
Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то очень древнего вида старушка, думая, что раздают сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.
– Вот! – закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной. – Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!
Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их наземь – они падали, как поленья.
– Необыкновенные сапоги! – орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. – Умоляю вас, взгляните! Нате! Бросайте их на землю, бросайте – я отвечаю!
Забежкин сказал:
– Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать…
– Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! – горько усмехнулся агроном, наседая на Забежкина.
– На камни, безусловно, выдержат, – с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед, – а что касается… Под тележку если, например, и тележку накатить враз – нипочем не выдержат.
– Катите! – захрюкал агроном, бросая сапоги. – Катите, на мою голову!
Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули.
– Лопнули! – закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.
– Извиняюсь, – сказал агроном Забежкину, – это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком… Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!
– Пускай он отвечает, – сказала сожительница агроному. – Он тележку катил, он и отвечает. Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить – сапог не напасешься.
– Да, да, – сказал агроном Забежкину, – извольте теперь отвечать полностью.
– Хорошо, – ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом, – возьмите мою пару.
Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привизгиваньем, будто его щекотали под мышками.
«Красавец! – с грустью думал Забежкин. – И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может…»
Так переехал Забежкин.
5
На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.
Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне, и не для Забежкина Домна Павловна надела чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.
Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.
«Смеется, – думал Забежкин, слушая, – и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется… Значит, ей, дуре, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно».
Целый день Забежкин провел в тоске. Наутро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к чертовой матери, работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор. Кур проверить. Узнать – мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто – вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно… Хозяйство…
«А хоть и хозяйство, – мучился Забежкин, – да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого что телеграфист мешает».
Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.
– Вот, Машка, – сказал Забежкин козе, – кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает… Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать – любовь корни пустит.
Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.
– А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала… И как убрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?
Коза тупо смотрела на Забежкина.
– Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист – главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофей бы пил… Ну, пойду…
И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.
В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигал стулом.
«Сапоги чистит», – подумал Забежкин и постучал.
Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.
– Пардон, – сказал телеграфист, – я ухожу, извиняюсь, скоро.
– А ничего, – сказал Забежкин, – я на секундочку… Я, как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.
– Ага, – сказал телеграфист, – ладно. Пожалуйста.
– И как сосед, – продолжал Забежкин, – считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнесть – сапожки.
– Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? – спросил телеграфист, любуясь сапогами. – Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед… Я не могу так, знаете ли.
– Ей-богу, возьмите…
– Разве что по кавказскому обычаю, – сказал телеграфист, примеряя сапоги. – А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?.. Горы, наверное? Эльбрус, черт его знает какой? Нравы… Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят… Чересчур отдаленная страна…
– Нет, – сказал Забежкин, – это не я. Это Иван Нажмудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был…
Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:
– Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опущусь…
И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.
– Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.
Телеграфист, думая, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.
– Ну, так! – сказал Забежкин, падая и вставая снова. – Так, спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут… Дрожу и решенья жду – съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.
– Как же так? – спросил телеграфист, закрывая рот. – Странные ваши шутки.
– Шутки! Драгоценное слово – шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне – настоящая жизнь. Вот весь перед вами заголился… Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте… Остатний раз прошу. Плохо будет.
– Чего? – спросил телеграфист. – Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет… А если приспичило вам… да нет, странные шутки… Не могу-с.
– Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу…
– Не могу-с… Да и за что же мне с квартиры съезжать… Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите… Расход ведь в переездах, и вообще вы попросите. Я люблю, когда меня просят.
Забежкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся.
– Вот! – сказал он, задыхаясь. – Вот еще сапожки и шнурки вот запасные.
Телеграфист примерил сапоги и сказал:
– Жмут. Ну ладно. Дайте срок – съеду. Только странные ваши шутки…
Забежкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна.
6
Забежкин на службу не пошел.
С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячки.
– Готово, Машка. Шабаш. Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся, ну да ничего – свалил. Сапоги ему, Машка, отдал… Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза – нюхайте… Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка… Ну, ну, нету больше. Хватит.
Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел. Домна Павловна пришла к нему раньше.
Она сказала:
– Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?
– Подарил я, Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.
– Это Иван Кириллыч-то хороший человек? – спросила Домна Павловна. – Неделю, подлец, не живет и до свиданья. С квартиры съезжает… Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю?!
– А я, Домна Павловна, думал…
– Чего ты думал? Чего ты, раззява, думал?
– Я думал, Домна Павловна, он и вам нравится. Вы завсегда с ним хохочете…
– Это он-то мне нравится? – Домна Павловна всплеснула руками. – Да он цельные дни бильярды гоняет, а после с девчонками… Чего я в нем не видала? Да он и внимания-то своего на меня не обратит… Ну и врать же ты… Да он, прохвост ты человек, при наружности своей любую тонконогую возьмет, а не меня. Ну и дурак же ты.
– Домна Павловна, – сказал Забежкин, – про тонконогую это до чего верно вы сказали – слов нет. Это такой человек, Домна Павловна… Он заврался давеча: люблю, говорит, тонконогих, а на полненькую и внимания не обращу. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.
– Ну? – спросила Домна Павловна.
– Ей-богу, Домна Павловна… Он тонкую возьмет, ей-богу, правда – уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращу свое внимание. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.
– Ври еще!
– Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня – это очень превосходная дама… И для многих тоже… Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил – тоже заинтересовался. Это, спрашивает, кто же такая гранд-дама интереснейшая?
– Ну? – спросила Домна Павловна. – Так и сказал?
– Так и сказал, дай бог ему здоровья. Это, говорит, не актриса ли Люком?
Домна Павловна села рядом с Забежкиным.
– Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли – рыжеватый будто и угри на носу?
– Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай Бог ему здоровья!
– А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел. Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать… Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?
– Нет, – сказал Забежкин, задыхаясь, – нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею даже, как посмотрю… Вообще, многоуважаемые глаза…