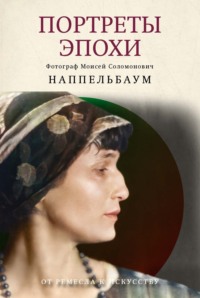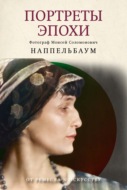Kitabı oxu: «Портреты эпохи»
Идея проекта Юрий И. Крылов
Составитель текста Владимир Лидский
© Таран Е. Г., текст, 2024
© «Российский государственный архив литературы и искусства», фотографии, 2024
© «Российский государственный архив кинофотофонодокументов», фотографии, 2025
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ Классик», 2025
* * *
«Неизъяснимыми чарами всегда
манило меня лицо человека».
М. Наппельбаум




Фотограф Моисей Наппельбаум по праву считается одним из выдающихся летописцев первой половины ХХ века. Его имя стоит в одном ряду с именами таких фотографов-художников, как С. Левицкий, А. Деньер, Н. Свищов-Паола, К. Булла, Н. Грановский, М. Дмитриев и многих других. Однако при всех уникальных качествах этих специалистов Наппельбаум является, очевидно, первым среди равных. Каждый из фотографов середины-конца ХIХ и начала ХХ века имел некую, если можно так выразиться, преимущественную специализацию: Сергей Левицкий и Андрей Деньер, к примеру, были придворными фотографами, снимавшими царственных особ, Николай Свищов-Паола увлекался снимками в жанре ню, Карл Булла считается основоположником российского репортажа, Наум Грановский запечатлевал Москву и её улицы, был военным корреспондентом, Сергей Михайлович Прокудин-Горский делал цветные снимки России от края до края, а Максим Дмитриев занимался социальной публицистикой, став вообще первооткрывателем подобной тематики в фотоискусстве.
Разумеется, каждый из перечисленных мастеров и многие другие отдали дань портретной фотографии, но выдающихся результатов в этом жанре добился, кажется, только Наппельбаум. Кроме небывалых художественных достоинств его портреты имеют и количественный перевес. В общей сложности творческое наследие мастера составляет около 4000 фотографий, и это без учёта его дореволюционных снимков, запечатлевших огромное количество минских, московских, санкт-петербургских обывателей самых разных сословий, а также обывателей совсем маленьких провинциальных городков. В этом смысле с ним могли бы соперничать только Максим Петрович Дмитриев и пионер русской цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский, в коллекциях которых портретов было, впрочем, как раз немного.
За четыре года до смерти, в 1954-м, понимая, что позаботиться о судьбе своего собрания необходимо заранее, Наппельбаум обратился в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР с предложением выкупить у него фотографическую коллекцию, пополнявшуюся в течение всей его творческой жизни. На приобретение её начальник ЦГА КФФД СССР майор Плешаков, инициировавший процесс, просил у начальства выделения ассигнований в размере 4000–5000 рублей. Учитывая, что в 1953–1954 годах среднемесячная зарплата в СССР составляла 684 рубля, можно понять: обогатиться на эти деньги было никак нельзя. Наппельбаумом руководила, очевидно, мысль о хрупкости жизни, недолгой человеческой памяти и возможной утрате наследия после его кончины. Мастеру в то время было уже 85, и потому нам понятны его беспокойство и забота. Профессиональная архивная экспертиза и приём негативов на постоянное хранение заняли довольно много времени, и первый этап передачи фотодокументов (950 единиц) состоялся только в 1962 году, уже после смерти мастера. Спустя 42 года, в 2004-м, были приняты ещё 323 негатива. А в 2009–2010 годах архив взял на хранение дополнительно 638 фотодокументов.
Большое количество позитивов, писем и кое-какие свидетельства мемуарного и официально-информационного характера, так или иначе имеющие отношение к Наппельбауму, хранятся также в Российском государственном архиве литературы и искусства, другая часть материалов – в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.
При всём богатстве творческого наследия мастера, при всей его широкой известности серьёзных материалов о нём немного. Если не принимать во внимание большое количество блогерских и журналистских заметок необязательного характера, то можно выделить в этом смысле альбом «М. Наппельбаум. Избранные фотографии». Кроме того, участие мастера отмечено в сборнике Stalin on Lenin и в «Антологии советской фотографии, 1917–1940». Хорошим подспорьем для будущих исследователей творчества фотографа могут послужить мемуарно-биографические книги «От ремесла к искусству» и «Угол отражения». На обложке первой книги стоит имя самого Наппельбаума, вторая написана дочерью мастера Идой.
Главная же и, кажется, самая серьёзная работа, посвящённая выдающемуся фотомастеру, вышла в Беларуси, в издательстве «Рифтур», в 2018 году. Её автор Александр Величко с большой ответственностью подошёл к теме своего исследования, использовав в работе материалы архивов и систематизировав многие уникальные документы. Автор изучил и уточнил хронологию странствий Наппельбаума, рассказал обо всех его должностях и местах работы, поведал о семье, сотрудниках, ближайшем окружении и даже составил впечатляющую родословную маэстро. Правда, книга не имела массового тиража, но тем не менее была введена в научный оборот.
Необходимо сказать также об одной неопубликованной рукописи, которая даёт замечательное представление не только о жизненном и творческом пути Наппельбаума, но и о его личности, характере, бытовом поведении и о многом другом. О том, в частности, о чём не пишут в официальных парадных биографиях. Это мемуарное повествование младшей дочери Наппельбаума Рахили, или, как её звали в семье, Лили.
Машинопись книги мне посчастливилось найти в Российском государственном архиве литературы и искусства. Благодаря тексту Лили Наппельбаум образ её отца проявился во всём своём многообразии и противоречивости. Многие затемнённые фрагменты его биографии и неясные места жизни удалось прояснить именно с помощью этой неординарной во всех отношениях работы [1].
О мемуарах Лили Наппельбаум следует рассказать подробнее. Я не случайно указал выше, что на обложке книги «От ремесла к искусству» стоит имя М. С. Наппельбаума. Дело в том, что в разных источниках утверждается, что «обработала и подготовила к изданию мемуары отца Ольга Моисеевна Грудцова» (в девичестве Наппельбаум), а написал книгу сам Моисей Соломонович. В действительности это не так. Написала книгу Лиля Наппельбаум. И её мемуары непреложно и однозначно свидетельствуют об этом. Конечно, отец рассказывал. Но именно писала, предлагая все решения по композиции и компоновке материалов, Лиля. Книга далась ей с огромным трудом. В итоге «как мало она походила на то, что желал увидеть мой отец, – писала дочь. – И ничего нельзя исправить, отец умер, а черновики мы уничтожили» [2].
Времени для этой работы у Лили совсем не оставалось, она была полностью поглощена заботой об отце – готовила, стирала, наводила порядок в доме. Время появилось только в эвакуации, в Тбилиси. Жили они в маленькой комнатушке на третьем этаже, где не было ни отопления, ни электричества, ни водопровода, имелись лишь печурка и керосиновая лампа. Здесь и началась эта работа, ставшая для Лили настоящим испытанием. Отец постоянно придирался к ней, требовал невозможных конструкций, встречал в штыки все её предложения.
О странностях этой книги я расскажу позже, а пока вернёмся к жизненному пути маэстро.
Масштабных выставок было у него при жизни четыре: в 1918 году в Петрограде и в 1935, 1946, 1955-м – в Москве.
Спустя годы было проведено несколько посмертных выставок. В 1969 и 1970 годах – в Москве в Доме журналистов и в Доме литераторов и в Ленинграде, также в Доме журналистов и в Выборгском Дворце культуры. В 1973-м выставка состоялась в фотоклубе при московском Дворце культуры «Новатор» [3].
В 1988 году Лев Наппельбаум, сын маэстро, подарил Советскому фонду культуры более сотни снимков отца, которые составили основу передвижной выставки, побывавшей в самых разных уголках страны. В 2014 году в Еврейском музее и центре толерантности открылась небольшая выставка работ Наппельбаума, представившая около сотни работ мастера из коллекции галериста Алекса Лахмана.
В 2019-м в связи с празднованием 150-летия со дня рождения мастера в Национальном историческом музее Республики Беларусь открылась выставка «Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи». На этой выставке были показаны не только оригиналы его портретов, но и документы, отражающие этапы жизни и творчества, рабочая фотокамера мастера, а главное, почти неизвестные снимки раннего периода, сохранившиеся в фондах Национального исторического музея и Национального исторического архива Беларуси. Немного позже эта выставка демонстрировалась также в Санкт-Петербурге.
А спустя много лет после последней прижизненной выставки, в апреле 2021 года, Музей современной истории России представил на суд зрителей новую – ёмкую, но всё же недостаточно масштабную (если иметь в виду общее количество работ) выставку под названием «Известный и неизвестный Наппельбаум».
На ней демонстрировалось 230 фотографий маэстро, и главная ценность экспозиции была в том, что они были взяты из семейного архива семьи Наппельбаума.
Учитывая соотношение масштаба мастера, его места в истории отечественной фотографии, роли в развитии российского фотоискусства с объёмом исследовательского материала о нём, следует признать, что широкий зритель и читатель знает о нём совсем немного. То есть массового знания о нём как о большом художнике нет. В этом утверждении кроется оксюморон, парадокс. Дело в том, что фотографии Наппельбаума знакомы нам с детства, во всяком случае тем, кто учился в советской школе, был пионером, комсомольцем и изучал историю СССР по учебникам того времени. Фотографии мастера поджидали людей советской эпохи везде (так и хочется написать: подстерегали). Эти снимки, изображающие руководителей государства, вождей, народных комиссаров, а позже – министров, военачальников, поэтов, писателей, музыкантов, художников, актёров, причём не только знаменитых, но и быстро набиравших популярность в современном Наппельбауму обществе, публиковали в учебниках, газетах, журналах, на разных общественных площадках, эти портреты висели в кабинетах, приёмных, в школах, институтах, в самых разных присутственных местах. Они были везде. Особенно это касается вождей и главных руководителей госведомств.
Вглядываясь в ординарную и одновременно необычайную жизнь Моисея Наппельбаума, трудно сразу понять, как скромный еврейский мальчик из Минска стал одним из крупнейших мастеров своего дела, как он достиг небывалых творческих высот и как, между прочим, избежал по большому счёту серьёзных репрессий в трудные исторические времена. Для того чтобы разобраться в этой непростой коллизии, нужно взглянуть на большую жизнь мастера не со стороны Кремля или Смольного, которые его привечали, а со стороны провинциального Минска, в котором он родился, и вообще – со стороны судьбы. Потому что великим он стал не благодаря близости к вождям и прочим сильным мира сего, а потому что фатум повёл его именно той дорогой, которая только ему и была назначена. Он мог остаться одним из заурядных провинциальных фотографов, но у него была природная хватка, любознательность, неутомимая жажда знаний, в конце концов, у него было природное чутьё и врождённое чувство прекрасного, а лучше сказать, соразмерности всего сущего. Если попытаться взглянуть на его жизнь сверху, поднявшись в заоблачные дали, то можно увидеть простого человека (маленького, как аттестовали бы его русские классики девятнадцатого века), который монотонно и буднично делал своё дело, не имея в мыслях какого-то стремительного движения наверх, к высотам процветания и богатства. Он просто зарабатывал себе на хлеб. Но это «просто зарабатывал себе на хлеб» подкреплялось у него стремлением, говоря высокопарным слогом, к совершенству, то есть с самого начала, даже с того времени, когда он был практически мальчиком на побегушках, находясь на неквалифицированной наёмной работе, он искал новые пути, пытался уйти от ремесленной рутины, постоянно придумывал что-то новое, пробовал, экспериментировал. И жадно учился. Поняв, что фотография тесно связана с изобразительным искусством, он посещал музеи и художественные галереи. Интуитивно, возможно, даже на уровне подсознания постигая законы живописи и графики, изу чая композиционные приёмы великих художников, их работу с краской, со светом и освещением, будущий мастер приобретал бесценный опыт, который впоследствии лёг в его повседневную практику. А потом в дело вступил тот самый фатум, и судьба сама повела его по жизни.
Наппельбаум случайно стал летописцем эпохи; самое интересное в его судьбе вот что: он не стремился на самую вершину. Да, он хотел стать настоящим маэстро, но не думал, что по его снимкам потомки будут изучать историю. Ведь как ни крути, в его фотографиях полноценно отразилась целая эпоха. Потому что эпоха не только в исторических деяниях, но и в лицах. За каждым лицом, отображённым на фотобумаге Наппельбаумом, стоит жизнь и работа конкретного человека, его благодеяния и злодейства, достижения и просчёты, победы и поражения.
Наппельбаума иногда называют певцом Серебряного века, но, мне кажется, это не так. Или не совсем так. Да, его фотокамера запечатлела множество исторических лиц, являвшихся главными персонажами этого века, который продолжался, кстати, всего-навсего лет тридцать-сорок, а может, и того меньше. Однако понятие Серебряный век относится прежде всего к литературе и более всего к поэзии. Наппельбаум снимал не только поэтов и литераторов вообще, он снимал лучших представителей всех сфер искусства в самом широком смысле слова, а кроме того, общественных деятелей, учёных, да просто широко известных и почитаемых в Советском Союзе (а до революции – в Российской империи) людей.
К слову, есть у него и снимки вообще незнакомых современному человеку персонажей, по той или иной причине не оставивших следа в истории или известных лишь совсем узкому кругу специалистов. Среди творческого наследия Наппельбаума сохранилось также множество неатрибутированных фотографий, которые подписываются обычно неизвестный или неизвестные. Вдобавок у него есть фотографии, изображающие и в самом деле неизвестных, то есть людей, не являющихся историческими фигурами, среди которых можно увидеть непонятно чьих детей, неведомых актёров, таинственных священнослужителей.
Потому-то и стали фотографии Наппельбаума историческим чернозёмом, тем гумусом, который впитал в себя органику времени. И это было судьбой мастера. Но сказать, что он ставил перед собой цель создания подобного чернозёмного пласта, было бы неверно.
Ведь в профессии он развивался вполне традиционно – был учеником фотографа, копировщиком и ретушёром, со временем начал работать самостоятельно, много странствовал, набирался опыта. Настоящим маэстро он стал уже в весьма зрелом возрасте, за сорок. И этот перелом произошёл тоже в достаточной степени случайно, хотя что может быть закономернее случайности? Хочется употребить в этом месте ещё один оксюморон: постепенный перелом. Потому что перелом – это перелом, то есть некое мгновенное действие. Но постепенный перелом… звучит по меньшей мере необычно. Однако в случае с Наппельбаумом так именно и вышло. Рядовой ремесленник, мечтавший постичь модное и достаточно прогрессивное дело, сталкиваясь с рядом трудностей, упорно и уверенно учился, пробуя всё новое, что только встречалось ему на пути к профессии. С самого начала молодого мастера раздражали шаблонные приёмы менее искушённых коллег – студийная бутафория, статичные позы снимаемых, примитивная сюжетика, слащавость и пошлость. Протестовал он против всего этого собственной работой, выстраивая её так, как диктовала жизнь. А жизнь диктовала простоту, естественность, документальность, но при этом – образность и обобщение. И со временем он стал очень хорошим фотографом – понимающие толк клиенты стремились попасть на съёмку именно в его студию. Но то было только начало пути, несмотря на уже достаточно солидные годы мастера. Всё это относится к тому отрезку его жизни, который отмечен словом постепенность. А в начале 1910-х годов появилось в его судьбе нечто, характеризуемое словом перелом.
Именно тогда Наппельбаум переехал в Петербург. Многое не устраивало его в творчестве, и он искал новые возможности и точки приложения своих сил. Сам мастер рассказывал в мемуарной книге, что в это время он чувствовал себя в тупике. Ситуацию изменила новая работа. Он стал сотрудничать с печатными изданиями и, в частности, с иллюстрированным журналом «Солнце России». Вот это как раз и был тот самый перелом, благодаря которому он навсегда вошёл в историю фотографии. Журнал поручал ему снимать известных деятелей культуры, и это стало шагом на самый верх и неожиданным подарком судьбы. Благодаря портретам, которые Наппельбаум делал для различных изданий, он стал широко известен и популярен.


А вскоре подоспела и Великая Октябрьская социалистическая революция. Кому в новых условиях, при новом укладе и в новых исторических обстоятельствах поручить чрезвычайно важные съёмки вождей и государственных деятелей? Когда этот вопрос возник в высших властных структурах, ответственные за дело были единодушны. Конечно, Наппельбауму. И в 1918 году он впервые снимал Ленина. А потом и многих других государственных и военных деятелей.

Портрет архиерея в храме. 1910 год

Портрет священника. 1945 год
Разговор об этом – в свой час, а пока – несколько слов о личном отношении к мастеру, ибо именно личное отношение сообщает интимную, доверительную интонацию тексту, даже если это попытка исследования. Ведь каким бы сухим ни был язык архивных документов, автору всегда хочется очеловечить забронзовевший образ, найти в памятнике тёплые черты.
Для меня книга о Моисее Соломоновиче Наппельбауме – третья фотографическая книга. Первая называлась «Байки о кино» и являлась сборником объёмных текстов, как бы иллюстрирующих замечательные архивные снимки фотохудожника Александра Фёдорова. Здесь, правда, непросто понять, кто кого иллюстрировал – то ли автор фотографа, то ли фотограф автора, но книга получилась живой, органичной и совсем не научной. Это скорее бойкая беллетристика, которая легко читается и хорошо запоминается, что и обеспечило книге читательский успех. Вторая книга называлась «Из Европы в Азию. Фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский» и была посвящена известнейшему мастеру, пионеру цветной фотографии в России. Эта книга была более серьёзной, ведь для её создания пришлось привлечь большое количество архивных материалов, основательно изучить гигантское творческое наследие мастера, осмыслить его жизненный и художнический путь.
И вот теперь – Наппельбаум. Со школьных лет видел я его фотографии, любил рассматривать их, но, конечно, никакого интереса к фамилии автора, стоявшей под портретами, не испытывал. Фотографии привлекали меня своей таинственностью, волшебным свойством притяжения и явного присутствия, потому что, глядя на них, я понимал: эти люди живы (хотя и умерли), ведь не могут же свет и тепло струиться с фотографических картин просто так. Я не отдавал себе в этом отчёта, не анализировал, не пытался в силу скудости подросткового ума просчитать сумму составляющих каждой работы мастера, а просто смотрел на них и не мог оторваться. Возникала иллюзия диалогов с героями снимков, и казалось, что давно ушедшие люди – твои современники, такие же реальные, как прохожие на улице. Позже и особенно тогда, когда в нашу повседневную жизнь вошёл интернет, появилась возможность читать о мастере, ближе знакомиться с его работой. Информации было немного, но и она заставляла размышлять и учиться. Учиться потому, что я и сам увлекался фотографией. И действительно, у Наппельбаума было что взять. Его книга «От ремесла к искусству», обобщившая опыт мастера, накопленный в течение десятилетий, очень помогала в практическом освоении дела. А новые времена дали и новые возможности. Открылись интересные документы в архивах, обнаружились родственники и потомки мастера, появились свежие исследовательские материалы.
Жизнь одного из самых знаковых персонажей в истории отечественной фотографии была полна скитаний, поисков, находок, откровений и безостановочной, никогда не прекращавшейся учёбы.
Родился будущий мастер в Минске в 1869 году. В историко-биографической литературе о Наппельбауме почему-то закрепилось мнение о том, что рос он в бедной семье.
Скорее всего, это не так. Сохранившиеся документы свидетельствуют об обратном. Отец его был кассиром коробочного сбора. Что такое коробочный сбор? Может быть, это предприятие или какая-то артель по изготовлению коробок? Оказывается, коробочный сбор – это налог, которым облагались все граждане еврейской национальности. Так или иначе, глава семейства Наппельбаумов был на хорошей, надо полагать, не самой тяжкой работе. Это подтверждает и наличие у семьи собственного дома в Минске.
Есть сведения, что отец Наппельбаума некоторое время работал приказчиком в чужом магазине. В любом случае дому он уделял не много времени, целыми днями молился в синагоге, а непростой быт тащила его жена.
Продолжая размышления о материальном благополучии семьи Наппельбаума, можно сказать, что все его дети получили отличное даже по нынешним временам образование и приобрели престижные профессии, а одна из сестёр окончила даже Санкт-Петербургскую консерваторию. Стоит ли говорить о том, что учёба в те годы не была бесплатной?

Портрет советской артистки балета О. В. Лепешинской. 1936 год

Портрет неизвестной. 1949 год
Более того, в конце 1890-х в Минске у Наппельбаума была своя студия, а фотографии он размещал на очень дорогих подложках с тиснением. В 1900 году он взял в аренду павильон в доме Френкеля, а ещё через пять лет – в доме богатого кондитера Франца Венгржецкого, предприятие которого существовало к тому времени уже около полувека. На втором этаже здесь была квартира Наппельбаумов, а в мезонине расположилась студия с богатым убранством. Как мог бедный маэстро едва сводить концы с концами, если только арендных денег он платил господину кондитеру 1000 рублей в месяц? Кроме того, у него были наёмные работники – четыре фотографа и две служанки. Мог ли бедный человек тянуть такие расходы?
Но его дочь Ида впоследствии уверяла, что семья голодала, холодала и зарабатывала только на хлеб. Может, так и было после 1917 года, но уж, во всяком случае, не в начале века.
Утверждение о бедности семьи, скорее всего, запустил сам маэстро уже в постреволюционные годы, чтобы быть, что называется, ближе к народу. Ему выгодно было позиционировать себя как человека, стоящего в самой гуще победившего пролетариата, фактически входя в советскую элиту.
Pulsuz fraqment bitdi.