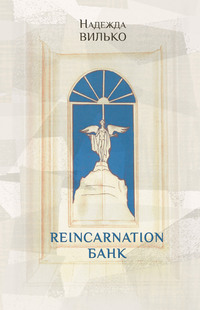Kitabı oxu: «Reincarnation банк»
© Н. Вилько, 2020
© J. Marciniak, фотография, 2020
© Издательство «Водолей», оформление, 2020
* * *
По эту сторону ограды

I
Проснувшись, Таня не поняла, что ее разбудил звонок в дверь, и не сразу вспомнила, что вставать не обязательно, что с работы она уволилась.
Ей снились три разных снега. Один, вязкий, серый и тяжелый, каким он бывал в оттепель, лежал на Питерских улицах. Она падала в него, и подниматься было очень тяжело, но она поднималась и шла. Другой снег шел в Старом Городе, в Иерусалиме. Тот был частым, крупным и очень белым. Она искала и не могла отыскать знакомых ей мест, где доступ небу преграждался арками. Ей почему-то необходимо было увидеть, как снег падает сквозь отверстия в арках, сохраняет ли его поток их форму.
Третий снег принял вид моста с заиндевелыми редкими деревьями, изогнувшимися у ослепительно сверкающих перил, но не узнать его все равно было невозможно: он был тем же, что и широкое белое пространство, через которое он перекинулся. Мост звенел…
Через некоторое время Таня подумала, что, может быть, кто-то все же звонил в дверь, но что теперь все равно уже поздно открывать. Но поставив на плиту кофейник, она открыла и увидела старичка, который жил несколькими этажами выше; он терпеливо ждал, выпрямившись во весь свой небольшой рост и держа под мышкой бумажный пакет. Таня удивилась тому, что он так долго ждал и что звонок оказался реальным. Появлению же соседа удивляться было нечего, он звонил в Танину дверь два-три раза в неделю с одними и теми же вопросами, которые он задавал в одном и том же порядке: здесь ли его жена, и получив отрицательный ответ, квартира ли это 5«В». Получив отрицательный ответ опять, он вежливо извинялся и уходил. У старичка был склероз.
– Простите, мэм, моя жена здесь? – встревоженно спросил он.
– Нет, – покачала головой Таня. Ей хотелось сразу же сказать, что это не квартира 5«В», но почему-то соблюдая сложившийся ритуал, она подождала, пока он спросит:
– Это квартира 5«В»?
– Нет. 5«В» тремя этажами выше.
– Простите, мэм. Я очень извиняюсь, мэм.
Таня стояла на пороге, пока он мелкими старческими шажками всем корпусом поворачивался спиной к двери. Она опять вспомнила, что торопиться ей некуда, что со службы она уволилась. Заметив, что шляпа на соседе не по сезону соломенная, и что рукав его светлого пальто сзади прихвачен черной ниткой, она подумала: – «Тоже хороша жена… вдобавок выпускает его, такого, одного», – и сказала: – Хотите я позову Вашу жену? Вы можете пока зайти ко мне и подождать, я как раз делаю кофе. Вы кофе пьете?
Старичок замер. Он не обернулся и не ответил. Он стоял все так же прямо, только плечи его стали трястись. Таня осторожно обошла его и заглянула ему в лицо – оно дрожало и горестно морщилось, и по нему текли слезы. Она не знала, что сказать или сделать, а он все стоял, не двигаясь – точно прирос к лестничной площадке – и плакал. – Может быть, Вы зайдете ко мне, – снова сказала она, но он будто и не слышал. Тогда, совсем растерявшись и расстроившись, она позвонила в соседнюю дверь, где жила приветливая сухонькая старушка Сюзи, бывшая балерина. Сюзи долго не открывала, и Таня машинально нажимала на кнопку снова и снова, а когда, наконец, послышались шаги, не дожидаясь вопроса, крикнула, что это она. Сюзи открыла дверь, запахивая сиреневый халат, накинутый поверх блестящей спортивной пары. – А я-то ничего не слышу, милая, все танцую! Что случилось? – спросила она, увидев плачущего соседа. Узнав в чем дело, Сюзи участливо погладила Таню по плечу и сказала, – Успокойтесь, милая. О Господи, беда с нами, стариками! Да нет у него никакой жены! Умерла его жена еще осенью. – Она обняла соседа за трясущиеся плечи, авторитетно и строго сказала, – Пойдемте, милый, я отведу Вас домой, – и решительно отвергла Танину помощь. – Не Ваше это молодое дело с нами, стариками возиться. О Господи, да Вам и смотреть на это нечего! Уж я сама все сделаю, и отвезу его наверх, и разберусь, кто там за ним смотрит.
– У него рукав отрывается…
– Успокойтесь милая, – еще решительнее оборвала ее Сюзи. – О Господи, вот беда-то!
Таня стояла в коридоре и смотрела на них, пока дверцы лифта не закрылись.
Кофе вовсю кипел, плевками вырывался из-под крышки кофейника, с шипением заливал плиту. Разъяренно вытирая бумажными салфетками горячую кофейную лужу, она бормотала: – Что же это за склероз такой! Пусть уж, если склероз, то ничего вообще не помнить… А это что?!
На автоответчике за ночь накопились четыре призыва Джеффа не прятаться от него и снять трубку, в последнем он грозился приехать.
– Отдохнуть… от всего этого отдохнуть. А то живу, как мертвая, хуже, чем мертвая, надеюсь.
В ванной она мельком посмотрела на себя в зеркало и отвернулась.
Еще рано. Джефф не может появиться раньше ланча… чтобы Кэсси не догадалась. Значит из дома надо уйти до того, и придумать куда уйти. Приедет с какими-нибудь орхидеями… Она прошлась по квартире, выбросила засохшие цветы из всех ваз и стаканчиков. Выбрасывать цветы всегда было жалко. Когда Таня мыла посуду, зазвонил телефон. – Черт бы побрал, – разозлилась она, сообразив вдруг, что ждала звонка. Она намеренно неспеша вытирала руки, и сняла трубку уже на четвертом звонке. Но звонил не Джефф, звонил Петя, с которым она за те три месяца, что он здесь, не собралась встретиться. Восемь лет назад, в Москве, Петя был молчалив, долговяз и выглядел совсем мальчишкой. Его попытки отрастить бороду, чтобы казаться солиднее, вызывали безжалостные насмешки актеров модного молодежного театра, где Таня была художницей. Петр не работал в театре, он писал пьесы, и был плодовит и необидчив. Примерно раз в месяц он отпечатывал на старенькой «Оптиме» с перепаянным шрифтом кипу совершенно серой бумаги – Бог знает, где он ее, такую, доставал – очередной детективной пьесой, таскал с собой по театру раздутый и обшарпанный рыжий портфель и всем раздавал экземпляры, не требуя вернуть назад. Пьес, конечно, никто не читал, и от этого Тане становилось совестно и жалко его до того, что однажды она просидела всю ночь, клюя носом и читая невозможно запутанный опус, называвшийся «Полет Черного Конька», и так и не поняла почему он так назывался. «Черный Конек» – была кличка какого-то демонического героя, который почему-то все обо всех знал, но всех зачем-то только запутывал, а кончил тем, что упал из окна гостиницы «Астория» и разбился насмерть. Причем оставалось непонятным, выбросился ли он сам, или кто-то его выбросил. При встрече с Петром, она тактично поделилась своим недоумением по поводу названия пьесы. Он обрадовался так, что ей снова стало совестно, он даже порозовел. – Ты думаешь, лучше было бы назвать «Полет на мостовые… Черного Конька» или нет… «Полет Черного Конька на мостовые»?
Таня с трудом удержалась от смеха. С тех пор Петр всегда первой искал в театре ее, и вместе с экземпляром очередной пьесы вручал ей шоколадный батончик. Это было замечено, и актеры безжалостно веселились по поводу Петиной «безнадежной любви», на что, впрочем, тот с завидным постоянством не обращал никакого внимания.
Как и восемь лет назад, он говорил Тане «ты», и это «ты» звучало теперь странно.
Сама она старалась избегать местоимений единственного числа. – Как мы узнаем друг друга? Вдруг мы изменились так, что не узнать?
– Я буду в длинном черном пальто с китайской газетой под мышкой, – сообщил Петр. – Я хочу тебе кое-что показать, может быть, мы кое с кем встретимся.
«Кое-что, кое с кем… что-то в нас никогда не меняется», – улыбнулась Таня. – Договорились, с китайской газетой.
Вынося мусор, она укололась о колючки сухих, торчащих из мешка стеблей роз.
…Цветы, которые Аня выбросила вечером после юбилейного концерта Натана Александровича, только-только начинали увядать. Таня заметила их в мусорном ведре, когда вытряхивала пепел, и вытащила. Это были мелкие, желтые астры. В тот день Натану Александровичу подарили много цветов, все вазы были заняты – видимо, чтобы освободить одну из них, Аня выбросила желтые астры. Таня поставила их в высокую жестяную коробку из-под печенья.
– Какие хорошие и совсем живые цветы! – всплеснул руками Натан Александрович. – Это мой старый друг Аня удружила, ай да Аня!
Гости уже разошлись, Таня присела в кресло рядом с ним. Натан Александрович наклонился, поднял голову, снизу вверх заглянул ей в глаза: – Устала или чем-нибудь расстроена?
– Не обращайте внимания, это пройдет.
– Здравствуйте пожалуйста! А кто же будет обращать внимание?!
Поразительно, сколько в нем было энергии. Концерт, гости, Аня, которой вечно надо было посоветоваться о котором-нибудь из своих двух профессоров-сыновей. Посуду вымыть никому не дал, мыл ее сам, напевая высоким, резковатым, поразительно молодым голосом.
– Чего-то как будто все не хватает, – сказала Таня.
– Так это хорошо! Большинству всего хватает и даже кое-что лишнее! Вот Аня, к примеру – добрейшая женщина, а цветы выбрасывает! А ты у меня, ну прямо королева – и все чего-то не хватает! Так бери. Ищи и бери. Думаешь, само вскочит? Держи карман шире, голубчик…
Все, что есть – лишнее. И никуда не хочется выйти из этой чертовой квартиры, и никого не хочется видеть, и ничего не хочется слышать. Вот только снег был хорош… – Подумав, Таня заварила еще кофе и налила в него амаретто.
* * *
По свидетельству, которому трудно не верить, наступят дни, когда заговорят камни. О чем бы? Вот камни здания, стоящего среди куч тяжелого хлама и перелетающего по ветру легкого сора. Здесь всегда ветрено – пустырь. Камни обтесаны, уложены и выкрашены – столько прикосновений человеческой руки, что о беспристрастии не может быть речи. Прикосновение меняет – правда, к этим камням давно никто не прикасался, дом необитаем и там, где оконные проемы не заколочены досками – прозрачен. Ни стекол, ни рам, насквозь видно небо. Дом был когда-то красив; точным и изящным рисунком резного фриза и формой оконных проемов можно залюбоваться даже отсюда… из чахлого сквера возле автобусного вокзала, где, сидя на скамейке, засыпала Таня; автобус, на котором должен был приехать Петр, опаздывал.
А в самом сквере, в нескольких шагах от нее – другой камень, кусок черной вулканической скалы, горбящий поверхность земли. К нему почти не прикасались руками, и даже ногами почти не прикасались – слишком скользкой и неровной была его поверхность для неуверенной человеческой ноги. По вечерам в сквере собиралась публика, нетвердо ступающая по земле, предпочитающая лежать на ней или, в крайнем случае, сидеть. Но сейчас был день и сквер стоял пустой.
Таня насчитала шестьдесят девять солнечных затмений за то время, что остыла поверхность камня. Потом она считала лунные затмения, остановилась на ста четырнадцати и перестала считать. Она стала думать о том сумасшедшем ветре, что однажды обрушился на все движущееся и неподвижное вокруг камня, и тогда кое-что из неподвижного стало движущимся, а из движущегося – неподвижным. Одно плохо различимое в темноте, но кажется, немолодое человеческое лицо прекратило на камне быть живым как раз в эту выворачивающую с корнями деревья погодную неурядицу. С ночной темноты до самого утра, пока потихоньку успокаивалось бушевание природы, лицо прижималось правой щекой к черному мокрому камню и бессмысленно таращилось в темноту. Какие таинственные связи пронизывали соприкасающиеся в этом мире тела и отчего так усложнился этим ночным прикосновением мир камня, камень, естественно, не говорил, но задремавшей на скамейке Тане было ясно, что камень свидетельствует об этом… Очнувшись, она не могла вспомнить, в чем заключалось это свидетельство, и бессмысленно таращилась на возвышающуюся над ней тощую черную фигуру.
– Заснула!?
Она подняла голову и увидела бородатого, но сильно полысевшего Петю.
– Хорошо, что я сюда заглянул, а то бы так и ушел, а ты бы тут замерзла, – сказал он. – И напрасно ты надела эти туфли, сегодня к ночи будет снег. – И добавил: – Ты нисколько не изменилась.
Никакого снега не обещали, но Петр сказал, что китайцы обещали снег, а с тех пор, как он стал опять практиковаться в китайском и читать китайские газеты, он убедился, что китайцы всегда правы. Как и прежде, он говорил негромко и монотонно, но говорил теперь намного больше, чем раньше, так что вскоре Таня совсем перестала его слушать. Она поняла, что они едут в какое-то кафе, где встретят какого-то Сержа и настояла на том, чтобы взять такси, за которое по выходе поспешила расплатиться. Между первой и второй дверью кафе Петр спросил, не голодна ли она и она мотнула головой. Они заняли столик у окна, заказали кофе и Петр, отвергнув меню, вынул из кармана пакетик орехов. Почувствовав себя неловко, Таня попросила принести ей коньяк и добавила, что они должны дождаться еще одного человека.
– Видишь этот дом напротив, черный, без окон? – говорил Петя с восхитительной непосредственностью предлагая ей орехи перед носом принесшего кофе официанта. – Я привел тебя сюда, потому что здесь идеальный наблюдательный пункт.
– Наблюдательный? Что ты собираешься наблюдать? Ты опять пишешь детективную пьесу! – догадалась Таня.
– Нет, не пишу, я не пишу по-английски, – наивно ответил Петр, – но у меня есть идея. Я как раз подумал, что, может быть, если ты захочешь, мы сможем вместе написать сценарий. Представь, это черное здание без окон напротив – «Reincarnation» банк.
– Что?
– «Reincarnation» банк, – понизив голос, повторил Петр. – В один прекрасный день жители города просыпаются и замечают, что в их городе строится какое-то странное здание. Строительство окружено тайной и идет фантастически быстро – черные стены растут… окон нет. Что это? Тюрьма, сумасшедший дом или гигантский крематорий? – Он воодушевился и сделал слишком большой глоток горячего кофе. Пока он двигал ртом, как вытащенная из воды рыба, Таня глядела в окно – здание было не черным, а темно-серым, оно стояло между двумя одинаковыми небоскребами и выглядело гораздо массивнее их, хотя и было намного ниже. Стена, обращенная к кафе, действительно не имела окон, вместо них разного размера и формы ниши складывались в рисунок, напоминавший искривленные соты.
– Что нужно так прочно отгораживать от мира? – отдышавшись, продолжал Петр. – Или от чего надо так прочно отгораживать мир? Или просто не смешивать? А здание растет и растет, пока не превращается в огромную черную коробку, вот в эту… а? Как тебе это в качестве киносценария?
Таня улыбнулась. – Осталось только написать, протолкнуть и станцевать на банкете по случаю получения «Оскара». Но мне даже и танцевать не хочется.
– Это ты просто устала. – И добавил: – Я тоже устал.
– Интересно, отчего бы я устала? – я все время сплю.
…Год после смерти Натана Александровича был очень тяжелым. Она не тосковала по покойному – он умирал так медленно, менялся так тягостно, что очень долго она помнила его только таким, каким сделала его болезнь: чужим, холодным, молчаливым, ушедшим куда-то, где никому рядом с ним не было места. Таким она долго его помнила, и потому почти не вспоминала весь тот первый год после его смерти. Но она стала очень беспокойна. Иногда – и все чаще и чаще – беспокойство обострялось до тоски и страха. Тогда ей начинало казаться, что есть одна главная причина такого состояния, и что если она найдет эту причину, душная пряжа, прочно опутавшая ее – присутствие этой пряжи она ощущала физически, – размотается, отпустит, исчезнет, и можно будет снова дышать, не боясь следующего момента. А следующий момент того и гляди накроет с головой, и уже не вынырнешь из него без потери чего-то очень важного, без чего ты уже не ты. Каждый раз после того, как страх отпускал, она несла себя несколько дней, как хрупкий стеклянный сосуд – ей казалось, что даже походка ее меняется. Часть ее существа превращалась в настороженного и искушенного цензора, и каждое слово, движение, эмоция долго и тщательно проверялось им – без этой цензуры ничто не принималось ею.
Но тоска возвращалась. Ее возвращение всегда предчувствовалось и предчувствием этим всегда было одно и то же ощущение, болезненное, как укол в сердце – ей мгновениями казалось, что она где-то далеко-далеко от того места, где она в этот момент была. Так случилось однажды около пяти часов утра, когда она, разбуженная громким шелестом, доносящимся из открытого окна спальни, выглянула во двор. Было довольно светло, двор был пуст, порывами налетал несильный ветер и с гулким царапающим звуком гонял несколько сморщенных сухих листьев по одной и той же траектории. Листья описывали круг на асфальте под окном, замирали, когда утихал ветер, опять описывали круг, и опять… и опять. Тогда и кольнуло в сердце. Позже в то утро ей приснилось, что она все так же глядит во двор, но окно ее гораздо выше, двор виден глубоко внизу, как дно пустого колодца, и асфальт белый и сверкающий, как хрусталь. Посреди двора неподвижно стоит черная лошадь, и это так удивительно, что Таня срывается с подоконника и бежит на лестницу.
Лестница длинная, запутанная и крутая, но она добегает до двери, распахивает ее и замирает: асфальт лежит перед ней черный и вязкий, как смола. Стоя в нерешительности – подол белого платья касается асфальта – она замечает, что лошади посреди двора уже нет. Тогда, забыв о платье, она бежит по черному асфальту, успевает увидеть скрывающуюся за углом белую лошадь и, проснувшись, все рвется за нею вслед.
Первое за долгое время ясное утро пробивалось сквозь опущенные шторы теплым спокойным светом и вместо страха было позабытое чувство благодарности, как бывало, когда она просыпалась в детстве. Это удивительная удача проснуться раньше, чем вспомнить себя, и она старалась подольше не вспомнить себя…
– Родители, – говорил Петр, – не оставляют наследство детям, сдают свой капитал в «Reincarnation» банк для своих будущих воплощений. Да что там дети! Родители и между собой должны разобраться с дележом. А дети обдумывают убийство родителей, да даже не очень и обдумывают – лишь бы добраться до банка и успеть вложить деньги, а там… тайна вклада гарантирована до конца времен. Чудовищные, дерзкие ограбления: грабители не боятся быть арестованными, лишь бы успеть вложить награбленное в банк! Чиновники, имеющие доступ к государственным фондам, тоже грабят…
– Они и так грабят, – сказала Таня.
– Ну пусть! – отмахнулся Петр. – Крах семей, биржи, экономики, государства! На этом фоне горстка энтузиастов пытается взорвать здание «Reincarnation» банка, но таинственная охрана здания пользуется древними методами: лабиринты, ловушки, подъемные мосты, рвы… Нападающие как будто сражаются с гигантской машиной, они гибнут один за другим, не встретив ни одного человека. Можно завернуть какую-нибудь романтическую историю. Только представь, какие драмы можно разыграть на этом фоне, в какие дебри человеческой психологии забраться?
– Мне все равно на каком фоне разыгрываются драмы. А психология меня не интересует, я разбираюсь в ней достаточно, чтобы ею больше не интересоваться. Кстати, о психологии, в том, что ты сейчас тут наговорил, есть одно психологически слабое место.
– Какое? – поднял на нее глаза Петр. У него были светлые, гораздо светлее волос, брови. Наверно поэтому его взгляд всегда казался ей растерянным.
– Твой сюжет предполагает, что все преступники верят в перевоплощение. Где, скажи, ты наберешь столько людей, которые вообще во что-нибудь верят?
– Не обязательно верят, – возразил Петр и помолчал, глядя на улыбающуюся Таню отсутствующим взглядом. – Конечно, все надо обдумать. Если бы ты согласилась со мной поработать…
Она покачала головой.
– Ужасно иметь дело с умными женщинами, – вздохнул Петр, – их ничего не интересует. Вот подожди уж, придет Серж, он тоже умный.
Серж пришел, когда его уже перестали ждать, и с первой же фразы не понравился Тане. Он сказал:
– Ого! Если бы я знал, что тут ждет такая красивая девушка, я бы не засиживался в издательстве. Вы разрешите подсесть? – и он подсел, небрежно бросив дорогую европейского покроя куртку на свободный стул.
– Я ничего не жду, – сказала Таня. – Я пью кофе.
Позже Серж признался ей, что сначала она тоже не понравилась ему. Был уже поздний вечер, когда он сказал это. Они сидели в Таниной квартире и допивали остывший чай, и Сержу надо было ехать в аэропорт. Он сказал еще, что от его отпуска осталась неделя, и что он собирался позвонить в аэропорт и отложить свой отлет, чтобы провести эту неделю здесь, потому что в кои-то веки встречаешь человека, с которым хорошо быть рядом…
Глядя в окно, Таня старалась не слышать Петра, говорившего Сержу о черном здании без окон и о капитале для будущих инкарнаций. Она не сразу поняла, что Серж обращается к ней. – Чем же? – спрашивал он.
– Чем же… что?
– Чем Вам не нравится Петин сюжет? – улыбаясь, спрашивал Серж в то время, как она пыталась понять, чем не понравился ей он сам, такой симпатичный и хорошо одетый молодой человек. Очевидно, пауза затянулась, потому что Серж вдруг сказал, – Вы не возражаете, что я к Вам подсел?
– Здравствуйте! – усмехнулся Петя. – Что же ты сразу ее об этом не спросил?
– Я спросил, только ответа по самонадеянности не дождался.
– И что ты будешь делать, если она возражает?
– Быстро-быстро, обжигаясь, допью кофе, откланяюсь и удалюсь, – не отрывая взгляда от Таниного лица, сказал Серж.
В ответ на это заявление, представив себе, как это он «откланяется и удалится», Таня поняла, что новый знакомец не понравился ей не самоуверенными манерами – он вполне, впрочем, держался в рамках приличия, – а тем, что заполнял собой пространство. Именно поэтому, если он сейчас поднимется и уйдет, станет раздражающе пусто. Она улыбнулась.
– Ее не интересует психология. – Петя вернул разговор в нужное русло.
– И правильно, – согласился Серж. – Психология – это скучно, хотя бы потому, что человек связан со всем остальным миром, а остальной мир человеческой психологией не страдает.
Таня очень испугалась «умного разговора».
– Психология здесь ни при чем, я вообще о ней не говорила. Я просто не очень представляю, что можно сделать с тысяча первым сюжетом добычи денег для будущей счастливой жизни.
– Сделать можно что угодно с чем угодно, – заявил Серж. – Идея «Reincarnation» банка может, например, состоять не в откладывании денег на будущее, а в откладывании жизни на будущее.
– Мы и без банка занимаемся этим большую часть времени.
– Пожалуй, – согласился Серж. Он задумчиво потер хорошо выбритый, красивый подбородок. «А подбородок у него, как у Джеффа», – подумала Таня.
– Я попробую уточнить, – снова заговорил Серж, – жизнь делится на две половины, первая половина – ожидание жизни, вторая половина – недоумение по поводу того, как это жизнь успела просвистать мимо. Когда граница пройдена, происходит переселение прямым ходом из будущего в прошлое, минуя настоящее. И нам остается невроз, маразм или дети. А с «Reincarnation» банком можно до конца глядеть только в будущее.
– Скажите, а Вы-то сами в какой «половине»? – поинтересовалась Таня.
Серж на секунду задумался, потом звонко рассмеялся. – А я, – сказала Таня, – лет, наверно, на десять старше Вас…
– Ну не на десять! – перебил он ее. Мне двадцать семь. – И выжидающе посмотрел.
– Ну, не на десять, – согласилась она. – Но я уже ничего не ожидаю, а жизнь вовсе не «просвистела», она все свистит, и притом иногда довольно назойливо. И, кроме того, этот «Reincarnation» банк – абсурд. Кому, например, может захотеться снова быть молодым и красивым, чтобы снова оценить эти дары только когда их уже нет. Дай Бог эту инкарнацию дотянуть.
– Во-первых, – возразил Серж, – Вы потому их и не цените, что они все еще у Вас есть. Вы все еще молодая и, поверьте мне, очень привлекательная женщина.
«Все еще! – подумала Таня, – И комплимента толком сделать не умеют».
– Во-вторых, «захочется или не захочется» тут ни при чем. Если верить в будущее воплощение, то естественно постараться обеспечить себя на него.
– Ну да, обеспечить деньгами! – усмехнулась Таня. – Это очень по-западному. Тут Вы правы.
Подошел официант и спросил, будут ли они что-нибудь заказывать.
* * *
Поздним вечером следующего дня, в квартире Сюзи, Таня неожиданно для себя разоткровенничалась. Она зашла на минутку, а просидела почти до полуночи.
Сюзи позвала ее, чтобы успокоить насчет старичка-соседа, за ним присматривают какие-то школьницы из еврейской общины. Она качала головой и очень их жалела, повторяя, что не молодое это дело – глядеть на выживших из ума стариков. Таня молчала, думая, что хорошо разговаривать с Сюзи: можно молчать. На стене висели старинные ходики, и зрачки ночной птицы над циферблатом двигались вместе с маятником – влево-вправо, тик-так. Похожие висели в маленькой комнатке на улице Пестеля, где она в детстве жила с матерью. Она засыпала под их нескончаемое тик-так и нескончаемый разговор взрослых, и запах длинных сигарет, которые мама и тетя Оля тайком курили, думая, что она уже спит.
– Какая прелесть, – сказала Таня, – где можно купить такие часы?
Когда она собралась было идти, Сюзи вдруг зашикала и прислушалась.
– К Вам кто-то пришел. Слышите эти звонки? Идите скорее – это звонят в Вашу дверь…
Именно поэтому Таня осталась, и неожиданно рассказала о кошмаре своих последних двух лет, начиная с того дня, когда Джефф, с которым она работала уже больше года и который успел жениться за то время, что она его знала, задержался, чтобы просмотреть ее новые образцы тканей, и они проболтали в маленьком закутке, где стояла кофейная машина и противно трещала неоновая лампа, до одиннадцати часов вечера. В тот день ей, как это стало с ней случаться все чаще после смерти Натана Александровича, не хотелось возвращаться домой. Она помнила, как Джефф сидел на столике, где была кофейная машина – небрежно, прислонившись к стенному шкафу, она помнила, что на нем были светло-серые брюки и что узоры на его синем шелковом галстуке напоминали глаза, как их рисуют дети – с длинными волнистыми ресницами. Она помнила, что в какой-то момент ей вдруг мучительно захотелось прижаться губами к чуть видневшейся из-под ослепительно-белого ворота рубашки ямке, где сходились ключицы, и тогда – она помнила – ощущение одиночества обострилось. Единственное, чего она совершенно не помнила, – это о чем они говорили до одиннадцати часов вечера.
– Я столько раз пыталась прекратить этот кошмар: мы занимались любовью в мотелях, в его кабинете, в машине, на лестнице. «Анестезия… против страха, одиночества и безнадежности – объединившись, они действовали сильнее того, что я когда-то называла любовью». Он никогда не расплачивался кредитными карточками, жена могла проверить счета, а если мы где-нибудь задерживались, каждые полчаса звонил ей.
Особенно ненавистен он был ей, когда звонил жене из ее квартиры, дождавшись, чтобы она вышла из спальни, где стоял телефон. Он звонил и лгал, и до нее долетали отдельные слова.
– Два года… – качала головой Сюзи. – Вам-то он что обещал?
– Первое время ничего. Но это было даже лучше: я все равно не могла ему верить. Да я и не хотела от него ничего, он мне не нравился. Но от него очень трудно отделаться.
– Вы думаете, что это он сейчас звонил в вашу дверь?
– Да, – сказала Таня. – Это был он, больше некому.
– Ах милая, – вздохнула Сюзи, – Вам надо было найти другого мужчину!
Другие мужчины не имели смысла. Их было двое за два года. Они ни в чем не были похожи друг на друга, но объятия обоих вызывали одинаковые недоумение и тоску. Оба романа были очень короткими и скучными. Пережив очередного соперника, Джефф бывал великолепен: щедр, весел, нежен, счастлив… Но он стал лгать и ей – он запутался в собственных страхах. Он убеждал Таню в том, что он лжет Кэсси оттого, что взял на себя обязательства по отношению к ней, и что грош цена ему была бы, если бы он смог сразу бросить ее, что тогда Таня первая же перестала бы его уважать, но что теперь он все пересмотрит, подумает… Затем начинались бесконечные анатомирования своих чувств, которые каждый раз доводили ее до слез.
– А вчера – сказала Таня, – я получила еще одного женатого поклонника.
Когда Серж сказал ей, что хочет остаться на эту неделю здесь, она засмеялась. Он ждал пока она перестанет смеяться и что-нибудь скажет. Она сказала: – Роман на неделю и дружба навек! – и опять засмеялась.
Но Серж не пожелал перевести все в шутку.
– В кои-то веки встречаешь человека, с которым хорошо быть рядом, – сказал он.
– Если тебе плохо рядом с твоей женой, – отрезала Таня, – живи один.
– И теперь Вы ушли с работы и прячетесь у старухи-соседки, – вздохнула Сюзи. – Ах милая, одной-то иногда так тяжело! Я вот уже пятнадцать лет одна.
– У Вас есть дети? – спросила Таня.
– Была девочка, но она умерла, когда ей было три с половиной месяца. Ее звали Клеа. – Сюзи перекрестилась. – А мне всегда нравилось жить, и Бог мне нравится.
Таня улыбнулась: – А люди?
– Если бы я думала, что есть такое, как люди, то мне бы не нравился Бог.
– То есть, как это, а я, например, кто?!
– Вы женщина.
– А если бы я была мужчиной? – засмеялась Таня.
– Тогда бы я сказала, что Вы мужчина. Бог не видит людей, милая, Бог видит человека. А люди – это всегда ужасно! – покачала головой Сюзи и вышла, чтобы заварить чай. Вернувшись, она спросила, – А замужем Вы были?
– Я разошлась с мужем вскоре после того, как умерла моя девочка; у меня ведь тоже была девочка, но я даже не успела ее назвать.
Таня ушла уже около полуночи. Сюзи проводила ее до двери, подождала пока она зайдет в свою квартиру.
– Одного Вы все-таки еще не пережили, – говорила она, пока Таня возилась с замком. – Вы еще не пережили старения.
Таня приняла снотворное, но долго не могла заснуть. Когда она, наконец, заснула, ей приснилось, что она умерла. Смерть оказалась медленным и невысоким полетом над хорошо знакомыми домами, пейзажами и людьми. Картины сменяли одна другую, не вызывая в ней никакого любопытства до тех пор, пока она не вспомнила, что они знакомы ей из снов и что она никогда не видела ничего этого наяву. Тогда она стала глядеть внимательнее, как будто старалась уличить смерть в ошибке, но так и не уличив, проснулась.
«А Сюзи всегда нравилось жить, – подумала она. – С какой стати она стала бы лгать».
* * *
Она пропустила то место, где однажды уже спускалась к озеру, и не зная, есть ли спуск дальше, долго разворачивала машину на узком шоссе. Сейчас, когда здесь лежал снег, все выглядело по-другому. Проехав назад до развилки и так и не найдя того места, Таня оставила машину на обочине и стала осторожно, перебежками от дерева к дереву, спускаться. Было скользко, подход к озеру становился все круче, внизу лежал туман. Таня сдалась на полдороге, она села между обломанных веток упавшего дерева со светлой корой и плотнее закуталась в плащ. Сунув руки в карманы, она наткнулась на что-то гладкое и холодное и вспомнила, что Серж купил ей вчера яблоко в корейской лавке за мостом. Яблоко было небольшим, желтым, продолговатым и ничем не пахло. Еще она вспомнила, что сказал Саша, когда застал ее собирающей чемодан. Он сказал «синдром ухода». Он сидел в кресле, был зловеще спокоен и спрашивал ее, почему она уходит. Она продолжала молча собираться. Тогда он сказал: «Ты уходишь не оттого, что девочка умерла, ты знаешь, что в этом никто не виноват. У тебя просто синдром ухода». Она хотела сказать ему, что – да, она уходит не оттого. Что давным-давно все, что между ними было, превратилось в рутину и притворство, и что она чувствует себя бессильной это изменить, и что ей страшно оттого, что они не хотят друг друга в постели, но еще страшнее дождаться того момента, когда это перестанет быть страшным. Еще она хотела сказать, что – нет, он не прав, если бы девочка не умерла, она не ушла бы. Но потому что он говорил так непривычно – жестоко и спокойно, потому что она почувствовала – он всегда теперь будет говорить с ней только так, и это справедливо, – она ничего не смогла сказать, она заплакала.