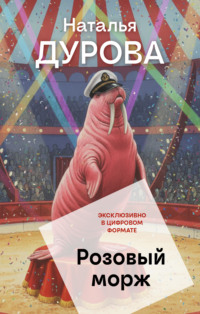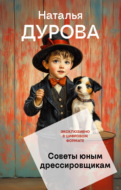Kitabı oxu: «Розовый морж»
© Дурова Н.Ю., наследники, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026
Оборванная юность – трагедия навсегда…
Неоконченная автобиографическая повесть
Я пишу в необычной обстановке. Тетрадь – перед зеркалом подле грима. Авторучка и растушевка с голубым тоном для глаз – рядом. В углу неторопливо, обстоятельно кормит двенадцать щенков моя собака Нера, а над головой шумит, как прибой, волнующаяся публика. Это цирк шапито.
Уже в манеже турнисты Копытины. После них эквилибристы Газарян, а потом… Застелят опилки ковром лазурным, переливающимся, чтобы прожектора его легкий пластик сумели наполнить иллюзией моря, – и выйду я.
Работа пока длится тридцать минут, аттракцион называется «Морские львы и морж». И вот на полчаса я должна приковать внимание зрителей к тому, чем сто лет подряд дорожила моя семья, называя великим искусством, а мне на сто тридцать пятом году к известной цирковой формуле «красота, сила, ловкость, здоровье», из которых состоит цирк, необходимо… прибавить и свое слово – решение… отдых.
На тридцать минут я хочу впитать в себя четыре тысячи глаз своих зрителей, как губка, вобрать по-разному прожитый каждым из них сегодняшний день, чтобы тревоги и радости остались за стенами цирка – здесь передышка перед дорогой в повседневную жизнь, куда они вернутся после циркового представления, унеся с собой драгоценную бодрость.
Тридцать минут я должна быть этим светлым эликсиром. А когда погаснет последняя лампочка на фасаде цирка, освещающая наши яркие улыбки на рекламе, – я увижу в зеркале свое осунувшееся, кажущееся негативом лицо и снова с трепетом возьму авторучку…
Премьера
Почему я боюсь Цветного бульвара? Оторопь, нервный перестук каблуков. Я всегда перевожу дыхание только в лифте. Не видя в проемах лестниц окон, зажатая клеткой, бесшумно уносящей меня наверх, я пытаюсь сбросить с себя Цветной бульвар, где через дорогу от здания редакции «Литературная газета», рядом, на другом берегу, есть круглый короб под конусной крышей, дом 13 – Цирк. Моя земля, на которой я родилась. Боязнь, нежность, смятение до ужаса испытываю я теперь при виде этого спокойно подмигивающего огнями рекламы гиганта. Иной раз мне кажется, что я могу пересечь Цветной бульвар, чтобы прикоснуться глазами к распахнувшемуся манежу. Но тут же – воспоминание ужаса, слитое в одно слово: крушение!
24 октября 1953 года у меня состоялась премьера во Владивостоке. Перед зрителями выступала удивительная в своей цепкой кошачьей дикой грациозности моя рысь Котька. Нелепый непредвиденный случай: незнакомый костюм – и Котька прямо при публике напала на меня. Однако мы продолжали работать, и премьера состоялась.
Потом «скорая помощь», больница. Мамины глаза, пересохшие до самой глубины: в них моя боль и, как всегда, твердое решение:
– Поверьте мне, доктор! Я прошу вас помочь. Я знаю, вы хотите оперировать, но я настаиваю на другом: сквозные рваные раны можно промыть. Это больно – но она должна выдержать. Необходимо: не будут изуродованы ноги и руки. Не бойтесь за исход. Верьте: это необходимо. Наташа – артистка цирка.
Мама стоит в операционной. Я зубами держу бинт и цепляюсь только за ее фигуру. Почему-то вижу то расплывчато, то остро и резко, и лишь через несколько дней начинаю сознавать, что лежу во владивостокской гостинице, где мы поселились на время гастролей.
На тумбочке – корзина порядком увядших цветов. Рядом все мои родные: мама, отец и даже Хотунцев. Он, как всегда, покачивает прилизанной головой, его сизый нос и беззубая добрая улыбка скорее должны были бы принадлежать клоуну, однако он наш вечный, бестолковый и чудесный Человек, случайно ставший администратором.
– Нет, вы только подумайте! – смеется отец. – Часы обязательно войдут в историю криминалистики!
Подле меня – маленькие часы, когда-то их называли луковицей, теперь же, ручные, изящные, они о прошлом напоминают лишь надписью на крышке:
«Наталье Дуровой. 1916 г. Актрисе театра Би-Ба-Бо».
Их утром в день премьеры торжественно мне подарил отец: «Наталье от Натальи! Бабушкины часы». Я не знала ее. Она погибла в годы гражданской войны, оставив в наследство мне свои вьющиеся волосы, большие, удивленные, всегда старающиеся как можно больше вобрать в себя света глаза и характер – так говорили дома.
Я все время прислушивалась к их трогательному ходу и, волнуясь, повторяла вместо «тик-так» смешное название театра «Би-Ба-Бо».
Цирк во Владивостоке всегда походил на ярмарочное гуляние. Краски зардевшихся осенних сопок словно бликами покрывали толпы людей, спешащих в низину у порта. Море было совсем рядом. Иной раз ливни превращали цирк в маленький плавучий комичный островок. Мне это было очень дорого. Море! Оно, пожалуй, наполняло непонятной таинственностью, словно судьбы тех, кто придет порадоваться и отдохнуть в цирк, а потом навсегда исчезнет.
– Так вот, чтобы ты не нервничала, сначала уйди в себя, а потом раскройся, – давал мне напутствие отец. Мы вошли в цирк. Еще в голове был гул от говорливого потока публики. До премьеры осталось… я потянулась к часам.
– Пап! Часы??
– Что? Может быть, ты их оставила в гостинице?
– Нет! Нет! Нет! – Мы звоним дежурной, ищем в гардеробной – и всё нет.
– Срезали! – заключил отец.
И вот мы в милиции.
– Это, если не считать двух-трех фотографий, – единственная память о моей матери, – отец нервно теребит растрепанную бумагу на пресс-папье. – Она погибла в гражданку. Где-то под Астраханью ее зарубили белоказаки. Петровобратский, драматический артист, тогда привез деду ее волосы – косу и это. Единственная память. Что делать? Что делать?
– Не волнуйтесь, товарищ Дуров, – отвечает начальник, и перед нами вырастает фигура всклокоченного румяного парня в пиджаке и брюках-клеш.
– Пашка! Кто у цирка орудует? – задается ему вопрос.
– Товарищ капитан, вы ж сами знаете! Не я, а Наливной.
– Ну вот, тебя оставлю в залог, а двух выпущу, чтоб сегодня же была вещь найдена. Ясно?
Парень кивнул головой. А мы, пригорюнившись, побрели к цирку.
Гардеробная. Деловитое покашливание попугая Макара на жердочке и его ворчливый возглас «Да никого нету!», копирующий уборщицу.
Отец беспрестанно рассказывает о моей бабушке. Я вижу то ее, первую женщину-конферансье в московском кафе «Стойло Пегаса», где собирались поэты, то вижу маленького мальчика, читающего стихи.
Мальчиком был мой отец. А то бабушка вырастает передо мной уже не сверкающей красавицей в пышных, странных платьях, а медсестрой, ушедшей на фронт вслед за вновь обретенной для нее жизнью. А рядом ее тень, ничего не требующая, со всем соглашающаяся, – драматический артист с длинной фамилией Петровобратский.
Его я знаю, но никак почему-то не могу представить романтичным, беззаветно преданным другом моей бабушки, к которой тоже трудно отнести это старое слово. Ведь она прожила всего лишь двадцать восемь лет.
Я видела Петровобратского в театре. Он – король Лир. Седые пряди, усталые, сведенные в трагическую дугу брови. Мы сидели с отцом у него за кулисами в антракте.
– Значит, едешь в Астрахань? – Он осторожно поправил плетение грубых кожаных сандалий.
– Да! Я хотел! Мне хочется обязательно побывать у мамы. Где искать ее могилу? – спрашивал отец.
– Трудно, Юра! Я сам хоронил Тату. Помню только потрясение, жуткое до одури. Месиво мяса, крови, земли. Помню ясный день, жестокое, раздавленное по всему небу солнце и полынь. Когда я побрел от холмика, я еще не верил и не соображал, что все это случилось с Таточкой. Я твердил: «Отвезу раненых, вернусь за Татой». И вдруг я нашел пуговицу, серую перламутровую, какие она пришивала на свою блузку. Таты больше нет! Знаешь, прошло так много лет. Да, брел тогда по всему полю, пытаясь понять, что сам хоронил, что больше нет живого. В руке была чудом найденная пуговица, запыленная и переливающаяся то красноватым, то землянистым цветом. Таты нет! Поразительное чувство этой первой любви, удивленное и щемящее, как дрожь, которую испытываешь впервые вышедшим на рампу к публике, я пронес через всю жизнь. Пожалуй, я не скажу тебе, где ее могила. Не знаю. Наверное, есть. Для меня – нет. Когда я вижу ясный день или непосредственную улыбку, я иной раз редко, но прихожу поклониться Тате. Вот и все. Не спрашивай – не знаю.
Pulsuz fraqment bitdi.