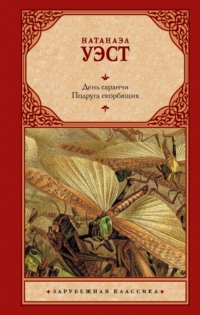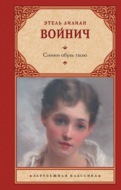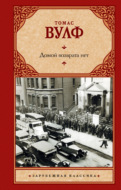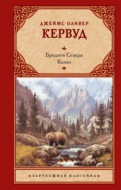Kitabı oxu: «День саранчи. Подруга скорбящих», səhifə 3
7
В одном, по крайней мере, Тод не ошибся. Как и большинство интересовавшей его публики, Гомер был выходцем со Среднего Запада. Он приехал из Уэйнвилла, городка в Айове, неподалеку от Де-Мойна, где двадцать лет проработал в гостинице.
Однажды, посидев в парке под дождем, он простудился, и простуда перешла в воспаление легких. Выйдя из больницы, он узнал, что гостиница взяла другого бухгалтера. Они соглашались принять его обратно, но врач посоветовал ему поехать на отдых в Калифорнию. Тон у врача был повелительный, и Гомер уехал из Уэйнвилла на Побережье.
Прожив неделю в вокзальной гостинице Лос-Анджелеса, он снял коттедж в Пиньон-Каньоне. Это был всего второй дом, показанный ему агентом по торговле недвижимостью, но Гомер согласился на него, потому что устал и потому что агент был наглец.
Расположение коттеджа ему даже понравилось. Это был последний дом в каньоне, и холмы начинались прямо за гаражом. Они поросли люпинами, колокольчиками, маками и луговыми ромашками. На склонах стояло несколько карликовых сосен, юкк и эвкалиптов. Агент сказал, что он будет любоваться голубями и перепелками, но за все время, что тут жил, он видел только крупных бархатно-черных пауков и ящерицу. Он очень привязался к ящерице.
Дом стоил дешево, потому что на него не находилось охотников. Большинство людей, снимавших здесь коттеджи, хотело жить в «испанских», а этот, по утверждению агента, был «ирландским». Гомеру дом показался довольно странным, но агент настаивал, что он оригинальный.
Дом был странным. Из-под соломенной крыши, спускавшейся очень низко по обе стороны от входной двери, смотрели маленькие слуховые оконца с длинными козырьками, а венчала ее циклопическая и очень кривая труба. Дверь из эвкалипта, крашенного под мореный дуб, висела на громадных петлях. Петли были фабричные, но отштампованы так, что имели вид кованых. Столько же умения и старания затратили на то, чтобы сделать кровлю соломенной – ибо она была не из соломы, а из огнестойкого картона, рифленого и крашенного под солому.
Господствующие вкусы нашли отражение в убранстве комнаты. Оно было «испанским». Стены были бледно-оранжевые, в розовую крапинку, и на них висело несколько шелковых знамен с гербами – красных и золотых. На камине стоял большой галеон. Корпус у него был гипсовый. В камине разместились разнообразные кактусы в расписных мексиканских горшках. Некоторые растения были сделаны из резины и пробки, остальные были настоящие.
Комнату освещали бра в виде галеонов, у которых из-под палубы торчали остроконечные желтые лампочки. На столе стояла лампа с бумажным абажуром, промасленным, чтобы он имел вид пергаментного, и на нем было изображено еще несколько галеонов. Шторы из красного бархата висели на черных копьях с серповидными наконечниками.
Из мебели тут были: тяжелая кушетка с выгоревшим красным камчатным покрывалом и ножками в виде жирных монахов и три распухших кресла, тоже красных. Середину комнаты занимал очень длинный стол красного дерева. Он был обит гвоздями с большими бронзовыми шляпками. Возле каждого кресла стоял столик того же цвета и конструкции, что и большой, но в их крышки было врезано по цветной кафельной плитке.
Две маленькие спальни были отделаны в другом стиле. Агент назвал его «новоанглийским». Тут была железная кровать с накаткой под дерево, точеное кресло с перильчатой спинкой – из тех, что обычно стоят в кондитерских, и комод в стиле ранних английских колонистов, окрашенный под некрашеную сосну. На полу лежал мохнатый коврик. На стене против комода висела цветная гравюра, изображавшая занесенную снегом коннектикутскую ферму – полностью, включая волка. Спальни были одинаковы до мельчайших подробностей. Даже картинки были дубликатами.
Имелись также ванная и кухня.
8
Чтобы обосноваться в новом жилище, Гомеру понадобилось всего несколько минут. Он распаковал сундук, повесил свои два костюма – оба темно-серые – в стенной шкаф одной из спален, переложил рубашки и нижнее белье в комод. Переставлять мебель он даже не пытался.
Совершив бесцельный обход дома и двора, он сел на кушетку. Он сидел, словно дожидаясь кого-то в вестибюле гостиницы. Так он провел почти полчаса, шевеля только руками, потом встал, перешел в спальню и уселся на край кровати.
Хотя до вечера было далеко, его сильно клонило ко сну. Он боялся вытянуться и уснуть. Не из-за дурных снов, а из-за того, что так трудно было проснуться. Когда он засыпал, он побаивался, что не проснется вообще.
Но потребность оказалась сильнее страха. Он завел будильник на семь часов и лег, поставив его возле уха. Через два часа, показавшиеся ему двумя секундами, будильник зазвонил. Он трещал целую минуту, прежде чем Гомер начал с трудом пробиваться к сознанию. Борьба была тяжелой. Он стонал. Его голова тряслась, ноги дергались. Наконец веки раздвинулись; потом раскрылись шире. Он еще раз одержал победу.
Вытянувшись на кровати, он приходил в себя, испытывал разные части тела. Все они пробудились, кроме рук. Руки еще спали. Он не удивился. Руки требовали особого внимания – всегда требовали. В детстве он, бывало, колол их булавками, а однажды даже сунул в огонь. Теперь он пользовался только холодной водой.
Гомер выбрался из кровати по частям, как неотлаженный робот, и потащил свои руки в ванную. Пустил холодную воду. Когда раковина наполнилась, он погрузил руки до запястий. Они тихо лежали на дне, как пара странных водяных животных. Когда они совсем замерзли и покрылись мурашками, Гомер вытащил их и спрятал в полотенце.
Он озяб. Он пустил в ванну горячую воду и начал раздеваться, возясь с каждой пуговицей, словно раздевал кого-то другого. Когда он разделся, воды в ванне было еще мало; он сел нагишом на табурет и стал ждать. Его огромные руки лежали на животе. Они были совершенно неподвижны, но выглядело это не покоем, а скованностью.
За исключением кистей рук, которые могли бы принадлежать монументу, и маленькой головки, Гомер был сложен очень пропорционально. Мускулы у него были массивные и округлые, грудь мощная и выпуклая. И все же что-то было не так. При всех своих размерах и формах он не производил впечатления силы и мужественности. Он напоминал стерильных атлетов Пикассо, которые понуро сидят на розовом песке, уставясь на мраморные, в прожилках, волны.
Когда ванна наполнилась, он влез в нее и погрузился в горячую воду. Он закряхтел от удовольствия. Но сию же минуту могли начаться воспоминания – сию же минуту. Он попытался одурачить память, залив ее слезами, и извлек из себя рыдания, как всегда втихомолку ерзавшие в груди. Звук получался как у собаки, лакающей овсянку. Он сосредоточился на том, какой он одинокий и несчастный, но это не помогло. Мысли, которые он отчаянно хотел прогнать, ломились в его сознание.
Однажды, когда он работал в гостинице, с ним в лифте заговорила постоялица Ромола Мартин:
– Мистер Симпсон, вы бухгалтер, мистер Симпсон?
– Да.
– Я из шестьсот одиннадцатого.
Она была маленькая, похожая на девочку, с быстрой нервной повадкой. На груди она баюкала пакет, содержавший, по-видимому, четырехугольную бутылку джина.
– Да, – повторил Гомер, стараясь побороть врожденную приветливость. Он знал, что мисс Мартин задолжала за несколько недель, и слышал, как регистраторша назвала ее пьяницей.
– Ах!.. – кокетливо продолжала девушка, обращая его внимание на их разницу в росте. – Мне так неприятно, что я заставляю вас беспокоиться из-за этого счета…
Ее интимный тон привел его в растерянность.
– Вам придется поговорить с директором, – буркнул он и отвернулся.
Когда он подходил к своему кабинету, его трясло.
До чего беспардонное существо! Она, конечно, была пьяна, но не настолько, чтобы не отдавать себе отчета в своих поступках. Он поспешил назвать свою взволнованность отвращением.
Вскоре ему позвонил директор и попросил принести кредитную карточку мисс Мартин. В кабинете директора Гомер застал регистраторшу, мисс Карлайл. Он прислушался к ее разговору с директором.
– Шестьсот одиннадцатую вы приняли?
– Да… да, я.
– Почему? Кажется, ясно, что это за птица?
– Когда трезвая – нет.
– Мало ли что. Нам такие в гостинице не нужны.
– Виновата.
Директор повернулся к Гомеру и взял у него из рук кредитную карточку.
– Она задолжала тридцать один доллар, – сказал Гомер.
– Пусть заплатит и выезжает. Мне тут такие не нужны. – Он улыбнулся. – Особенно когда они залезают в долги. Соедините меня с ней.
Гомер попросил телефонистку вызвать шестьсот одиннадцатый; вскоре она сообщила, что номер не отвечает.
– Она в гостинице, – сказал он. – Я видел ее в лифте.
– Я попрошу коридорную проверить.
Через несколько минут, когда Гомер уже сидел над своими книгами, зазвонил телефон. Это опять был директор. Коридорная сообщила, что шестьсот одиннадцатая на месте, сказал он и велел Гомеру отнести ей счет.
– Пусть заплатит и освободит номер, – сказал он.
Первой мыслью Гомера было, сославшись на занятость, попросить, чтобы послали мисс Карлайл, но у него не хватило духу. Выписывая счет, он начал понимать, до какой степени он взволнован. Это привело его в ужас. Легкие токи пробегали по нервам; язык у гортани покалывало.
Выйдя на шестом этаже, он почти развеселился. Он шагал бодро, совершенно забыв о руках – постоянном предмете тревоги. Он подошел к 611-му и собрался постучать, но вдруг испугался и опустил кулак, не донеся его до двери.
Он не справится. Пусть пошлют мисс Карлайл.
Коридорная, наблюдавшая за ним издали, подошла, отрезав путь к отступлению.
– Не отзывается, – поспешно объяснил Гомер.
– Вы хорошо стучали? Эта девка у себя.
Не дожидаясь его ответа, она забарабанила в дверь.
– Открывайте! – крикнула она.
Гомер услышал внутри какое-то движение, потом дверь приоткрылась.
– Простите, кто там? – спросил беззаботный голос.
– Бухгалтер Симпсон, – сказал он сипло.
– Заходите, пожалуйста.
Дверь отворилась пошире, и Гомер вошел, не смея оглянуться на коридорную. Его вынесло на середину комнаты, и там он замер. Сперва в нос ему ударили тяжелые запахи перегара и застоявшегося табачного дыма, но потом сквозь них пробился металлический аромат духов. Его взгляд медленно описал круг. По полу была разбросана одежда, газеты, журналы, бутылки. Мисс Мартин забилась в уголок кровати. На ней был мужской халат из черного шелка с голубыми отворотами. Ее коротко остриженные волосы цветом и фактурой напоминали солому, и сама она была похожа на мальчика. Розовая пуговка носа, синие пуговки глаз и красная пуговка рта довершали ее сходство с ребенком.
Гомер был так захвачен нараставшим в нем возбуждением, что не мог ни говорить, ни думать. Он зажмурился, желая оградить, бережно выпестовать то, что он ощущал. Бережность была необходима, потому что, если он поспешит, все может увять, и он опять остынет. Возбуждение росло.
– Уходите, пожалуйста, я пьяная, – сказала мисс Мартин.
Гомер не шевельнулся, не ответил.
Вдруг она заплакала. Хриплые, отрывистые звуки шли как будто из живота. Она закрыла лицо руками и застучала ногами по полу.
Чувства Гомера были так напряжены, что голова его упорно покачивалась, как у китайского болванчика.
– Я на мели. У меня нет денег. Я без гроша. Я на мели, слышите?
Гомер вытащил бумажник и двинулся на девушку так, словно собирался им ударить.
Она отпрянула, съежилась и заплакала громче.
Он уронил бумажник ей на колени и стоял над ней, не зная, что делать. При виде бумажника она улыбнулась, но всхлипывать не перестала.
– Садитесь, – сказала она.
Он сел рядом с ней на кровать.
– Какой вы странный, – застенчиво проговорила она. – Вы такой славный, я просто готова расцеловать вас.
Он обхватил ее и прижал к себе. Его порывистость напугала девушку, и она попробовала вырваться, но он не отпускал и начал неуклюже ласкать ее. Он совершенно не сознавал, что делает.
Он понимал только, что ощущает нечто упоительно-сладостное и должен разделить эту сладость с несчастной рыдающей женщиной.
Всхлипывания мисс Мартин начали затихать и вскоре прекратились совсем. Он чувствовал, что она ерзает и к ней возвращаются силы.
Зазвонил телефон.
– Не подходи, – сказала она, снова начиная всхлипывать.
Он мягко отстранил ее и неуклюже двинулся к телефону. Звонила мисс Карлайл.
– У вас все в порядке? – спросила она. – Или вызвать полицию?
– Не надо, – сказал он и повесил трубку.
Все кончилось. Он не мог вернуться к кровати.
Его безнадежно несчастный вид рассмешил мисс Мартин.
– Давай сюда джин, бегемотище, – весело крикнула она. – Вон он, под столом.
И он увидел, что она недвусмысленным образом вытянулась на постели. Он выбежал из комнаты.
Теперь, в Калифорнии, он плакал оттого, что больше никогда не видел мисс Мартин.
На другой день директор сказал ему, что он хорошо справился с поручением и что она расплатилась и выехала.
Гомер пытался ее разыскать. В Уэйнвилле были еще две гостиницы, маленькие и захудалые, и он наводил справки в обеих. Осведомлялся он и в меблированных комнатах – но безрезультатно. Она уехала из города.
Он вернулся к привычному распорядку: десять часов – работа, два часа – еда, сон – остальное. Потом он простудился, и ему посоветовали уехать в Калифорнию. Он вполне мог на время бросить работу. Отец оставил ему шесть тысяч долларов, а за двадцать лет бухгалтерской работы в гостинице он накопил по меньшей мере еще десять.
9
Гомер вылез из ванны, кое-как вытерся жестким полотенцем и пошел одеваться в спальню. Он еще больше погрузился в оцепенение и пустоту, чем обычно. Так бывало всегда. Чувства вздымались гигантской волной; она громоздилась все выше, выше, заворачивалась и, казалось, должна была смести все на своем пути. Но она не обрушивалась. Что-то всегда случалось вверху на самом гребне, и волна расплывалась, сбегала назад ручейками, как в водосточной канаве, оставляя после себя, самое большее, тяжелый осадок.
На одевание у него ушло много времени. После каждой вещи он останавливался и отдыхал – в отчаянии, несоизмеримом с затраченными усилиями.
Еды в доме не было, а магазин находился на Голливудском бульваре. Сперва он решил подождать до завтра, но потом, хотя не чувствовал голода, передумал. Было только восемь часов, а прогулкой можно было убить время. Если он не тронется с места, искушение снова уснуть может сделаться неодолимым.
Вечер стоял теплый и очень тихий. Он начал спускаться под гору, держась обочины тротуара. Между фонарями, где тьма была гуще, он ускорял шаги, а в каждом круге света – ненадолго останавливался. К тому времени, когда он вышел на бульвар, он с трудом заставлял себя идти шагом. На углу он несколько минут постоял, чтобы прийти в себя. Он настороженно замер, готовый к бегству; страх сделал его чуть ли не грациозным.
После того как несколько человек прошли мимо, не обратив на него никакого внимания, он успокоился. Он поправил воротник пальто и приготовился к переходу улицы. Не успел он сделать и двух шагов, как кто-то его окликнул:
– Эй, прохожий.
Это был нищий, который приметил его из темного подъезда. Безошибочное профессиональное чутье подсказало ему, что Гомер будет легкой добычей.
– Не одолжишь пять центов?
– Нет, – ответил Гомер неуверенно.
Нищий рассмеялся и повторил вопрос с угрозой:
– Пять центов, прохожий!
Он сунул руку Гомеру в лицо.
Порывшись в кармане с мелочью, Гомер кинул на тротуар несколько монет. Когда нищий бросился за ними, Гомер перебежал на другую сторону улицы.
Продовольственный магазин «Санголд» был просторен и ярко освещен. Вся арматура сверкала хромом, а пол и стены – белой плиткой. Цветной свет софитов играл на витринах и прилавках, оживляя природные краски снеди. Апельсины купались в красном, лимоны – в желтом, рыба – в бледно-зеленом, яйца – в кремовом, бифштексы – в розовом.
Гомер направился прямо в консервный отдел и купил банку грибного супа и банку сардин. К ним – полфунта содовых крекеров – на ужин хватит.
Он вышел с пакетом на улицу и двинулся в обратный путь. Подойдя к повороту на Пиньон-Каньон и увидев, как крут и черен впереди холм, он побрел назад по освещенному бульвару. Он хотел было подождать, пока кто-нибудь еще пойдет на холм, но в конце концов взял такси.
10
Хотя других занятий, кроме нехитрой готовки, у Гомера не было, он не скучал. Если не считать случая с Ромолой Мартин и, пожалуй, еще двух или трех событий, разделенных большими промежутками, сорок лет его жизни прошли без всяких перемен и треволнений. Свою бухгалтерскую работу он делал механически, складывая цифры и занося их в книгу так же безучастно и отрешенно, как открывал теперь банки с супом и стелил постель.
Глядя, как он бродит по своему маленькому коттеджу, можно было подумать, что это лунатик или полуслепой. Казалось, его руки живут и действуют сами по себе. Они сами расправляли простыни и взбивали подушки.
Как-то, открывая себе на второй завтрак банку лососины, он распорол палец. Хотя рана, должно быть, болела, его обычное – спокойное и несколько кислое – выражение лица не изменилось. Раненая рука корчилась на кухонном столе, пока не была перенесена в раковину напарницей, которая стала ласково купать ее в теплой воде.
Когда у него не было дел по дому, он сидел в старом сломанном шезлонге на заднем дворе – или, как именовал его агент, – патио. Гомер выходил туда сразу после завтрака, чтобы пожариться на солнце. Он постоянно держал на коленях потрепанную книгу, которую нашел в одном из стенных шкафов, но в нее не заглядывал.
Шезлонг стоял так, что вид перед Гомером открывался самый неприглядный. Повернув кресло на четверть оборота, он мог бы видеть большую часть каньона, змейкой сбегавшего к городу. Такое перемещение ему не приходило в голову. В поле его зрения была закрытая дверь гаража и клочок его ветхой толевой крыши. На переднем плане стояла закопченная кирпичная печь для сжигания мусора и высилась груда ржавых консервных банок. Правее располагались остатки кактусового сада, где еще корежились в муках несколько живых растений.
Одно из них – пучок мясистых лопатообразных листьев, утыканных уродливыми иглами, – цвело. Из края верхней лепешки торчал ярко-желтый цветок, похожий на головку чертополоха, но грубее. С какой бы силой ни дул ветер, его лепестки не шевелились.
В ямке под этим кактусом жила ящерица. Длиной она была сантиметров двенадцать и имела клинообразную головку, из которой вылетал тонкий раздвоенный язык. Она с трудом добывала тут пропитание охотой на мух, отлучившихся от груды консервных банок.
Ящерица была самолюбива и раздражительна, и наблюдения за ней очень забавляли Гомера. Когда ее коварная засада срывалась, ящерица обиженно топталась на коротких лапках и раздувала горло. Окраской она сливалась с кактусами, но, выбежав к жестянкам, где паслись мухи, она делалась очень заметной. Она часами неподвижно сидела на кактусе, потом, потеряв терпение, кидалась к жестянкам. Мухи замечали ее сразу, и после нескольких неудачных бросков она сконфуженно шмыгала на свой пост.
Гомер был на стороне мух. Когда одна из них, чересчур разлетавшись, приближалась к кактусу, он про себя молился, чтобы она пронеслась дальше или повернула обратно. Если она садилась и ящерица начинала подкрадываться, он следил за ними, затаив дыхание и до последней секунды надеясь, что муху что-нибудь вспугнет. Но как бы ни желал он мухе избавления, о вмешательстве он не помышлял и старался не шевельнуться, не проронить ни звука. Бывало, что ящерица промахивалась. Тогда Гомер радостно смеялся.
Солнце, ящерица и дом заполняли его время почти целиком. Но был он счастлив или нет – сказать трудно. Вероятно, ни то, ни другое, так же как растению не свойственно ни то, ни другое. Правда, его беспокоили воспоминания, а у растения их нет, но после первой тяжелой ночи они улеглись.
Pulsuz fraqment bitdi.