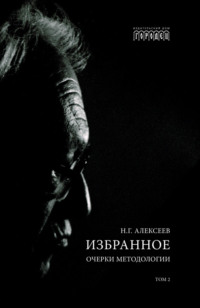Kitabı oxu: «Избранное. Очерки Методологии. Том 2», səhifə 2
Очевидно, что соответствующие разработки при принятии такого плана анализа могут быть весьма обширными, здесь же я в общем виде сделаю лишь два замечания.
Первое – «наблюдательское». Предполагаемая последовательность ходов рассмотрения противоположна, идет «с конца» действительной истории развития ММК. Мне это не представляется случайным, напротив, как уже ранее фиксировалось, связанным с завершением определенного цикла развития соответствующих идей, с доведением их в этом цикле до практической реализации. По «Книге перемен» («И цзин») творческий импульс истончается в месте (среде) собственного исполнения, что, конечно, не означает – а это уже по Шеллингу – его потенциального (идеального) исчерпывания. Ход «с конца» в этой связи, между прочим, означает последовательное снятие тех ограничений, что накладывались в техническом разворачивании – и это естественно, так должно быть – импульса, что хорошо схватывается в двух основных значениях слова «утончение» в русском языке.
Весьма интересна одна, получившая широкое хождение два-три года назад, констатация из практики игр – тезис об избыточности методологических средств. В ней, на мой взгляд, фактически содержится осознание одного из типов ограничений: ограничения, связанного с реализуемостью. Хочется добавить, что подобные ограничения настолько очевидны, «естественны», что именно в силу этого ускользают от внимания анализа; требуется особая культура – культура работы с очевидностью, с тем, что массовидно и повседневно по своему существу либо начинает становиться таковым. Представляется, что такая культура есть неотъемлемый компонент философского (и как продолжающего его – методологического) подхода. На этом, кстати говоря, базируется принудительность и «само-собой-разумеемость» на долгое время получаемых результатов, определенное время исправно работающих «мегамашин».
Второе замечание относится к дальнейшему изложению. В нем очень частично и лишь в первом приближении я постараюсь дать структуру первого захода «от мышления к сознанию», а также наметить – только наметить – планируемый выше второй, противоположный первому, ход. Выйти на более широкое целое (что связано с проработкой соотношения мыследеятельности и деятельности) мне пока не удалось.
4. Соотношение мышления, мыслительной деятельности, мыследеятельности и сознания, по-видимому, задает три разные проблемы, соответствующие, как уже указывалось, различным, и по этому аспекту выделенным, этапам истории ММК. Если брать последний, игровой период, то ведущей, или определяющей, является пятичленная схема коллективной мыследеятельности; собственно, эта схема и есть ее наиболее общее определение. И когда при анализе соотношения мы от нее «идем» к сознанию, то возникает вопрос, от чего конкретно отталкиваться: от схемы в целом (что мне не удалось) или от какого-нибудь ее компонента (была выбрана мыслекоммуникация)? К чему же «придти», представлялось интуитивно ясным: к рабочей характеристике сознания, наиболее часто используемой на играх же. Согласно такой характеристике, достаточно закономерно возникает образ сознания как некоторого «резервуара», своеобразного хранилища, а если с сарказмом и иронией – то кучи, мусорной корзины или свалки. Кстати сказать, именно последнее мы всегда подразумеваем и в обычном словоупотреблении, когда говорим о путаном сознании. Подтверждается это и в первом, приближенном, феноменологическом описании. Достаточно задаться вопросом, а в каких соотношениях друг к другу находятся различные организованности сознания, чтобы стал очевидным простой и в чем-то удивительный ответ: в самых разных! Организованности сознания в отношении друг к другу могут выступать и как противоречивые, и как взаимодополняющие, совместимые и несовместные, зависимые и независимые, в самых различных типах обуславливания и т. д. и т. п., – и все это в одном, произвольно взятом, индивидуальном сознании, нечто подобное «женской логике». Сие получило свое обоснование и в философии; представьте себе, что мы поверим и примем механизмы порождения идей во внешнем опыте, предложенные Локком: ассоциации (связи) по смежности, сходству и контрасту, и как только примем, сразу и с неизбежностью получим вышеописанную картину. Парадоксально, что она действительно есть, что сознание выступает как организованное и неорганизованное одновременно.
Возникает желание его «почистить», внести организованность. Я опущу здесь крайне животрепещущую сейчас этическую сторону подобного желания (это требует особого и не очень легкого разбора), подчеркну лишь, что в мировой культуре сложились две (опуская промежуточные, смешанные формы) традиции работы с сознанием. С первой из них связаны техники работы, направленные на очищение сознания посредством как бы его полного физического опустошения, приведения к своеобразному нулевому состоянию, где некий сохраняющийся «маяк» (он может быть самым различным, вплоть до аморфного, размытого фона) определяет возможность последующего упорядочивания сознания как бы заново. Таковы различные техники медитации, методы Р. Штейнера, «чистка сознания» по К. Кастанеде и др. Их все условно можно назвать «восточным подходом», естественно-искусственным способом. Возможна и принципиально иная ставка – ставка на борьбу через посредство логоса; здесь при воздействии на сознания (имеются в виду индивидуальные сознания) используются другие техники: проблематизация и распредмечивание, идеализация и схематизация, рефлексия и т. д. «Играющим людям» они хорошо знакомы; их, в свою очередь, можно обозначить «западным подходом», или искусственно-естественным способом. В плане своей практической реализации указанные техники наиболее полно разработаны в ОДИ.
Сказанное дает возможность перейти к соотношению, но предварительно еще следует выяснить, каким образом, через что его характеризовать. В общем-то, знать нечто – означает выразить его через другое. В нашем случае представляется уместным построить различение посредством категориальных связок, т. е. используя привычный для нашей традиции аппарат. Способ характеристики уточняется, в нем возникло несколько кандидатов (вполне возможны и другие) на проведение различения: внешнее и внутреннее, искусственное и естественное, процесс и результат. Выбор пал на последнее.
Существенным и принципиальным в игротехническом опыте является то, что «работаем» мы с материалом (вступаем в диалог, поддерживаем и т. д.): с отдельными субъектами, с игроками каждой данной ОДИ, любой из которых имеет свое и всегда конкретное индивидуальное сознание, а организуем и управляем – и это второй слой нашей «работы» – совместной, включающей и игроков, и организаторов игры, коллективной мыследеятельностью, текущей между всеми участниками игры.
И здесь проступает обозначенное выше различение, выражаемое в методологической рефлексии в категориальной связке «процесс – результат», переводящей снятый в ОДИ практический ракурс в теоретическое различение. Согласно ему мыследеятельность начинает трактоваться как процесс – процесс, заранее, в ходе подготовки игры, продумываемый, а следовательно (с корректировками), ее организующий и ею управляющий, и то, что откладывается, отпечатывается в сознании в ходе этого процесса, представляется его результатом.
В процессе мыследеятельности, коллективной мыследеятельности, первоосновой, тем, откуда все идет и, в конечном счете, за что все «цепляется», является ее коммуникативная составляющая. Если принять это за аксиому, то становится очевидной центральная роль анализа форм, или способов, организации коммуникации и выбора соответствующих средств ее проведения. Такой подход разворачивается в разработке открытой системы понятий; среди них можно указать, например, на такие, как позиция, самоопределение и т. д. Отметим, что через организацию значимого для участников диалога в ОДИ достигается подключение «субъективирующих процессов» мыследеятельности, понимания и рефлексии, служащих – что в данном рассмотрении принципиально важно – переходным мостиком от существующей вовне деятельности, актов деятельности, к их «овнутрению», к индивидуальным сознаниям участников игры.
Итак, процессы мыследеятельности отпечатываются на специфических живых субстратах, в индивидуальных сознаниях. Можно рискнуть сделать заявление, что это, с той или иной силой или глубиной «отпечатка», имеет место всегда, будь то ОДИ либо какая-нибудь значимая жизненная ситуация. Теперь предстоит выяснить: что отпечатывается? Иногда это выражается в иной форме: что снимается? В ответе целесообразнее всего прибегнуть к представлению о многослойности, делая тем самым – как бы это ни показалось завышенным – кардинальный шаг, уже переводящий нас к структурам сознания, а тем самым и к постулированному вначале «обратному ходу» – от сознания к мыследеятельности.
Приведем простое – насколько возможно простое – различение: одно дело, когда отпечатывается склеенное, сращенное с предметностью представление, и другое, когда отпечатывается сам путь движения, «взятие» данной предметности. Объективируясь в сознании, эти два отпечатка будут играть в нем весьма различные роли, обслуживать различные его функции. Описав их в логике, идеально, мы получим первую, пусть примитивную, структуру сознания, полученную – что представляется даже сверхважным – не через компилятивную обработку, а через общую игротехническую практику и собственный опыт в ней.
5. В данных заметках мне хотелось выстроить себе плацдарм для последующей работы, т. е. попытаться «подергать» проблему с разных, кажущихся значимыми, сторон. Многое потом может показаться и наивным, и просто неправильным, тем не менее, кое-что нащупано, почувствовалось и даже начало собираться, образовался материал для обдумывания и практики. Если изложенное хоть в чем-то поможет интересующимся данной проблематикой, то автор будет считать свою задачу выполненной.
Стратегия разработок по использованию оди в системе педагогического образования*

Введение. Общий замысел и характеристики разработки
Уже с момента возникновения Московского методологического кружка (ММК) в конце 50-х годов, а особенно после появления в 1979 году ОДИ, развиваемые в нем идеи оказали и продолжают оказывать все более сильное влияние на отечественную (и не только) психолого-педагогическую мысль. Первоначально это влияние осуществлялось через различные формы непосредственных контактов. Сейчас, с появлением игр, в методологическое движение включились в той или иной форме тысячи, возможно, десятки тысяч людей. Думается, это имело и имеет как свои позитивные, так и негативные последствия. В любом случае вновь остро возникает вопрос (проблема) трансляции методологического движения в целом; вопрос о том, как должны развиваться игротехника и методология, избегая по возможности ловушек и провалов, связанных с процессами омассовления самой этой деятельности. Это относится и к методологическим разработкам, ориентированным на проблемы образования, обучения и воспитания. Указанная проблема, кроме социальной, связанной с омассовлением и, соответственно, «ремесленизацией» деятельности, имеет и свою внутреннюю, внутридеятельностную сторону: методология умирает в своем продукте, «продуктное» движение превращает методологию в научную дисциплину; суть дела не меняется от возможных приставок-прилагательных: комплексная, синтезирующая или даже управляющая научная дисциплина. Может быть, умирание – жизнь вспышками – вообще судьба методологий, но все-таки хотелось бы этого избежать, поскольку думается, что далеко не все ресурсы движения уже исчерпаны.
Все это имеет прямое отношение к замыслу нашей разработки. Проанализируем этапы ведущейся трехлетней работы. В 1991 году мы сосредоточили свои усилия на организации экспериментальных площадок исследования, т. е. на первичной выборке педагогов и других работников образования с целью их практического ознакомления с методами и приемами работы ОДИ. Ha втором этапе, охватывающем 1992 год, выделенные и получившие первичную практику в ОДИ педагоги под руководством и при консультации разработчиков должны (по плану) приложить усилия к переработке освоенных средств и представлений применительно к специфическим условиям своей деятельности, что предполагает в первую очередь их самостоятельную работу. Наконец, в 1993 году (третий планируемый этап) они уже (по замыслу) должны строить собственное окружение, т. е. научиться передавать (по-видимому, по типу ОДИ) свои собственные наработки. Разработчики проекта при этом выполняют функции экспертов и консультантов.
Нам думается, что в таком построении закладывается особый механизм трансляции, во многом альтернативный тем механизмам, которые пока еще преобладают в сфере образования. Этот альтернативный механизм мы пока условно назвали «коммуникативной трансляцией», подчеркивая особенно важное и большое место, отводимое в нем непосредственно живой коммуникации, позволяющей быстро и эффективно решать возникающие вопросы и затруднения. Неверно было бы утверждать, что подобные механизмы трансляции ранее не существовали в практике. Например, механизм такого рода заложен в трансляцию идей и методов научной школы классического образца XIX – начала ХХ вв.; думается, весьма сходные механизмы реализуются в религиозных организациях; вероятно их использование и в других случаях. Для нас же существенно апробировать данный механизм применительно к сфере образования.
В статье мы обсудим стратегию нашей работы в данном направлении, наши цели, те результаты, которые мы ожидаем от работы, а также возможные негативные последствия разработки. Но сначала мы введем общее представление о стратегии, дающее нам возможность в соответствии с ним строить нашу разработку.
Представление о стратегии
Существует много самых разнообразных определений стратегии из военного искусства, из политики, да и из других сфер человеческой деятельности. Наша задача не состоит в том, чтобы поставить в их ряд еще одно; не состоит она и в попытке объединить их, выделяя нечто общее, присущее им всем. Смысл дела, если его кратко определить, – в разработке процессуального аспекта, можно даже сказать – процессуально-рабочего. Иными словами, смысл – в «стратегировании», т. е. в создании механизма или инструмента построения стратегии, выделении и фиксации норм, лежащих в основании стратегического подхода к выбранному для себя делу, к его мыслительному (идеальному) обдумыванию и предварительному проигрыванию. Будучи втянутым в реальный процесс, подобный инструмент выполняет две основные функции: отбор нужного материала и, частично (поскольку включаются и другие средства), его преобразование. Такой подход к построению представления (понятия) о чем-либо вообще свойственен методологическим разработкам, базирующимся на идеях ММК, в частности, на схеме двухплоскостного ортогонального строения любого действительно работающего мыслительного образования.
Впервые это представление возникло в непосредственной практической ситуации при проведении ОДИ с московским заводом «Карбюратор», входящим в объединение «ЗИЛ». В середине 1980-х годов несколько разных команд провели серию ОДИ на тему стратегии развития (перестройки) заводов, промышленных объединений, ИПК и других организаций. Само слово «стратегия» при этом выносилось в заглавие ОДИ, ее разработка являлась одним из ведущих стержней игрового действия. Организующая его методологическая группа с необходимостью должна была «по идее» иметь (выработать) соответствующее понятие. В случае ОДИ на заводе «Карбюратор» его необходимо было представить в виде последовательности тактов общего движения игры, когда каждый из тактов определяет игровой день. Отметим, что играющие должны были сначала в своем реальном действии последовательно прожить процесс «стратегирования» – разработки различных стратегий развития своего предприятия, понять и оценить их и лишь затем последовательно, шаг за шагом, отрефлектировать сам процесс создания собственных стратегий. Разработанное методологами представление о стратегии прошло при этом весьма жесткое апробирование, в чем-то весьма сходное с естественным процессом отбора и закрепления слов в разговорном языке: надуманное и усложненное, а главное, не дающее возможности строить действие и понимать действия других (организационно-деятельностная и онтологическая составляющие) сразу же отметается, не выдерживая практической проверки. Созданное на данной ОДИ представление о стратегии было задействовано и на ряде других игр. Нам представляется, что оно может эффективно использоваться и для продумывания и планирования самых различных научно-исследовательских разработок, в том числе и в сфере образования, особенно, если эти разработки рассчитаны на перспективу и планируются не как отдельные изолированные акции, а в качестве развертывающейся системы действий, в конечном счете определяемых ценностными установками ее проектантов.
Именно с ценностей и начинается приводимое ниже на схеме № 1 представление о стратегии. Сама схема, неся отпечаток способа своего возникновения, организована как последовательность четырех блоков (каждый из которых служил средством организации игрового дня), а их последовательность задает содержательно-предметное движение в соответствующих (посвященных стратегии) ОДИ.
Вкратце разберем смысл отдельных элементов схемы и некоторые ее общие характеристики. Это даст нам возможность понимать общую (методологическую) конструкцию стратегии развертывания разработок по нашему проекту «Использование ОДИ в системе педагогического образования».
Схема 1. Схема рефлексивной стратегии

Несколько общих замечаний по схеме в целом.
Во-первых, выделенные в ней функциональные этапы (1–4) задают логику стратегирования. Как уже указывалось, этот порядок отражает не только факт (тип) первоначального конструирования схемы в условиях подготовки и проведения ОДИ, но и необходимость систематического изложения. В реальной практике вполне возможны перестановки, возвращения от одного функционального этапа к предыдущему, своеобразные возвратные и кольцевые движения. Более того, подобные возвраты и перестановки являются эмпирической нормой конкретных разработок.
Во-вторых, функционально различную роль имеет каждый из двух элементов левого столбца схемы: первый как бы предзадан, уже очевиден либо из предшествующего опыта, либо непосредственно из предыдущих этапов разработки стратегии (с последним связан перенос правого элемента по схеме на ступень ниже в левую часть). Второй же элемент левого столбца выражает то, над чем в данный момент времени идет работа и поиск; в игровых ситуациях он всегда ситуативен (момент ситуативности сохраняется и при других формах использования схемы). Построение содержания правой части схемы – что является практической целью каждого этапа – складывается, таким образом, из связывания уже предзаданного и привносимого нового.
Вкратце поясним теперь части (блоки) схемы.
В первой части представлен один из возможных механизмов формирования и формулировки целей. Утверждается, что необходимо последовательно (а в какой-то мере и неуклонно) проводить соотнесение (связывание) ценностей строящего стратегию с его позицией (позициями). Важно подчеркнуть не единственность, а множественность существования и того, и другого. Предполагается, что ценности уже предзаданы, сложились в предшествующем опыте разработчика в качестве некоторых достаточно устойчивых (странно, если бы это было не так) образований, и задача состоит в их адекватном – в разбираемом отношении – выделении и кодификации. Под позицией прежде всего имеется в виду способ реализации ценности, включающий в себя место, с которого она реализуется, отношение (качество и степень) к другим ценностным установкам и т. п. Позиция, таким образом, выступает как активность, реализуемая в проведении ценности: в ней ценность не декларируется, не просто заявляется, а живет, реализует свой потенциал, либо – противоположный случай – уходит от самовыражения. Неопределенность позиции (для разбираемых случаев «стратегирования») связана с невключенностью в действие. Таким образом, сам процесс связывания ценности и позиции для получения цели есть процесс практический, существенным моментом которого (если он не имеет четко выраженного формалистического характера) является ответственность за то, что в выбранном деле может быть сделано.
Итак, суть первого блока стратегии – в полагании целей. Положенные цели доопределяются (частично изменяются) в последующих блоках.
Возможно, неожиданным (как было, по крайней мере, для нас), а также проблематичным и даже спорным является ход рассуждений по второму блоку, а именно: как получаются средства? Суть выдвигаемого утверждения в том, что они возникают в коммуникации при сопоставлении (согласовании либо противопоставлении) позиций или собственно целей. Мыслекоммуникация при этом может быть как реальной и состоять в фактическом и непосредственном диалоге заинтересованных лиц, так и протекать в режиме имитации. Сопоставление позиций по отношению к чему-либо образует проблемное поле, уяснение способа выхода из него (разрешения, углубления и т. п.) служит толчком, который при рефлексивном оформлении является ведущим в появлении или образовании новых средств для продолжения деятельности. Положение, имеющее, не побоимся сказать, колоссальное эвристическое значение.
Если следовать гегелевской традиции и терминологии, то во втором блоке происходит уже не полагание целей (целеполагание), а целеопределение.
Третий блок (единица) предлагаемого представления о стратегии (а значит, и стратегии нашей разработки) строится по тому же пути: для получения результатов средства полагаются уже заданными (что не противоречит возможности их дальнейшего уточнения и переопределения), вторым же «ситуативным» элементом берутся условия. Важно подчеркнуть, что условия – весьма активный элемент, они формируются и идут от разработчика. В этом смысле условия противоположны обстоятельствам, которые от деятеля не зависимы. Обстоятельства преобразуются в условия через наложение на первые ограничений. В том, какие ограничения окажутся наложенными, проявляется активная сторона деятеля, его цели, средства и т. д.
Полученные результаты (четвертый блок), включаясь в ткань деятельности и мыследеятельности, начинают в ней «жить» уже независимо от породивших их деятелей и иногда не совсем так, как им хотелось бы. Это факт, ставший в настоящее время хорошо известным и предполагающий еще до получения результатов предварительное обдумывание и просчет тех воздействий, положительных и отрицательных, которые полученные продукты (или результаты) могут оказать. Это не может не относиться и к педагогическим разработкам, хотя, насколько нам известно, этому – особенно негативным последствиям – практически не уделяется внимания, как будто бы само их появление просто невозможно. Учет последствий, на наш взгляд, связан с выходом в более широкое целое по сравнению с организованностями, в которых производится конкретная разработка. Одной из форм такого выхода является учет тенденций, через которые просчитываются ситуации будущего, куда вводятся результаты разработки, т. е. те места, где результаты будут «жить», играя ту или иную роль. Анализ последствий уже с иной точки зрения, но на основе заранее проделанной работы в предыдущих блоках стратегирования, выводит на первоначально сформулированные цели и на базовые ценности. Конец стратегического движения замыкается на его начало, образуя кольцевую структуру.
Описание предметизации схемы по замыслу нашего научно-исследовательского проекта составляет содержание следующих разделов статьи.
Цели разработки
Общая цель нашей работы – распространение «идеологии» и методов ОДИ на сферу образования. Здесь мы дадим ее расшифровку. Как уже было установлено ранее, это предполагает особое связывание ценностей и позиций разработчиков, к чему теперь следует добавить: на особом типе действования – методолого-игровых методах, прикладываемых также к специфическим ситуациям образования (обучения). Это можно представить на схеме 2.
Как видно, связывание наших ценностей и наших позиций идет двумя основными путями: через принадлежность к одной культуре (ММК и ОДИ) и через обращение пусть и к предельно широкому, но мыслимому в качестве единого, материалу (образование и обучение). Этим определяется центральная ценность – ценность методологизации.
Схема 2. Предметизация схемы стратегирования на сфере образования

Ее можно определять по-разному, более того, разнообразие выступает не как недостаток, а как норма и достоинство. Наши представления о ценности методологизации мы развернем, обсудив, во-первых, соотношение общечеловеческих, культурных и деятельностных ценностей, а во-вторых, состав деятельностных ценностей методологизации.
Провести различение общечеловеческих, общекультурных и деятельностных ценностей необходимо, поскольку именно последние непосредственно влияют на построение и проведение стратегии нашей работы. Мы, конечно, понимаем, что и первое, и второе, и третье суть своего рода абстракции, в том числе – абстракции усреднения, когда речь идет не об отдельных индивидах, а о различных коллективах людей. Индивидуальные ценности уже по своему полаганию уникальны и во всех своих особенностях неповторимы, что проявляется и в деятельности индивида, обеспечивая ее разнообразие. Относится это в полной мере и к лицам, составляющим коллектив разработчиков. Вряд ли можно сказать, что по своим общечеловеческим ценностям они отличаются от других коллективов людей; единственное, что, пожалуй, следует отметить: это преобладание общечеловеческих ценностей активного порядка. Иное положение с общекультурными ценностями, что связано с прохождением всех участников работы (хотя и по разным траекториям) через ММК, который образует в отечественной современной поликультуре мощное и специфическое субобразование. Укажем на некоторые специфические для ММК ценности. Это, во-первых, осознанное или неосознанное (в данном случае это безразлично) стремление к групповой работе и ее приоритет, что выделяет ее из других форм творчества; во-вторых, стремление к межпрофессиональной деятельности с понижением значимости профессионализма и замыкания в нем; в-третьих, выделение методологизма (форма методологизма при этом может быть самой различной) и вера в него как в будущую культурную парадигму; далее, складывающаяся почти на автоматическом уровне привычка к анализу ситуации, какой бы характер последняя ни носила. Если попытаться построить обобщенный портрет методолога, то он напоминает пионера Америки конца XVIII – начала XIX вв., двигавшегося (и имевшего на то возможности) все дальше и дальше без освоения и тщательной проработки территории на уже освоенных рубежах. Методолог, как и американский пионер, стремится все сделать сам, ни от кого не завися. И, продолжая аналогию, как последний верил в свои силы, так и методолог верит в свою способность осмыслить ситуацию и построить средства выхода из нее. Его оружием является уже не винтовка, а рефлексивное снятие своего опыта. Этим сравнением нам хотелось не столько последовательно описать (а это крайне сложная задача) систему общекультурных норм ММК, сколько дать ее хотя бы по возможности почувствовать и представить, чтобы перейти к тому, как и во что они преобразуются в деятельностном залоге.
а) Ценность мыследеятельности. Вовлекая всю личностную структуру своих мыслекоммуникантов в мыследействие, методолог стремится реализовать именно его, разрушая – как препоны к мышлению – привычные формы и способы действия. У методолога это «в крови». Что бы ни утверждал тот или иной член ММК относительно своего отношения к мышлению, даже к методологии, указанное свойство как ценность является его отличающей и выделяющей – по его действиям – чертой. Применительно к нашим разработкам интересно сравнить в данном отношении научный и методологический подходы: первый, говоря о мышлении и ценности его развития у учащихся, разрабатывает методы, способы и приемы решения задач и проблем; методолог же видит свою цель в построении проблемности как таковой, полагая (во многом справедливо), что, в конце концов, дело учащихся справляться с ними. Справедливости же ради следует отметить, что методолог проблематизирует и себя наряду с остальными участниками коллективного действия. В мировой культуре (за исключением отдельных техник коанов в дзен-буддизме), пожалуй, нет направления, которое столько бы времени посвящало техникам проблематизации.
б) Ценность развития, которая полагается выше остальных, поскольку обеспечивает движение, процесс. Вполне возможно, что это отголосок неокантианства, повернутого в социально-психологический аспект; достаточно вспомнить «ревизиониста» с его «движение все, результат ничто». Впрочем, здесь происходит интересная сдвижка, даже аберрация – собственно движение и становится искомым и желательным результатом. Данная ценность – такова, думается, судьба любых реально работающих ценностей – существует не отдельно, как нечто изолированное и выделенное, а тесно коррелирует с другими, в частности, с ценностью мыследеятельности. Важно не просто строить мыследеятельность, а обеспечить ее развитие. По отношению к обучению (более широко – к образованию) это специфицируется в тезисе о развитии в первую очередь мыслительных способностей. Характерно отрицательное отношение, сложившееся в ММК к передаче «готовых форм» мыслительной деятельности, различных логических приемов и способов. Они должны быть построены в действии, порой мучительном и тяжелом. Их построение самим человеком, в его опыте, обеспечивает достижение, по крайней мере, двух вещей: а) уникальности, сращенности приобретаемой техники с личностью и, следовательно, б) актуальной возможности ее последующего развития как личного достояния, как своего.
в) Как же получается этот эффект своего? С этим связана третья работающая ценность – ценность рефлективного опыта оформления. Идея эта восходит в ее сущностном моменте к работам И.Г. Фихте, впервые тесно связавшего свободу и мышление через рефлексию: свобода появляется не просто в возможности произвольно совершить нечто (здесь свобода оказывается связанной материалом, над которым совершалось действие), а в идеальном оформлении совершенного (сиречь в рефлексии); последнее предполагает внутренние (по замыслу Фихте) средства, то есть свои, те, которые выбираются самим действующим, и мы имеем бытие несвязанной свободы. Возможно, данное рассуждение несколько сложно и требует перевода на более простой язык. Сделаем это: включенный в деятельность человек является одновременно и действующим, и испытывающим действие других (по крайней мере, последним он «связан»). В осмыслении, рефлексии прошедшего им избирается своя – подчеркнем, своя – точка зрения или угол зрения (он не связан); выделенное и оцененное им в прошедшем действовании и есть его опыт в его уникальных особенностях как деятеля. Общее для всех получает свое конкретное, специфическое выражение. Рефлексивное снятие, оформление опыта как ценность дает возможность по-особому взглянуть на игровые методы, а именно как на то, что обеспечивает возможность проживания нестандартного опыта (и его критики в проблематизации), причем – за счет имитации различных вариантов действия – в максимально полной по возможностям ситуации форме. Ценность игры и ценность рефлексивного снятия опыта оказываются неразрывными аспектами (фокусами) одного и того же.
Pulsuz fraqment bitdi.