Kitabı oxu: «Караси и щуки. Юмористические рассказы»

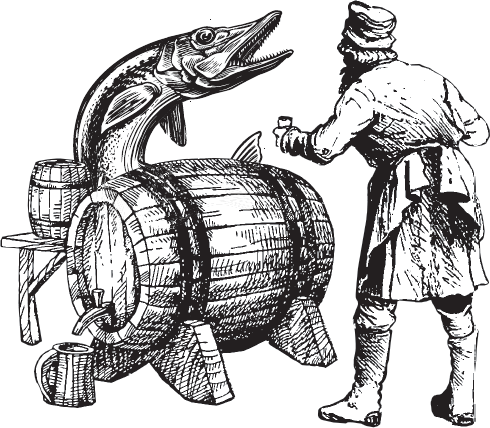
© «Центрполиграф», 2024

Устрицы
В день Алексея – человека Божьего, 17 марта, мелкий торговец Алексей Вавилыч Терентетников был именинник. Сходив поутру к ранней обедне, он зашел в гастрономическую лавку и вернулся оттуда с целой корзинкой покупок. Жена, дети и приказчики ждали его, чтоб поздравить с ангелом.
– С ангелом, Алексей Вавилыч, честь имеем вас поздравить! С ангелом тебя! С ангелом, папаша! – заговорили все вдруг на разные голоса и по чинам подходили к имениннику.
– Спасибо, спасибо вам, – отвечал именинник, ставя корзинку на стол, на котором уже кипел самовар, и расцеловался со всеми. – Ну, садитесь, так гости будете. Вот сейчас чай пить станем, – обратился он к приказчикам.
Все сели к столу. Жена Терентетникова разливала чай.
– Что это такое принес? – спросила она мужа, кивая на корзинку.
– А тут закуски разные, особенные.
– Еще? Да ведь уж вчерась ты, кажись, все купил?
– То само собой, а это само собой. Встретился за обедней с одним лицом и просил его к себе сегодня на пирог; ну вот прикупил особых закусок, на аристократический вкус.
– Верно, Антиподиста Тарасыча встретил?
Терентетников иронически улыбнулся.
– Гм! Да нешто Антиподист Тарасыч – лицо? – сказал он. – Разбогатевший купец и больше ничего. А я настоящее лицо пригласил.
– Ну, все-таки и Антиподист Тарасыч нониче себя на аристократической ноге держит.
– На аристократической ноге он себя держать может, а все-таки он не лицо, да и аристократических закусок есть не будет. Вкус у него такой же, как и у нас. Давно ли еще он щи-то лаптем хлебал! А ты уж сейчас: «лицо»! До лица-то ему, как кулику до Петрова дня, далеко.
– А разве у аристократов, папенька, вкус особенный? – спросил сын, мальчик-подросточек.
– Конечно же, особенный. На паюсную икру, на кильку да на селедку они не очень льстятся; для них нужны устрица, кривая камбала, олений язык. Вот я эту категорию и купил. Спрашивал козла маринованного, да не было в лавке. А знаю, что все аристократы козла с удовольствием едят.
– Кто же у тебя будет-то? Что за лицо такое? – допытывалась жена.
– Лицо настоящее. Одно слово – особа. Наш приютский генерал Валерьян Иваныч Никодимцев будет – вот кто, – пояснил Терентетников. – Пожалуйста, Пелагея Николаевна, ты насчет пирога-то постарайся, не ударь в грязь лицом. Да вот тут и устрицы, и олений язык – все это надо как в аристократических домах…
– Пирог – уж это мое дело, а до устриц я и не дотронусь. Боюсь я их. Возись с ними сам, как хочешь.
– Есть их тебя никто и не заставляет. Я их и сам отроду не едал, да и есть не стану, а только поставь их на стол как следовает.
– И дотронуться боюсь. Что это за пища такая, которая пищит и которую живьем надо есть!
– А разве устрицы пищат? Покажите, папенька, как они пищат, – упрашивали дети.
– Да говорят, что пищат, а пока я их нес сюда, по дороге никакого писку не было, да вот и теперь из корзинки не слыхать никакого пищания.
– Смотри, не навязали ли тебе дохлых? Накормишь дохлятиной-то генерала, так он тебе покажет.
– А в самом деле, надо посмотреть.
Терентетников развязал корзинку.
– Вот это олений язык. Вот это кривая камбала, – вынимал он закуски. – А вот и устрицы на дне. Нет, не пищат. Постой-ка, я их пошевелю… Совсем не пищат. Что же это значит? Уж и в самом деле, не дохлых ли…
В корзинку заглянул и старший приказчик.
– Пищат они тогда только, когда их открывают и кушают. Всякий скот, какой бы он ни был, само собой, свою погибель чувствует и пищит перед смертью. А здесь зачем же они пищать будут, коли их не трогают? Они даже и не открыты у вас.
– А чем их открывают? Вот мы сейчас бы послушали, пищат ли они?
– Пес их знает, чем. Признаться сказать, не трафилось видеть, как их открывают. Гвоздем, я полагаю, можно.
– Петенька! Принеси гвоздь. Да принеси какой-нибудь побольше, – приказал отец сыну.
Явился гвоздь.
– Ну-ка, ты, Гаврила… У тебя силы-то побольше… – обратился Терентетников к приказчику.
– Нет уж, вы сами, Алексей Вавилыч… Я и в руки-то никогда такой нечисти не брал, – отказался приказчик. – Ведь это все равно что лягуха.
– Да чего ты боишься-то? Ведь она не кусается.
– Кусаться не кусается, а так защемить палец может, что потом и не выдернешь.
– Эх, трусы! Давай сюда полотенце, давай гвоздь.
Терентетников взял устрицу в полотенце и начал ковырять ее гвоздем.
– Петенька! Отойди к сторонке. Не стой близко! – кричала мать. – А то еще, чего боже избави…
– Я, маменька, только хочу посмотреть, с рогами она или без рог…
– Отойди, тебе говорят!
– Ну что ты кричишь на всю комнату! Ну что она ему сделает! Я вот и в руках держу, да и то ничего. Ведь отворяют же ее как-нибудь люди, и никакого она им вреда…
– То люди привычные. Привычные люди и на медведя без вреда ходят.
– Вишь, подлая, как крепко закупорилась! – ковырял устрицу Терентетников, но тщетно, устрица не поддавалась, как ни запускал он гвоздь. – Недозрелых он мне каких-нибудь дал, что ли? Нет, не могу!
Терентетников бросил и устрицу, и гвоздь.
– Вот тоже, купил хороших закусок! – попрекала его жена. – Тьфу! Пойди, вымой руки-то, не пей так чай. Ну что за охота погаными руками за хлеб хвататься!
– Я в полотенце держал, а руками не хватался.
– Отчего вы в лавке не попросили откупорить их? – спросил приказчик.
– Да думал, чтоб они у меня дорогой не повыскакали из корзинки.
– Никогда не выскакнут. Эта тварь за свое поганство проклята от Бога и обязана на себе свой дом таскать. Она к своей раковине прикреплена.
– Ну, думал, чтоб не подохли без скорлупы… однако, ведь открыть-то их все-таки надо же. Как их будет ужо генерал-то есть?
– Сам откроет. У господ на этот счет сноровка огромная. Господа их как-то лимоном… Лимона подпустит – сейчас она рот откроет и запищит. Ну, тут и глотай. Дожидаться уж некогда, а то и язык и губы притиснет.
– Дай-ка сюда лимон, Пелагея Николаевна.
Пожали лимона, но устрицы все-таки не открывались.
– Ну, что тут делать с ними, окаянными! – недоумевал Терентетников. – А надо посмотреть, живые они или нет. Ну, как я их на стол генералу подам, ежели они дохлые? Попробовать разве их в ступке пестом истолочь? Запищат – ну, значит, живые.
– Зачем же в ступке, Алексей Вавилыч? В ступке можно сразу убить эту тварь, и тогда никакого пищания не услышите. А лучше я их поленом на лестнице, на каменной ступеньке… – вызвался младший приказчик, молодой парень.
– А и то дело. На-ка… Чего ты боишься-то? Бери в руки. Потом вымоешь.
– Нет, уж давайте лучше в полу сюртука…
Приказчик побежал на лестницу. Ребятишки побежали за ним.
– Ну, заварил ты кашу с этими устрицами! – сказала Терентетникову жена.
– И не говори! – отвечал тот, махнув рукой. – Уж и сам не рад. И дернуло меня!..
Послышались с лестницы удары. Через минуту торжествующий приказчик вернулся.
– Вдребезги разбил-с. Вот, пожалуйте. Уж я дубасил, дубасил… – сказал он.
– А пищание было?
– Не токмо что пищание, а даже и мычание, и как бы стон. Вот и Петенька слышал.
– Молодец, Иван! Ну так вот что: разбей ты мне их все… Авось в три-то часа времени они и не подохнут. А то где же генералу самому с ними возиться!
– С превеликим удовольствием, – отвечал приказчик. – Я их теперь обухом от топора…
Через час блюдо, нагруженное осколками устричных раковин вперемешку с раздробленными устрицами и грязью, стояло на столе и ждало генерала.
Пелагея Николаевна Терентетникова ходила около стола и всякий раз сплевывала при взгляде на кашу из устриц и раковин и говорила:
– Не понимаю, как могут аристократы такую гадость есть!
Великопостный концертант
Купец Тараканников сидел у себя на лесном дворе в конторе и щелкал костяшками на счетах. Вида он был сурового, имел бороду неподстриженную, носил долгополый сюртук и сапоги, смазанные салом. Пощелкав на счетах, он заносил что-то в большую торговую книгу, выводя в ней пером каракульки. Контора была комнатка сажени в три в квадрате. В ней помещался клеенчатый диван, пара стульев и стол перед оконцем. На столе, рядом с торговыми книгами, стоял медный чайник, прикрытый мешком из-под муки, а на мешке сидел и грелся от горячего чайника большой серый кот. В углу висел старинный образ в серебряном окладе и горела лампада, а рядом с образом помещалось торговое свидетельство в темной деревянной рамке под стеклом. Вот и все убранство конторы.
На дворе на снегу два приказчика в полушубках и валенках боролись друг с другом, стараясь согреться. Купец увидал борьбу, пробормотал себе под нос: «Вишь, стоялые жеребцы, разбаловались!» – и, погрозив им в окно кулаком, прихлебнул чаю из стоявшего на столе стакана. Приказчики перестали бороться.
Опять зазвякали счеты. Купец совсем углубился в занятия. В это время скрипнула дверь, и со двора пахнуло холодом. Вошел старший приказчик в бараньем, крытом сукном тулупе.
– Что тебе, Звиздаков? – спросил купец, не поднимая головы.
– Вот какая существенность желает вас видеть, – отвечал приказчик и положил перед хозяином визитную карточку.
На карточке было напечатано:
«Придворный пианист шаха Персидского и короля Абиссинского
ФРИДРИХ БОГДАНОВИЧ ШПИЦРУТЕН».
– Пьянист… Вишь ты, чин какой!.. Даже и не слыхивал я про такой чин, – пробормотал купец. – Да что ему надо-то? Ежели лесу, известки или изразцов, так ты продай ему сам. Ведь не горы же ему товару требуется, чтоб особенной уступки просить.
– Я уж предлагал им-с, но они говорят, что им товару не надо, а желают вас лично видеть.
– Из восточных человеков этот персидский-то?.. Ну, как его там по чину-то…
– Кажись, как будто на немца смахивает, а впрочем, пес его ведает.
– Да кафтан-то на нем какой?
– Одежа господская, при пальте и шляпа котелком, а вид как бы на манер холуя. «Желаю, – говорит, – непременно видеть самого Порфирия Севастьяныча Тараканникова».
– Ну, веди его сюда… Что за пьянист такой персидский и что ему от меня нужно!
В контору вошел маленький юркий блондинчик с длинными волосами и с клинистой реденькой бородкой. Одет он был в холодное пальтишко, и шея была закутана бумажным синелевым шарфом.
– Честь имею рекомендоваться: придворный пианист персидского и абиссинского дворов Фридрих Богданыч Шпицрутен, – заговорил он с сильным немецким акцентом.
– Так-с… Оченно приятно, – проговорил купец, осматривая его с ног до головы. – Что же вам будет угодно?
– Я артист и устраивай на будущей неделя вокаль-инструменталь концерт.
– Артист? – переспросил купец. – А сейчас сказали, что… пьянист какой-то. Какой же на вас чин на стоящий-то?
– Я есть артист-пьянист. Я играй на рояль и учитель музик. Я медаль имей от шах персидский.
Блондинчик расстегнул пальто и показал какую-то зеленую ленточку в петлице сюртука.
– Гм… Музыкант, значит? Верно, балаган хотите к Пасхе строить, так лесу в кредит нужно? Наперед говорю: не дам. Я выстройкой балаганов не занимаюсь и никаким артистам в долг товар не верю. К Малафееву идите, это его дело.
– Нет… Я от княгиня Хвалицын к вам. Княгиня Хвалицын – такой добрый госпожа для нас славянский чех и послала меня к вам. «Идите, Фридрих Богданыч, к купец Тараканников. О, он большой патриот на славянский братья и меценат на артист». Это княгиня мне… – пояснил он.
– Княгиню знаем. Мы ей каждый год на приют сто рублей вносим, патриотизмом нашего отечества тоже занимаемся, потому без этого нельзя, ну а вам-то что же будет от меня угодно?
– Вы есть славянский патриот, а я есть чех. Вы так любезны и большой меценат на славянски артисты, а я даю большой вокаль-инструменталь концерт на каппелле – возьмит десять–двадцать бильет. У вас стольки знакомые от купец есть, и вы им дадите бильеты на концерт.
Купец угрюмо посмотрел на блондинчика и сказал:
– Нет, брат, этим не занимаемся, и билетов твоих мне не надо.
– Мне мадам княгиня Хвалицын сказал, – бормотал блондинчик.
– Ну, значит, наврала тебе княгиня. А всего вернее, что ты сам врешь. Где записка от княгини?
– Записка нет, но княгиня сказал: идить к Таракан-ников. О, он большой меценат!
– Меценат! Меценат! Что же это такое «меценат»-то значит?
– Те богатый господин, которые артист помогает и бильет берут.
– Нет, не надо мне твоих билетов.
– Возьмит хоть пара штуль, для себя и ваша супруга. У меня концерт хороши: фрейлейн Гриллинг – меццо-сопрано, Арзеник – корнет-а-пистон, Гернглаубе – баритон, Куллерберг – виолон и я сам с моя жена два пианисты на рояль от фабрик Беккер. Сонате Бетховен, мьзурка Шопен и мой большой марш, новый марш… Коммерческий марш. Марш на торжество и честь все купцы! Концерт на будущи неделя…
– Чудак-человек, да мы с женой по постам рыбы не вкушаем, так будем ли мы по концертам беса тешить!
– О, у меня большой честь на мой марш для всяки коммерсант!.. Финал – коммерческий марш от автор.
Купец улыбнулся.
– Коммерческий марш! – сказал он. – Да нешто купцы маршируют? Ведь коммерсанты – не солдаты и маршировки им не полагается.
– О, это не золдатенмарш, а марш на честь, на торжество!
– Вздор ты, мой милый, городишь. Ну да там это твое дело, а билетов мне не надо. Иди с Богом!
– Я славянски артист, вы брать славянин, сделайте протекция для ваш знакомы на два бильет, – упрашивал купца блондинчик.
– Ты славянский артист? Ты славянин? Что-то, брат, не похоже. Скорей же ты жид, вот что я тебе скажу. Жид или немец из жидов. Как ты смеешь славянским человеком называться, коли и говорить по-славянски не можешь!
– Я говору по-чешски. Я славянин аус Бемен.
– «Говору»! – передразнил его купец. – А коли говоришь, то поговори вот сейчас. Прочти псалом «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».
Блондинчик молчал и вертел в руках пачку билетов.
– Ну что? Вот и не знаешь. А говоришь: «Я славянин». А за облыжное-то назывательство себя славянином знаешь можно тебя куда? Хочешь, сейчас молодца за городовым пошлю? – пугнул его купец. – Ага, испугался! Ну да уж Бог с тобой! Для первой недели Великого поста прощаю. Поди сюда, – поманил он блондинчика, сбиравшегося юркнуть за дверь. – Поди сюда, я не трону. Вот так. Ну, скажи мне по совести, ведь ты жид?
Блондинчик отрицательно потряс головой.
– Нет, я чех из Чехия, из Бемен, но мой папаша немец, – стоял он на своем.
– Не запирайся, не запирайся! Признаешься, что жид, – билет в рубль возьму.
– Я и маменька моя – мы славянин. Маменька из Прага.
– Ну, тогда ступай с Богом без почина, а то я хотел тебе почин в торговле на рубль серебра сделать. А только, ежели ты не жид, то немец, наверно. Ну, признайся по крайности, что ты немец, а не славянин. Может быть, тебе не хочется быть жидом, так я уступлю. Будь немцем. Ну, вот что: два билета по рублю за чистосердечное признание у тебя куплю. Сам я в твой концерт не пойду, а отдам кому-нибудь билеты. Ну, что тебе стоит признаться? Ведь здесь в четырех стенах никто, кроме меня, и не услышит об этом, а выйдя за ворота, ты можешь сейчас же отпереться и опять говорить всем, что ты славянин, – уговаривал блондинчика купец.
– Да, я немец, кровавый немец, – отвечал блондинчик, потупившись.
– Ну, вот и отлично. Мне только этого и надо. Вот тебе, получай два рубля!
Соблазн
Ириней Еремеич Мережников только что вернулся в свою лавку из церкви, где он, как говельщик, отстоял обедню, поставил несколько свечей и раздал нищей братии гривенник, разменянный на копейки. Лавку он нашел без покупателей. Только какая-то девочка, ученица от портнихи, стоя около прилавка, спрашивала у приказчика пол-аршина канаусу по образчику.
– Ну, торговля! В лавке-то чертям с лешими на кулачки драться, так и то простору вволю, – проговорил он и плюнул, но тотчас же спохватился и, крестясь, стал шептать: – О, Господи, прости мое согрешение! В говельные дни нечистую силу помянул. А как тут убережешься? Заневолю согрешишь, коли перед тобой такая колода твоему делу. Можно же так заколодить торговлю! Даже и траура не покупают. Продавали без меня что-нибудь? – спросил он приказчика, евшего за прилавком сайку с белужьей тешкой и прикусывавшего соленым огурцом.
– Так, самую малость, – отвечал тот, прожевывая кусок.
– «Самую малость»! – передразнил его Мережников. – На сайку-то себе выручил ли, чтоб зоб набить?
– Покупателев без вас, почитай что, совсем не было.
– Совсем не было! Чего же ты смеешься-то? Чего ты зубы-то скалишь? Словно он и рад, что покупателев совсем не было. Не вертись на моих глазах, не вводи меня в соблазн, а то еще хуже изругаю! Соблазн, совсем соблазн… – твердил Мережников, отвертываясь от приказчика. – Просто хоть и в лавку не ходи, а то невольно впадешь в грех. Ах, грехи, грехи! Ей-ей, в трактире-то сидеть соблазну меньше. Там по крайности сидишь ты тихо и смирно и не ругаешься, потому никто тебя не раздражает. Сидишь и безгрешную траву с медом попиваешь. А здесь только вот вошел и уж нечистую силу помянул и выругался. – Мережников взглянул на образ и перекрестился. – Лампадку-то можно теперь и погасить. Обедни уж кончились. Службы в церквах нет, так зачем масло зря жечь, – сказал он.
Двое мальчишек бросились гасить лампадку.
– Легче, идолы! А то прольете масло и товар замараете! Легче, говорят вам! Федюшка! Чего ты за товар-то лапами хватаешься, коли сейчас за масляную лампадку держался! – кричал Мережников мальчикам, зашел за прилавок и стал пересматривать куски товару. – Ну, так и есть, захватал уж! Вот на куске белого кашемира масляные пятна обозначились. Вот и на голубом куске материи целая масляная пятерня. Да знаешь ли ты, куричий сын, Господи, прости мое согрешение, что ежели тебя самого вместе и со шкурой-то продать, так не выручишь и половины того, что стоят эти куски! Вот как хвачу куском-то… – замахнулся он и остановился. – Благодари Бога, что теперь для меня такие дни настали, а то бы я тебя употчевал! Прочь! Чего торчишь на глазах?.. Или в соблазн привести хочешь, чтобы треухов надавал тебе, да на этом и покончил бы? Мало тебе треухов… Дай ты мне только отговеть, мерзавец, так я с тобой по-хорошему распоряжусь!
Мережников умолк. Водворилась тишина в лавке. Слышно было, как приказчик жевал сайку и хрустел огурцом. Напитавшись, он подошел к хозяину и робко произнес:
– Белошвейка три дюжины простых манишек вынесла, что вы ей заказывали, и денег за работу просит; мы сказали, что вы говеете и в храме Божьем, так она хотела через час за деньгами зайти.
Мережников опять вскипел:
– Денег просит! А из каких мы ей шишей дадим? Сказал ли ты ей, что сами без почину сидим?
– Говорил-с, но не внимает. «Мне, – говорит, – мастерицам на харчи надо».
– Дура! В посту-то Великом да при такой торговле харчи-то можно было бы и поубавить. Харчи! Что ей так загорелось? С меня одного у ней получка-то, что ли? Могла бы где-нибудь и в другом месте денег попросить. Неужто только и света в окошке, что наша лавка?
– Говорили мы ей, а она говорит, что нигде ей получки не предстоит, кроме как с нас.
– Ну, шубенку бы заложила, что ли. Теперь можно и без мехов щеголять. Не Бог весть какие морозы стоят. Нет, вы уговаривать не хотите. Вы рады, коли кто идет хозяина раздражать. А вы бы сейчас такую речь: «Не раздражайте, мол, хозяина деньгами, не вводите в соблазн, он у нас нониче говеет». Ну, что за радость будет, ежели она теперь придет денег просить, а я ругаться буду? Какое это говенье? Грех один, а не говенье. На вот, дай ей рубль серебром, а до меня не допущай, – передал Мережников приказчику монету. – А за остальными пусть в субботу вечером придет, – прибавил он и начал смотреть в книгу, считая на счетах, сколько продано сегодня в лавке. – Ну вот, и на говенье даже не выручили. Тьфу! А придет пятница, отцу Кириллу за исповедь три рубля неси, нельзя меньше дать – знакомый поп. Да дьякону за записку рубль, да сторожа церковные с очищением души поздравлять начнут и пригоршни подставят. А свечи? А нищие? А за запиванье? А за святую воду?
Мережников с сердцем захлопнул торговую книгу и вышел из-за прилавка. Пройдя по лавке, он затянул «Да исправится молитва моя», но тотчас же умолк и сказал мальчику:
– Принеси-ка мне чего-нибудь закусить кусочек от саечника.
– Что прикажете принести, Ириней Еремеич? – спросил тот.
– «Что»! Само собой, не рыбы, а сайку да что-нибудь из фруктов: либо редечки, либо брюквы пареной да огурца соленого. Только чтоб без масла.
Вошел сосед по лавке.
– Что это с торговлей-то у нас? – спросил он.
– А надо полагать, весь народ в Питере вымер. У нас никого и ничего.
– А у нас и еще того меньше. Давай хоть в шашки сыграем, что ли…
– Говею. Какие теперь шашки! Я фруктами без елея питаюсь, а он – «шашки»…
– Шашки – болвашки. В них греха нет. Вот карты, так на тех двенадцать антихристовых пособников изображено. Те – грех великий.
– Ну, и шашки тоже. По-настоящему, коли говеешь, так и в лавку-то ходить не след, а сидеть надо дома да поучение Ефрема Сирина читать. А придешь в лавку, так только соблазн один: того выругаешь, другого, третьего.
Мальчик вернулся от саечника и принес груздей и рыжиков на тарелке.
– Ну вот, как не облаять этакого олуха! – указал на него Мережников. – Я ему что-нибудь из фруктов велел себе принести, а он тащит грибы. Нешто это фрукты? Вот как вымажу тебе груздем рожу… О, Господи, прости мое согрешение! Отчего ты редьки или брюквы не принес, коли я тебе эти самые фрукты приказал?
– Редька и брюква у саечника с маслом приготовлены, а вы приказали без масла, – отвечал мальчик.
– А огурец соленый нешто тоже с маслом?
– Про огурец я забыл.
– Неси назад, куричий сын! – воскликнул Мережников и хватил мальчика по затылку. – Ну, вот и соблазн, вот и заушение свершил, вот и грехопадение, – прибавил он. – А теперь этот грех надо замаливать. Ужо вечером семь земных поклонов лишним манером и отсчитывай. Ох, окаянство!
– Ежели младенцам поучение, то сие в грех не ставится, – успокоил его сосед. – Ты ведь со смирением его треснул и с желанием ему блага?
– Конечно же, со смирением и ради блага.
– Ну, так и не надбавляй лишних поклонов. Грех – не в грех.
– То-то, я думаю, какой тут грех – звездануть мальчишку по головешке… А то вчера эдаким манером я восемь раз… Пять раз выругался да три тумака. Ну, сосчитавши вечером по семи поклонов за каждое прегрешение, пятьдесят шесть лишних земных поклонов и отстукал лбом.
– Пренебреги. За поучение младенцу бывают без ответа. Вот за скверны, из уст исходящие…
– Да ведь и без скверен в лавке не обойдешься. По-моему, в трактире сидеть больше спасенья, чем в лавке. Там тебе ни раздражения, ни уныния… А ничего этого нет, так и скверны с языка не слетают. Пойдем-ка пополоскаемся чайком. Да, кстати, я и бараночками там закушу, – предложил Мережников и повел соседа в трактир.
