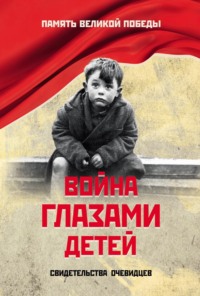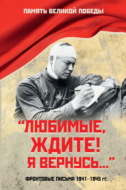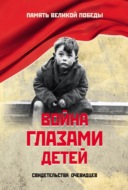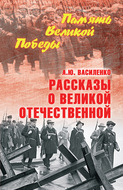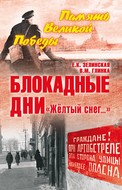Kitabı oxu: «Война глазами детей. Свидетельства очевидцев»
© РГАСПИ, 2024
© Петрова Н. К., предисловие, составление, комментарии, 2024
© ООО «Издательский дом „Вече“», 2024
Детям Советского Союза, страны, победившей фашизм, посвящается
Предисловие
В одной из своих статей академик Д. С. Лихачев писал, что «воспитывают человека не только семья, школа, коллектив. Незаметно для каждого из нас учителями становится прошлое, история»1. О Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне написано немало исследовательских работ, опубликовано документальных сборников материалов. Но можно смело сказать, что не все ещё сделано. Ряд проблем затронут, но до конца не изучен. Одной из таких тем являются дети Великой Отечественной войны, война глазами детей. Несмотря на то что на рубеже XX и в начале XXI века в свет вышло немалое количество сборников воспоминаний и архивных документов, в первую очередь подготовленных в регионах, эти проблемы ждут своих исследователей.
В 1966 г., готовя к изданию свое собрание сочинений, К. Симонов в первом томе поместил обращение к читателю, назвав его «Перед первой страницей». В нём есть такие слова: «Я глубоко убежден, что в книгах, изображающих историю нашего общества, будет рассказана вся правда о всех сторонах нашей жизни в разные эпохи… Это необходимо для нормального развития нашего общества, и это, безусловно, будет сделано…»2
Обращение и изучение прошлого – это не только закономерная связь настоящего с прошлым Родины, это необходимо для понимания настоящего и прогнозирования будущего. При этом нужен объективный и всесторонний анализ событий, не простой, личностный их пересмотр, переоценка, а документальное, всестороннее их освещение. Отмечая неоспоримую ценность публикаций, основанных на документальных рассказах тех, чье детство прошло на фронте, в партизанском отряде, на заводе или колхозном поле, настоящее время требует обратиться к ранее закрытым документам архивов для объективного раскрытия проблем.
Говоря о Великой Отечественной войне, отдавая дань военному и трудовому подвигу нашего народа, мы долгое время умалчивали обо всех трудностях 1941–1945 гг. А если и говорили, то это касалось тягот военных лет. С начала 90-х гг. прошлого века проявилась другая тенденция: перечеркивание героического прошлого и поиск, выпячивание, можно сказать, утрирование в ряде случаев просчетов и ошибок, допущенных как на полях сражений, так и в работе тыла. Между тем дети Великой Отечественной войны, их судьбы оставались вне поля зрения исследователей.
В предисловии к сборнику «Дети и война», который готовился к изданию в 1916 г., А. М. Горький писал: «Дети – это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в мире на великую работу строительства новых форм жизни». Анализируя обстановку, в которой воспитываются дети, Горький писал, что «их отношение друг к другу, к человеку, миру складываются во время войны, когда одни дети играют с трупами, другие вместе с взрослыми принимают непосредственное участие в войне… и мне кажется, что нам, взрослым… следует знать, как мыслят дети о войне…»3.
За время Отечественной войны был собран обширный и разнообразный материал о жизни детей в годы войны, который позволяет раскрыть те изменения, которые внесла война в психологию детей и восприятие ими мира. В 1944 г. Союз писателей СССР обратился к секретарям ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлову и О. П. Мишаковой с предложением подготовить большой документальный сборник «Дети в Отечественной войне» и издать его в 1944 г. в одном из издательстве: «Молодая гвардия» или «Детгизе». Предисловие предполагалось поручить написать А. Н. Толстому или С. Я. Маршаку4. К сожалению, очень интересная идея оказалась не реализованной в том объеме, как намечалось, и архивные документы ждут своей публикации.
4 часа утра 22 июня 1941 г. – это рубеж, от которого начался отсчёт 1418 дней Великой Отечественной войны. Начиная с этого времени одной из главных проблем общества, государства стала забота о детях: сохранить, вырастить, воспитать и обучить. В этом направлении велась работа на всех уровнях власти, всеми общественными организациями и средствами массовой информации.
В условиях стремительного наступления противника, огромных людских потерь, паники среди гражданского (в первую очередь) населения остро стоял вопрос оказания помощи сотням тысяч детей. В первую очередь велась работа по эвакуации. На учёт брались дети, родители которых ушли на фронт или поступили на работу. В тяжелейших условиях военного времени велась эвакуация детских домов из прифронтовой полосы и угрожаемых районов. При этом велась работа по выявлению отставших от эшелонов ребят.
Дети вывозились в тыл железнодорожным, в отдельных случаях автогужевым или водным транспортом. Редко, но были случаи эвакуации пешим ходом5. За период с 22 июня 1941 г. и весь 1942 г. было вывезено 976 детских домов с 107 223 воспитанниками. До войны в стране были детские дома дошкольные, школьные и так называемые смешанные детские дома (для детей-родственников различного возраста). С начала войны с территории Украины вывезли 257 детдомов, с территории Белоруссии – 132 детдома. Они в основном были размещены в республиках Средней Азии. На Урале, в Подмосковье и других областях работали детдома для детей Прибалтики6.
В тыл были вывезены десятки тысяч осиротевших или утративших связь с семьей детей. Справедливо говорят, что у войны разные лица: жестокое и милосердное, живое и мёртвое, но самое трагичное – это детское. Именно дети, как самая уязвимая часть населения, оказались в первую очередь жертвами военного лихолетья. Число сирот, оставшихся к тому же без крыши над головой, росло быстрее, чем возможности приюта в других семьях, детских домах, специальных ремесленных, суворовских и нахимовских училищах, домах ребёнка, детских приемниках-распределителях.
23 января 1943 г. было принято постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», наметившее комплекс мер по предупреждению детской безнадзорности. При СНК союзных и автономных республик, исполкомах местных Советов депутатов трудящихся были созданы комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, была расширена сеть детских приёмников-распределителей. При органах НКВД работали справочные столы для розыска детей. Дети до 3 лет направлялись в дошкольные учреждения или передавались в семьи трудящихся на патронирование.
В годы войны были созданы новые учреждения общественного воспитания – школьные интернаты, возникли общественные организации шефства над детскими домами – попечительские советы. Было открыто свыше 400 колхозных детских домов. Из детских домов и приёмников-распределителей на воспитание в семьи трудящихся только в РСФСР к 1945 г. было взято 308 тыс. детей7.
За годы войны ассигнования на детские дома и мероприятия по охране детства составили в РСФСР 16 % всех средств, выделенных на народное образование.
Для детей воинов Советской Армии и партизан с 1943 г. создавались специальные детские дома. В 1945 г. их действовало 120, где находилось 17,2 тыс. чел. Имелись также детские дома для иностранных детей: в Узбекистане находились 23 польских детских дома (свыше 1900 человек) и дом испанской молодёжи. Польские детские дома размещались также в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. При детских домах имелись подсобные хозяйства, оборудовались столярные, слесарные, швейные и другие мастерские. Профессиональная подготовка воспитанников, достигших 14 лет, велась главным образом в системе трудовых резервов и через производственное ученичество.
За этими сухими и верными фактами шла «вторая» жизнь.
Несмотря на то что забота об эвакуированных детях была в поле зрения государственных и общественных организаций, а также партийных и комсомольских руководителей, далеко не всё было безупречно в этой работе. В записке секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву от 22 ноября 1941 г. секретарь ЦК ВЛКСМ О. П. Мишакова сообщала о тех безобразиях, которые сама наблюдала в течение двух месяцев в детских домах Сталинградской области. О. П. Мишакова была женщиной несентиментальной, жёсткой. Её записка в ЦК ВКП (б) оставляет тяжелое впечатление о действительности того времени. Оно лишено лакировки «заботы о детях». Привожу его почти полностью. Публикуется оно впервые8.
«Трудное время настало для наших детей. Много детей страдает. Тяжело смотреть на их страдания. И особенно тяжело потому, что в значительной степени могли бы облегчить положение многих ребят. Но, к сожалению, у нас сейчас нет такой авторитетной организации, которая бы занималась непосредственно оказанием помощи детям. Отделы народного образования, комсомол мало заботятся о детях. Да, ряд вопросов они сами не в состоянии решить, как то: вопросы питания, одежды, помещения. Местные исполкомы зачастую идут по пути наименьшего сопротивления и отбирают помещения в первую очередь школ и детских учреждений.
…[В Сталинградской области. – Н.П.] …питанием проезжающих эвакуированных малолетних детей, кормящих матерей никто не занимается. Дети едут голодные, болеют… Всё это происходит потому, что наши партийные и особенно комсомольские руководители считают для себя низким заниматься, по их мнению, „вопросами питания детей“».
Особенно горькая картина предстает из письма О. П. Мишаковой об эвакуированных детях из Калачёвского детского дома:
«У них не было даже смены белья. 100 человек восьмилетних ребят разутых и раздетых вели в мороз по городу на пароход. В детских домах эвакуированных детей развелось много прихлебателей, которые объедают и обижают наших детей. Эти люди лучшее питание, помещения забирают для себя. Эти люди никакого отношения не имеют к детскому дому. Часть из них заделалась воспитателями. Часто эти воспитатели везут всю свою семью, родных и знакомых, питают их за счет детей, размещают в д/домах. Эти люди преступно относятся к детям. Мне пришлось быть на пароходе „Красный Профинтерн“, который перевозил из Сталинградской области в Энгельс несколько детских домов с эвакуированными ребятами. На этом пароходе мы обнаружили следующее: большинство лучших, тёплых кают было занято взрослыми людьми из обслуживающего персонала, их родных и знакомых, а восьмилетние, разутые и раздетые дети находились в проходах и холодных коридорах.
…Мы предлагаем создать авторитетный центр, областные детские комиссии по оказанию помощи детям».
Откровения такого рода исследователям встречаются не очень часто, но они дополняют картину, восстанавливают в деталях то, о чем слышали, но не читали сами и не хотели верить, что все это было в действительности.
Надо полагать, что это письмо не осталось без внимания. 3 декабря 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О фактах пренебрежительно-бюрократического отношения комсомольских организаций к эвакуированным детям». Многочисленные факты пренебрежительно-бюрократического отношения к эвакуированным детям, о которых было известно на местах от райкома до ЦК комсомола союзных республик и с которыми они примирились, стали известны руководству ЦК ВЛКСМ. Последовала немедленная реакция. Центральный Комитет ВЛКСМ назвал это отношение к детям «совершенно нетерпимым» и потребовал, чтобы «комсомольские организации взяли в свои руки дело обслуживания эвакуированных детей»9. Были намечены конкретные задачи, и все последующие военные годы по их выполнению вёлся жёсткий контроль.
О проводимой в этом направлении работе ЦК ВЛКСМ отчитывался перед ЦК ВКП(б). Материалы архивов хранят докладные записки от секретаря ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлова секретарям ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву, Г. М. Маленкову, А. С. Щербакову и др. о состоянии дел по обслуживанию детей в пути, правильном размещении на местах, обеспечении их питанием, одеждой, устройстве на работу детей старших возрастов, о занятиях физкультурой и спортом и т. д. Время определяло задачи, требовало их решения. Так, в связи с эвакуацией многие дети отставали от поездов, теряли своих родственников. Некоторые воспитанники детских домов всеми силами стремились попасть на фронт, хотели воевать. Это привело к тому, что в 1942–1943 гг. отмечался рост задержанных беспризорников и безнадзорных. Больше всего их было в Горьковской, Московской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях и в Азербайджанской, Грузинской, Узбекской и Казахской союзных республиках10.
Бежали из детдомов ещё и потому, что в некоторых из них плохо кормили, били. По этим причинам только в 1942 г. из детских домов сбежало около 19 тыс. детей11. Не хватало воспитателей, в коллективах работали часто случайные люди. В 1942–1943 гг. прошли мобилизации членов ВЛКСМ на работу с детьми, особенно для работы в детских колониях НКВД. Только в 1943 г. туда было направлено около 700 комсомольцев12. Одновременно с этим 300 коммунистов было мобилизовано в детские учреждения и 600 квалифицированных рабочих для работы с детьми в мастерских13.
В 1942/43 учебном году из числа подлежащих обучению по плану всеобуча остались вне школы 3100 тыс. детей. А в ходе учебного года из школ выбыло свыше 700 тыс. детей. Анализ причин показал, что из-за отсутствия одежды 33 %, а в некоторых областях до 45 % оставляли школу. Выбывали из школ также из-за недостаточного питания и из-за отдаленности школ. Учёба в некоторых из них была в две и даже в три смены. Дети оставляли и ФЗО. В 1943 г. из 43 училищ ушло свыше 900 тыс.
В детских домах отмечалось всё ещё неупорядоченное питание, а точнее, снижение его норм. Так, в Чкаловской области были снижены месячные нормы пайкового обеспечения по крупе с 1800 г до 750 г, по жирам – с 500 до 230 г, по сахару – с 500 до 330 г и т. д. Особенно эти трудности испытывали детдома в Кировской, Саратовской, Куйбышевской областях14.
В 1943 г. НКВД было рекомендовано создать трудовые воспитательные колонии для содержания в них беспризорных и безнадзорных детей, а также детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет, замеченных в мелком хулиганстве и других незначительных преступлениях. До этого была практика, когда в ряде трудовых воспитательных колоний содержалось большое количество взрослых, осужденных за измену родине, убийства и др.
Дети там были предоставлены сами себе. Настольные игры им не выдавали, так как боялись, что их могут украсть, лыжи не выдавали по той же причине, предполагая, что «они убегут». Согласно статистике, 47,2 % воспитанников таких колоний числились в бегах15.
Ранее в отечественной литературе внимание читателей акцентировалось на огромной заботе Родины к детям в годы Великой Отечественной войны, на том хорошем, чего удалось добиться в это трудное время. Да, было сделано много для детей фронтовиков, для детей из неполных семей, вообще для всех, кто был в возрасте до 16 лет. Но в силу ряда причин и в первую очередь из-за закрытости материалов многие негативные стороны военного времени не освещались. Обратимся к фактам из рассекреченных документов.
Весной 1943 г. от начальника главного управления милиции НКВД А. Галкина на имя секретаря ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлова поступила записка, анализирующая причины беспризорности детей и рост безнадзорности. А записке ставилась задача: «В целях предотвращения беспризорности детей обстановка требует усиления заботы о детях, активизации работы школ, пионерских, общественных и комсомольских организаций. Казалось бы, что и годом раньше эти задачи определялись, между тем в ряде мест эта работа ослабела, и как следствие большой рост преступности среди несовершеннолетних. В 1942 г. по сравнению с 1941 г. количество уголовных преступлений увеличилось на 55 % и, по данным на 10 апреля 1943 г., продолжало расти. За 1942 г. несовершеннолетними было совершено около 39 тыс. уголовных преступлений, из них 86 % кражи, остальные разбои, грабежи и хулиганство16.
При этом значительная часть преступлений совершалась учащимися ремесленных училищ (РУ) и школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Этому способствовали слабая дисциплина и плохие культурно-бытовые условия. Так, в октябре 1942 г. на заводе № 8 (г. Свердловск) было трудоустроено до 300 чел. несовершеннолетних, освобожденных из мест заключения. Их разместили в недостроенном бараке, без печей, не обеспечили одеждой, обувью, постельными принадлежностями. Началось воровство, многие разбежались. Так, в школе ФЗО № 38 из 40 подростков не осталось никого, все дезертировали. Бежали не от хорошей жизни: баня была один раз в три месяца. Из 200 учащихся, эвакуированных из г. Загорска Московской обл. в Томск, осталось 43 чел., 139 учащихся дезертировали и 18 были арестованы за уголовные преступления17». Далее А. Галкин отмечал, что вызывало тревогу и то, что освобожденные из тюрем и ИТЛ несовершеннолетние, т. е. дети до 16 лет, не учились, воспитательная работа с ними не велась. В результате многие из них совершали повторные преступления, становились рецидивистами и разлагающе действовали на нетрудоустроенных и безнадзорных несовершеннолетних. Соответствующие инстанции совершенно верно отмечали, что «рост преступности… не может быть приостановлен одними мерами репрессий»18.
Несмотря на то что о состоянии детской преступности были информированы партийные, советские и комсомольские организации, решения, которые ими принимались, в большинстве оставались невыполненными, а мероприятия проводились эпизодически или кампаниями. Комсомольские организации Пензенской, Челябинской, Горьковской, Куйбышевской, Молотовской, Новосибирской и Омской областей к выполнению постановления ЦК ВЛКСМ от 7 августа 1942 г. «О мерах комсомольских организаций по борьбе с детской безнадзорностью и по предупреждению детской беспризорности» отнеслись формально. И как результат положение не улучшалось, а уголовная преступность росла.
Всё то, о чём сказано мною выше, стало предметом обсуждения 24 апреля 1943 г. на секретариате ЦК ВЛКСМ. По предложениям Н. А. Михайлова было принято закрытое постановление. Суть этих предложений заключалась в следующем: составить и разослать письмо обкомам ВКП (б) и облисполкомам, в котором отразить факты бездушного отношение к устройству детей, неудовлетворительной работы в РУ, ФЗО. ЦК ВЛКСМ констатировал в этом письме, что «такое положение дел не может быть терпимо, несмотря на трудности военного времени, мы можем и обязаны проявлять повседневную заботу о детях, не допускать беспризорных и безнадзорных детей. Для этого нужно перечитать задачи партийных и других органов»19. В свою очередь секретариат ЦК ВЛКСМ внес предложение об изменении пункта 40 постановления СНК СССР от 23 января 1942 г. о том, что в детские приемники и распределители направляются дети в возрасте до 17 лет включительно (вместо 15 лет). Одновременно было принято решение о введении комсоргов ЦК ВЛКСМ в школах, насчитывающих 500 и более учащихся.
Необходимо отметить, что ЦК ВЛКСМ делал очень много для решения жизненно важных проблем эвакуированных детей, но и проблем больших и малых было бесконечно много. Маленькие сердца детей надо было отогреть, в их души требовалось вдохнуть надежду и веру в будущее, понять обиженных, усмирить возбужденных и неуравновешенных. И это всё должны были делать юноши и девушки – ровесники или немногим старше тех, о ком надо было заботиться.
Во многих районах страны комсомольские организации начали создавать Фонд помощи эвакуированным детям. Комсомольцы собирали продукты питания, одежду, обувь, постельные принадлежности, книги, игрушки и т. д. В марте – апреле 1942 г. по инициативе комсомольских организаций во многих областях, краях и республиках начали проводиться воскресники в Фонд помощи детям.
Воентехник 1-го ранга Николай Корниенко предложил организовать при «Комсомольской правде» специальный Фонд помощи детям, пострадавшим от фашизма, и внёс 300 рублей. Так при газете «Комсомольская правда» был открыт счёт № 160 180 помощи детям, пострадавшим от войны. Всего за годы войны на этот счёт поступило 208 миллионов рублей. Кроме того, выделялись деньги для этой цели обкомами комсомола. На эти средства были открыты 14 комсомольских здравниц для больных и физически ослабленных детей. Ежегодно в этих здравницах отдыхало 12 000 детей. Областные комитеты комсомола создали за счёт Фонда помощи детям 126 детских домов, содержали сотни оздоровительных детских площадок и детских садов. Свыше 100 тысяч бесплатных путевок в пионерские лагеря было приобретено ребятам за счёт фонда. Только в одном 1945 г. выдано детям 45 000 стипендий на сумму 221 500 000 рублей. 11 миллионов рублей было выдано для оказания индивидуальной помощи детям, отдельным детским домам, детским площадкам, детским столовым.
4 февраля 1942 г. в «Комсомольской правде» было опубликовано письмо командира ВВС Тихоокеанского флота комсомольца Петра Безносикова. Он сообщил о своём решении взять на воспитание ребёнка, пострадавшего от гитлеровцев. Почин комсомольца Петра Безносикова горячо поддержали советские люди. К маю 1945 г. свыше 300 тыс. детей было взято в семьи. Ещё шире развернулось в стране движение по усыновлению осиротевших детей после Всесоюзного митинга в защиту детей от фашистского варварства, который состоялся в Москве 19 апреля 1942 г. Митинг был проведён по инициативе ЦК ВЛКСМ.
В Москве только за три месяца 1942 г. взято на воспитание и патронат 1500 детей, в Калининской области – 2940 детей, 1100 осиротевших детей нашли снова материнскую любовь и отцовскую ласку в семьях трудящихся далекого солнечного Узбекистана. Только в одном Ташкенте 643 семьи и 69 коллективов взяли на воспитание детей, оставшихся без родителей. Кузнец Ахмед Шамухамедов взял на воспитание десятерых детей. Среди них – узбеки, русские, украинцы и белорусы20.
В свою очередь советские ребята стремились в меру своих сил помогать взрослым в их героической борьбе за честь, свободу и независимость Родины: работали на полях колхозов и совхозов; принимали активное участие в восстановлении разрушенных немцами школ. Многие пионеры и школьники страны в годы Великой Отечественной войны отдали свои сбережения на строительство танков, самолётов, пушек. На фронт в 1942–1945 гг. шли танковые колонны «Московский пионер», «Куйбышевский пионер», «Ташкентский пионер» и т. д.21
Дети писали письма в Москву, вкладывали в конверты свои сбережения и отправляли в Фонд обороны Родины. Таких писем было немало. Достаточно посмотреть материалы выставки «Комсомол и молодежь в годы Великой Отечественной войны», которая работала в г. Москве в 1943–1953 гг., чтобы убедиться в этом. В одном из писем, сохранившихся со времен военной поры, есть и такое от 13 января 1943 г., написанное ученицей 3-го класса Пензенской области Ниной Гришаевой. Она написала в Москву:
«Дедушке Сталину.
Дорогой дедушка Сталин!
Мне 9 лет. Я учусь в 3-м классе Больше-Валяевской школы Терновского района Пензенской области. Мой папа на фронте. Он бьет фашистов. Я хочу помочь ему и вношу 1000 руб. на строительство самолетов.
Шлю вам горячий пионерский привет. Крепко обнимаю»22.
Такое и ему подобные письма приходили довольно часто из разных уголков нашей страны. Дети присылали заработанные деньги и просили в своих телеграммах и письмах потратить эти деньги на создание танков или самолетов. И что интересно, несмотря на напряженную обстановку на фронтах, в адрес тех детей, от которых поступали деньги, из Москвы направлялись телеграммы за подписью И. В. Сталина со словами благодарности.
Вместе с комсомольцами пионеры не раз выходили на воскресники. Ребята во всём помогали своим старшим братьям: ремонтировали здания, возили дрова, расчищали дороги.
За 1942–1944 гг. пионеры и школьники выработали 588 600 тыс. трудодней. Во многих школах создавались мастерские, в которых работали пионеры и школьники, выполняя заказы фронта. Девочки с любовью обметывали петли морских кителей, юные столяры обстругивали до блеска ложа винтовок и лыжные палки, юные слесари и токари изготовляли различные детали артиллерийского и стрелкового снаряжения.
За три года войны ребята собрали 240 784 тонн дикорастущих растений.
В годы войны развернулось движение тимуровцев по оказанию помощи семьям фронтовиков. Ребята помогали в хозяйстве, ухаживали за малышами, кололи дрова, варили пищу, стирали белье, работали в огороде и т. д. В детских садах и яслях ребята помогали воспитательницам, делали для малышей игрушки, дарили им свои книги. Миллионы детских писем, подарков шло на фронт бойцам и командирам Красной армии. Не было в стране ни одного госпиталя, где бы ни побывали пионеры и школьники: они украшали госпитали цветами, устраивали концерты художественной самодеятельности, дарили раненым свои рисунки, предметы рукоделия, чинили раненым белье, писали под диктовку письма. Ученики Борисовской школы Московской области летом приносили в свой подшефный госпиталь целые корзины земляники и клубники, а некоторые пионеры специально держали кур, чтобы для слабых больных всегда были свежие яйца23.
В отечественных научных и научно-популярных статьях не принято вводить в текст стихотворения. Отступая от этого правила, привожу одно из них. Стихотворение называется «Армия», написано оно в 1959 г. Его автор – Е. Евтушенко, один из детей войны, его детство пришлось на годы войны, он испытал эвакуацию, трудности быта тыла. Годы войны увидены глазами мальчика. Поэтому его темой стала «беда», «всенародная беда», «общенациональное горе». «Спешите, если есть куда спешить», это программное заявление поэта, оно созвучно тому времени, в котором прошло его детство:
В палате выключили радио,
И кто-то гладил мне вихор…
В зиминском госпитале раненым
давал концерты наш детский хор.
Уже начать нам знаки делали.
Двумя рядами у стены
стояли мальчики и девочки
перед героями войны.
Они,
родные,
некрасивые,
С большими впадинами глаз,
И сами жалкие,
несильные,
смотрели с жалостью на нас.
В тылу измученные битвами,
худы,
заморены,
бледны
в своих пальтишках драных
были мы
для них героями войны.
…Солдаты пели, словно школьники,
и, как солдаты, пели мы…24
В годы войны газета «Пионерская правда» разослала анкету с вопросами: «Чем ты помог Красной армии?», «Чему ты учишься у наших воинов?», «Что ты хочешь изобрести для Красной армии?» Множество ответов пришло на эти вопросы. Все они разные: одни ребята писали, что спасли раненых в тылу у немцев, другие о том, что выходили коня, третьи – о своём желании изобрести непробиваемую броню или снаряд, который долетел бы до Гитлера и уничтожил его, четвертые мечтали стать сандружинницами, чтобы спасать раненых… Но все ответы ребят говорили об одном – о безграничной любви к Красной армии, о желании учиться и трудиться в помощь ей, во славу своей Родины.
В праздничном ноябрьском номере газеты «Красная звезда» в 1942 г. был помещен очерк К. М. Симонова «Москва». Он занял целую полосу, одобрен был А. С. Щербаковым и был посвящен Москве и её гражданам. Газету разложили на кресла участников торжественного заседания в Кремле, что свидетельствовало о значимости очерка. Что особенного в нем? Там есть строки о подростках зимы 1941 и 1942 гг., о ребятах 15–16 лет, которые заменили своих отцов на рабочих местах. К. Симонов высказал надежду, что «когда-нибудь хороший детский писатель напишет о них замечательную книгу… И если когда-нибудь в столице на площади будет воздвигнут памятник обороны Москвы, то среди бронзовых фигур рядом с отцом, держащим автомат, должен стоять его 15-летний сын, сделавший ему этот автомат осенью 1941 года…»25
И от себя Давид Ортенберг, автор книги «Год 1942», в прошлом главный редактор газеты «Красная звезда», добавлял: «Как бы хотелось, чтобы это вещее желание Константина Симонова сбылось…» Книга, где помещены эти строки, вышла в 1988 г. А памятник… ждёт решения.
Дети-подростки были повсюду: на заводах – делали гранаты, автоматы, снаряды, мины. В госпиталях дежурили, заменяя сиделок и сестёр. Во время воздушных тревог дежурили на крышах зданий. В школьных мастерских клеили пакеты для подарков и посылок, делали жестяные кружки, вязали варежки и перчатки. Они защищали Москву, Родину.
Точную цифру юных защитников назвать невозможно. Эта родившаяся в годы тяжелых испытаний никем не запланированная категория «военнослужащих», естественно, не подлежала никакому учёту. Подростков не всегда заносили в списки воинских частей, не всегда выдавали им красноармейские книжки, как правило, не заносили в списки партизанских отрядов, не говоря уже о подпольных организациях. Но можно смело говорить, что их было десятки тысяч.
Только в Белоруссии в партизанских отрядах находилось более 30 тыс. школьников. Многие участвовали в операциях. Полоцкий детский дом не успел эвакуироваться в тыл. 13 педагогов с директором М. С. Форинко образовали подпольную группу «Бесстрашные», помогали партизанам и в то же время спасли немало безнадзорных детей. В начале 1943 г. эта группа по приказу с «Большой земли» была переправлена на самолётах через линию фронта26.
О том, что огонь войны опалил детство многих, убедительно свидетельствуют архивные документы. Дело в том, что, по Международной конвенции, солдаты моложе призывного возраста не имеют права носить оружие, а тем более участвовать в боях. И все же мальчишки самыми разными путями стремились попасть на фронт. Сотни ребят на товарных платформах, под брезентом, а если повезёт, в теплушках устремились на Запад. Их задерживали, возвращали в тыл, но самые отчаянные снова и снова убегали из дома, всеми правдами и неправдами оказывались в боевых частях. Каждому из них хотелось стать сыном полка.
Порой на пепелище, в полузасыпанной землянке или прямо на дороге подбирали солдаты замерзшего, голодного, заплаканного мальчишку, оставшегося сиротой. Его обогревали, мыли и кормили. Бывало, что уже на следующий день очередной сын полка появлялся в перешитых по размеру шинели, гимнастерке, брюках, находились и подходящие сапоги.
Более 25 тыс. сирот жили в солдатских землянках и при армейских штабах, стали сыновьями полков. Столько же находилось ребят на боевых кораблях и в партизанских отрядах27. За участие в боевых действиях более 200 тыс. детей были награждены боевыми орденами и медалями, из них более 20 тыс. – медалью «За оборону Москвы», 15 249 – медалью «За оборону Ленинграда», а шестеро ПОСМЕРТНО удостоены звания Героя Советского Союза28.
ВЛКСМ – единственная из общественных организаций Советского Союза, которая была награждена орденом Ленина за свою деятельность в годы Великой Отечественной войны.
На оккупированной врагом территории дети сполна испытали жестокости установленного оккупантами «нового порядка»: голод и холод, тяжелый недетский труд, казни, издевательства. Но страшнее всего было оказаться в фашистском концентрационном лагере. Там малышей превращали в доноров и подопытных «кроликов», мало кому из них удалось выжить. В г. Ейске было расстреляно 24 воспитанника детского дома в октябре 1942 г. В г. Житомире фашисты выкачивали кровь из детей для раненых офицеров. Пускали яд в кровь (1943 г.), ставя опыты по умерщвлению людей29.