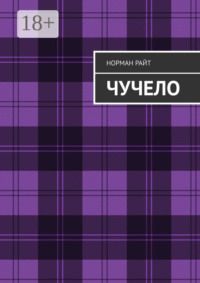Kitabı oxu: «Чучело»
© Норман Райт, 2021
ISBN 978-5-0053-7150-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Норман Райт
Чучело
Глава 1
Страшная болезнь
– Там никого нет, Гвенни.
– А я говорю, что есть. Я видела.
– Тебе, должно быть, показалось.
– Я, правда, его видела, мама. Почему ты мне не веришь?
– Потому что привидений, Гвен, не существует.
Взрослые не верят в привидений. Моя мама не верила тоже. Для нее это были только сказки, особенно в эти дни, когда по небу с грохотом проносились самолеты. Было неспокойное время и эти самолеты летели на войну.
Мое имя Гвендолин Кейтлин Фостер. Мне десять лет. Внешность у меня самая обычная, но мама всегда говорила, что я очень красивая и цвет моих глаз – это цвет морской глубины. Только вот я видела не глубину моря, а лишь плесень, которая была повсюду.
Отвратительная скользкая плесень росла на камнях в нашем пруду, на крыше дома, на его стенах и в легких моей матери. Моя мама, словно дряхлая собака, всю ночь громко кашляла и за последний год сильно состарилась. Вообще все, что меня окружало, было старым.
Дом, что мы арендовали у мистера Гаррисона, был очень старым. Фасад потрескался, устаревшая кровля могла обрушиться в любую минуту, а трухлявые полы на втором этаже, и вовсе прогнили насквозь. От старости.
Спальни второго этажа пустовали, заключая в себе лишь тьму. Постояльцы съехали еще пять лет назад, а новых, мистер Гаррисон не искал, чтобы не угнетать беспокойством мою больную мать.
Когда мистер и миссис Тоферы съехали, я продолжала слышать, как скрипят половицы второго этажа, будто престарелая пара все еще находилась там. В доме все еще пахло их старостью. Пахло их вещами и их книгами. Наверное, Тоферы оставили после себя сгусток затхлой тоски о своей потерянной молодости.
Я любила играть на втором этаже. Даже не смотря на то, что здесь было тесно, пыльно и мрачно. Мне нравилось глядеть через окно спальни Тоферов на маму, которая сидела в саду и читала. Иногда я стучала по стеклу и пряталась. Мама отвечала, что видела меня и знает, что это я. Мне было весело так подшучивать над мамой.
Как-то раз, когда мне было примерно лет семь, или восемь, точно не припомню, я сидела в коридоре второго этажа и играла моей любимой фарфоровой куклой. Кукла была старинной и слегка потрёпанной временем. Лак на ее милом личике потрескался, платье износилось, но это не делало Кэролл менее любимой. Мама не знала о Кэролл, так как я нашла ее в одной из запретных комнат, оттуда брать какие-либо вещи, было строго запрещено.
Я увидела старика, седого и сердитого. Он закричал на меня и потребовал, чтобы я убиралась прочь отсюда. Я бросила куклу и убежала со второго этажа. Я не сомневаюсь в том, что видела настоящее привидение, но мама мне тогда не поверила, а спорить с ней, было бес толку.
В этот день, Кэролл так и осталась лежать на полу второго этажа. Я больше никогда туда не поднималась, хотя очень скучала по своей любимице.
Это было первый раз, когда я увидела привидение. Потом такое случалось чаще.
Мою маму звали Маргарет Фостер. Я помню ее красивой женщиной с ухоженной кожей, вьющимися светлыми волосами и доброй улыбкой. От мамы всегда пахло цветочным парфюмом, и я всей душой любила этот нежный аромат.
Но последнее время, он так редко звучал в нашем доме. Ползучий бронхит сковал легкие моей мамы своими холодными пальцами и с каждым приступом, болезнь отнимала у женщины все больше здоровья, все больше ее природной красоты. Теперь свежее лицо моей несчастной матери покрылось морщинами, а зубы почернели. Мне было страшно за маму, и я ни на шаг не отходила от нее и подносила ей теплое питье.
Мой страх, почему то, был в образе старого ворона. Я всегда боялась этих птиц – они огромные и всегда голодные. Ворон частенько навещал меня во снах. Садился на грудь моей мамы и начинал клевать ее череп своим старым клювом. Ворон долбил с такой яростью, будто пытался пробить черепную кость и выклевать мозг матери. Я отгоняла мерзкое создание, но оно возвращалось и продолжало клевать. Мама говорила мне тогда, чтобы я успокоилась, и что это всего лишь кошмарный сон. Но она не понимала того, что я очень боялась за нее. А еще, я боялась, что это могло быть предзнаменованием смерти.
Мой отец, Виктор Фостер, был мужчина с обветренным красным лицом и вечно смурным настроением. Он редко появлялся дома. Ко всему прочему, Виктор часто пил. Работал на кладбище и все деньги, пропивал. Тогда я вместо учебы шла на рынок и подрабатывала помощницей. Работы там хватало. Я могла чистить рыбу, или что-то приносить. Денег было мало, но и этому, мы с мамой были рады.
Тогда мама называла меня своей малышкой и говорила, что гордится мной.
Больше никаких родственников у меня не было. Я не знала ни дедушек, ни бабушек. Но как то мама рассказала мне, что мой прадедушка, был пиратом. Звали его Батчер Реджинальд Фостер. Но если честно, мне с трудом верится что мой далекий родственник пират. Ну, сами понимаете – пираты, и все такое. Это скорее сказки для детей. Но я уже не ребенок, и не верю в сказки о пиратах.
Жили мы в небольшом городке Фрамстон. Находился он в сырых, темных краях. Люди здесь болели часто. Многие умирали от туберкулеза и других заболеваний легких. Особенно умирали осенью, когда воздух становился липким и холодным. Умирали здесь не только от болезней, но и по другим причинам тоже. Особенно в нынешнее неспокойное время.
Каждую неделю похоронная повозка с колокольчиком проезжала по улицам, и жители скорбно глядели ей в след. Суеверные люди бросались в разные стороны от погребального кортежа, лишь бы не слышать, как звенит похоронный колокольчик. Может показаться глупым, но они были убеждены, что тем самым оберегают себя от преждевременной смерти. Я не верила в подобные вещи и никогда уши не зажимала. Пока однажды этот звон не прозвучал для моей несчастной матери.
Честно сказать, возить умерших на повозке с лошадьми, а не в автомобиле – ужасная традиция. Особенно, когда невозможно спрятаться от любопытных посторонних взглядов. А их было очень много. Все глазели, а кто же там умер, вот бы посмотреть на настоящего мертвеца. Поглядите на труп! Это очень неприятно и больно.
Тогда, глядя на эти ужасающие повозки, я начала понимать, что вижу что-то еще, помимо сидящих в них людей. Образы, прозрачные и унылые. Они глядели на меня и все как один прикладывали указательный палец к губам. Мол, девочка, не говори ни слова, меня здесь нет. Молчи!
И я молчала. Молчала долго, пока один из них, не появился на втором этаже нашего дома. Тогда я решила все рассказать маме. Но взрослые в такое не верят. Мне верила лишь Кэролл. Сейчас она осталась одна, и каждый раз очень боится, когда из спальни выходит старик. Жаль, что мне нельзя забрать свою куклу.
– Пообещай мне, что ты не умрешь, – попросила я маму как-то вечером сидя на краю ее постели. – Пообещай.
Я старалась верить, что моя мама сможет поправиться, но надежда на это с каждым днем таяла, словно свеча на нашем камине.
– Мне уже легче, Гвенни. – Мама улыбнулась и положила свою горячую ладонь мне на колено. – Ступай спать, милая. Мне уже лучше. Не бойся, милая. Не бойся.
– Ты всегда так говоришь, – упрямилась я. – А на самом деле, тебе совсем не легче! Я же вижу! Ты не в силах даже подняться с кровати, мама.
Мама тяжело вздохнула и снова начала кашлять. Теперь, кашель не прекращался, и мне стало страшно.
На прошлой неделе я подслушала доктора Четтера и мои страхи оправдались.
После того как в полдень мама приняла лекарства и уснула, доктор сидел на кухне и что-то записывал в своем дневнике. Он, не знал, что я его подслушиваю из сада, и что-то бубнил себе под нос.
Доктор пробормотал, что моя мама может скоро умереть, потому что в аптеках нет лекарств, а в больницах нет мест. Услыхав это, я заплакала.
Не прошло и трех дней, как худшие предположения доктора оправдались.
Глава 2
Похороны
Накануне тех страшных событий, которые перевернули мне жизнь, матери стало хуже. Она не заливалась кашлем, но была очень слаба и весь день провела в постели.
Изредка мама открывала глаза, при виде меня улыбалась и снова проваливалась в сон, а я сидела рядом и с тревогой вслушивалась в ее тяжелое монотонное дыхание.
К полудню я приготовила жидкий суп с капустой и мясом. Горячий бульон согрел маму, но пасмурная погода снова спровоцировала ее на дремоту. Постепенно в мою душу пробирались уныние и в глубине души, я догадывалась, что моя мать едва ли переживет эту зиму. А на следующее утро, она умерла.
Но я не плакала. Мама лежала в своей кровати, одна рука ее свисала на пол, глаза смотрели в пустоту, именно в ту пустоту, в которую уходят души. В глазах моей мамы не было жизни. Я знала, что мама мертва.
Я помню, как на улице громыхал ветер. Он свистел в дымоходе, заигрывал с флюгером и словно слепой, дергал калитку, не понимая, в какую сторону она открывается. На мгновение мне почудилось, что это пьяный отец вернулся черт знает, откуда и еле держась на ногах, пытается войти во двор. Но это был лишь ветер. Страшный и безжизненный, как и мрак в нашем доме.
Я закрыла дверь маминой спальни и спряталась на кухне. Меня вынудили так поступить страшные мысли. На втором этаже, все также трещали половицы, и временами с потолка, осыпалась штукатурка. От ветра дрожали стекла, и ставни окон, но из спальни, где лежало мертвое тело моей матери, не донеслось ни шороха.
В комнате за стеной было тихо.
А знаете, какие страшные мысли меня тогда заставили запереть дверь маминой спальни? Мысли о мертвецах – именно о тех мертвецах, которые не знают, что они умерли. Я боялась, что мама вдруг встанет и начнет ходить за мной по всему этому темному, мрачному дому. Поэтому я закрыла дверь.
Но ничего не происходило, мама не поднималась.
В доме царил холод, но на то, чтобы разжечь камин, у меня совсем не было ни желания, ни сил. Я сидела в кухне и с замиранием сердца слушала звуки дома. Эта старая, трухлявая постройка, скрипела, покачивалась и дрожала, когда ветер усиливался.
Я не любила этот дом. Самое честное слово!
Вдруг в зале начали бить часы. Этот звук напугал и заставил вздрогнуть, и я едва не сошла с ума от страха! И в этот момент домой вернулся отец. Впервые за столько времени, я была рада его видеть.
– Папа! – крикнула я, бросаясь к нему, и обняла его так крепко, как никогда не обнимала. Наверное, тогда он все понял. Понял, что нашей матери больше нет. – Папа, я боюсь! Мне здесь очень страшно.
– Не бойся, – сказал мне отец. – Я рядом с тобой, моя несостоявшаяся леди. Я здесь.
Отец, как и я, не стал плакать. Иногда мне казалось, мой отец никогда в жизни не плакал. Но сейчас-то можно, когда умерла мама. Но отец не заплакал даже сейчас.
Он собрался с мыслями и позвонил друзьям, с которыми работал на кладбище. Друзья вскоре приехали. Они всегда были грязными как мой отец и всегда, как мой отец – были выпившими. Наверное, это из-за тяжелой работы. Хоронить людей не так-то просто. Друзья моего отца нам помогли. Не знаю, что бы мы делали, не будь их тогда рядом с нами.
В тот страшный день, на кладбище было холодно. Было сыро и темно, даже не смотря на полдень. Ветер срывал последние листочки с деревьев и прогонял их в неизвестном направлении. Листочки не могли сопротивляться – они просто улетали. Я думала, что это крупицы души дерева, и когда дерево сбросит всю листву – оно погибнет. Как и все вокруг.
Лицо моей мамы стало похожим на пергамент, таким же белым и грубым. Кожа щек мамы стала твердой. Стала холодной. Я почувствовала тот холод, что веял от моей мамы. Никогда еще от нее не веяло таким холодом. Мертвым холодом!
После меня, к маме подошел мой отец. Он молчал, стоя возле нее. Так же молча, мой отец попрощался с ней и вернулся ко мне.
Я впервые была на похоронах, и не знала, что говорить. Я понимала, что скоро маму опустят в эту черную сырую яму, и я больше никогда ее не увижу, ни живую, ни мертвую. Никакую. Но я не могла говорить с мамой при всех этих людях, которых я никогда не видела и не знала их. Наверное, они жалели меня. Потому что все эти женщины и мужчины, пожилые и совсем старые, глядели на меня со слезами. А я не плакала.
Мне больно, но почему я не проронила ни одной слезинки?
Однако в тот момент, когда гроб начали опускать под землю, я не выдержала и заплакала. Я терпела так долго, что слезы мои вырвались сами и потом все никак не заканчивались. Они лились потоком.
Откуда во мне столько слез?
И вдруг, вместе со мной заплакали и небеса. Все кто пришел проститься с моей мамой, не хотели промокнуть, поэтому поспешили уйти с кладбища. Но я не могла. Я просто стояла, и смотрела, как друзья папы опускают гроб с моей матерью в темноту, и никакая сила не могла оттащить меня от могилы.
– Теперь, маленькая несостоявшаяся леди, – сказал отец, почесав щетину, – у нас только один выход – бросить наши кости к порогу работного дома. Перспективы не радужные, но там хоть кормят. С голоду как говориться, не пропадем.
Отец отпустил мою руку и, сгорбившись от холода, направился за остальными. Ветер сдувал в сторону его тощую угловатую фигуру в коричневом засаленном пальто и дергал за волосы. Мужчина лишь что-то недовольно бубнил, бросая в небеса резкий взгляд, точно это они были во всем виноваты, виноваты в нашей бедности и в смерти мамы.
– Я не пойду в работный дом, – сказала я. Слова застряли у меня в горле, но отец их услышал. – Туда нельзя. Там страшно.
Я знала, что такое работный дом. Это ужасное место. Оно находится на холме и окружено лесом. Туда люди попадают от голода. Им нечего есть, и они идут в работный дом. Там, за его сырыми холодными стенами, дети работают наравне с взрослыми и писаются от холода. А еще, детей там бьют. Я слышала об этом.
– Выбора нет, Гвендолин. – Отец остановился и обернулся ко мне. Я видела, что он пошатывался. Наверное, он всю ночь пил и все еще был пьян. Наверное, он даже не понял, что произошло. Я боялась его. Боялась и очень любила. Он – единственное, что осталось в моей жизни. – Лишь благодаря твоей больной матери, Гвен, мы все эти годы платили одну треть. Мягкое сердце мистера Гаррисона сжалилось над больной Маргарет, но теперь, когда твоя мать померла, он с легкостью вышвырнет нас на улицу. Вот увидишь. Денег у нас нет, а унижаться и просить подачек, я не хочу! Я не такой человек. А доброй памятью о твоей матери, этот ублюдок, вряд ли возьмет плату. Идем, Гвендолин.
Я заплакала еще сильнее. Отец подошел ко мне и развернул меня от могилы. Ветер стал сильнее хлестать меня по лицу и не давал вдохнуть. Куда бы я ни повернулась, он бросался с той же стороны.
Дурацкий ветер!
– Почему мама умерла? – спросила я, подняв взгляд на отца. Отец был зол на все вокруг, но увидев мои слезы, он вдруг успокоился. Отец меня очень любил, потому что я – единственное, что осталось в его жизни. Так же как и он в моей. – Почему это случилось именно с нами? Почему ни с кем-то другим?
Отец глубоко вздохнул и встал передо мной на колени. Я увидела в его глазах отчаяние.
– Все рано или поздно умирают, – сказал Виктор, взяв мое лицо в свои потные ледяные ладони. – Но теперь, твоя мама там, а мы с тобой – здесь. И мы должны еще прожить хоть немного. Ты понимаешь меня?
Я кивнула, и отец обнял меня. Затем поднялся, и даже не стряхнув со своих брюк налипшую грязь, пошел прочь.
– Идем собираться, Гвендолин.
Я перестала плакать и поплелась следом.
Мама осталась позади. Она не слышала нашего с отцом разговора, не слышала, как сыплется земля на крышку ее гроба. Мама не слышала ничего. Мамы здесь уже не было. А вот я, была. И отец мой – тоже был. И мы остались совсем одни.
Погружаясь по щиколотку в грязь, я шла за пьяным отцом. Я шла и ненавидела осень. Ненавидела наши сырые, холодные края с вечными дождями, нищетой и болезнями. Но пишущая эти строки, вынуждена была жить, через боль и слезы, она должна была жить.
Когда мы подходили к дому, мистер Гаррисон уже дожидался нас у порога.
Тэрри Гаррисон не взял с нас платы, и даже позволил на месяц, пока мы не сыщем подходящее жилище, задержаться в его доме. Я была благодарна, за возможность проститься с матерью и ее спальней. Но упрямый отец наотрез отказался оставаться. Он сказал, что ни на минуту не задержится в этой блошиной норе, и пообещал вскорости ее освободить.
Мне было стыдно за пьянствующего отца. Пока я собирала вещи, он громко ругал судьбу и напивался. Отец не обронил ни одной слезы по тому человеку, с которым прожил двадцать долгих лет и продолжал терять свое онемевшее от алкоголя лицо, на дне стеклянной бутылки.
В доме задрожали стекла. По небу вновь пронеслись самолеты. Их гул так сильно угнетал меня, но сегодня, мне было все равно. Сегодня, ничего плохого больше не случится, все плохое, уже произошло.
– Гвен, – сказал мне Тэрри, перед тем как оставить нас, – прошу тебя, держись. Я бы вас ни за что не выгнал, но я беспокоюсь за вашу безопасность. Сама видишь, дом уже по швам трещит, и того глядишь, развалится. Я повторюсь, я вас не гоню. Если хотите, черт с вами, можете жить сколько угодно. Бесплатно. Мне не нужно денег. Живите.
– Отец решил съехать, – ответила я, пряча лицо от ледяного ветра и от квартирохозяина. – Я должна быть рядом с ним.
Мистер Гаррисон тяжело вздохнул и сказал, что ему очень жаль о случившемся в нашей семье. Я молча кивнула, обтерла рукавом пальто, бегущие из носа сопли, и отдала мистеру Гаррисону ключи. Тэрри взял ключи и, немного помедлив, ушел.
Я обернулась на дом и почувствовала, что мое детство закончилось. Оно осталось там, в саду, где я любила прятаться от мамы, и притаилось за молодыми яблонями, боясь выйти на мой зов. Оно больше не смеялось, играя у пруда, а лишь дрожало от озноба, под гнетом непогоды и угасало, словно упавший на решетку камина, маленький уголек.
Отец склонился над чемоданом, и замерзшими непослушными пальцами, тщетно пытался перевязать его веревкой, чтоб по дороге не растерять свои вещи. Бутылка с алкоголем, то и дело выпадала из его внутреннего кармана. Отец поднимал бутылку и ругал ее, точно она нарочно выпадает, и от того, злился еще сильнее.
Я помогла отцу с его чемоданом, и мы отправились к работному дому.
Я шла и все думала, о том, что теперь, мое детство – это закрытая книга. Страницы в ней пусты. Мое детство – это сухой лист, гонимый ветром к черным небесам. Мое детство – утраченный рай, в который мне больше никогда не суждено вернуться.
Глава 3
Работный дом
Эта осень, стала самой тяжелой в моей жизни. Именно этой осенью я ощутила на себе всю тягость бедной жизни и после смерти матери, чтобы не умереть с голоду, мне и моему отцу ничего не оставалось, как просить помощи в работном доме. К его порогу приходили самые отчаявшиеся люди. Их словно животных, проживших всю жизнь в зоопарке, но внезапно оказавшихся в дикой среде, за забором ожидала лишь голодная смерть.
В этот морозный дождливый вечер, мы отправились к порогу работного дома.
Я помню, как грохотали над нами небеса, как они нещадно били нас с отцом дождем. Я помню, как от отца разило алкоголем и, держа свой старый, обмотанный бельевой веревкой чемодан с вещами, он едва мог стоять на ногах. Он напрочь позабыл о стыде. К сожалению, не только передо мной, но и перед всеми вокруг. Я боялась, что рано или поздно пристрастие к алкоголю доведет его до тюрьмы, электрического стула или другой, не менее скверной смерти. Под воздействием крепких напитков, мой отец становился совершенно другим человеком! Говорят, у каждого есть свои недостатки. Мой отец пил.
Забор вокруг работного дома, был выстроен из красного кирпича. Только оказавшись по другую его сторону, ты начинаешь понимать, насколько этот ужасный забор огромен и неприступен. Казалось, он упирается в небосвод!
Когда мы вошли на территорию нашего нового дома, точнее, добровольной тюрьмы, отец плелся позади, все время, спотыкаясь о брусчатку своими рваными башмаками с налипшей на них могильной грязью, и что-то бубнил себе под нос. Скорее всего, он как обычно называл меня непутевой девчонкой, не оправдавшей его надежд. Отец редко так говорил, чаще, он называл меня несостоявшейся леди.
В такие моменты, я была уверена, что именно отец и его разнузданность, ускорили преждевременную кончину мамы. Мама была слишком чувствительной к словам, что очень часто слетали с пьяных губ отца в ее адрес. Мама была слишком доброй для этого серого, утопающего в грязи и нечестивости провинциального городка Фрамстона.
Длинное, четырехэтажное здание, из того же красного кирпича, вблизи мне показалось еще угрюмее, чем у подножия холма, подъем которого отнял у нас с отцом все силы. Здание было просто чудовищно огромным и буквально нависало над нами.
Большие окна, точно глаза голодной твари, следили за нами. За некоторыми окнами горели тусклые желтые лампы, в остальных же – была темнота.
Скоро, я стану частью этой холодной темноты.
С тыла к работному дому, практически вплотную подступал лес. Казалось, деревьям было любопытно, что находится там, за забором, поэтому они стремились поскорее вырасти и заглянуть туда. Однако интерес их вскоре угасал, потому что ничего кроме изнуренных тяжелым трудом людей, здесь не было.
Местами, подгнивший, массивный фасад, обвивали высохшие вьюны плюща и кустов винограда. И плесень. Она была всюду.
Работный дом: Фрамстон-Холл – гласила старая выцветшая вывеска над дверьми. – «Умереть не так страшно – как жить мертвым», – прочла я строки чуть ниже.
Петли огромной двери пронзительно застонали, когда на стук, к нам вышла коренастая женщина с выпяченной вперед нижней челюстью, длинным носом и отвратительными волосами по всему лицу.
Я боюсь ее! Боюсь волос на лице этого чудовища!
Из помещения на нас ударил горячий запах сырого белья и гнилых овощей. Я никогда не чувствовала себя столь унизительно как в тот момент, когда мы стали отребьем, пришедшим к порогу работного дома в поисках крова и еды. А ведь когда-то у нас было все! Но это было давно, когда моя мама могла самостоятельно ходить, и кашель не отнимал ее последние силы.
– Входите, – строго произнесла надзирательница, и мы вошли. – Сколько тебе лет, девочка?
Я ответила, и нас повели к врачу. Я шла по длинному коридору и даже боялась посмотреть по сторонам, потому что была уверенна – ничего хорошего и интересного здесь нет и быть не может.
Нас завели в огромный и очень холодный кабинет. Врач – худой и длинный старик, сидел за столом и что-то писал в журнале. Он поднял на нас голову. Во взгляде этого малоприятного с виду человека, я прочла, что прочли и все остальные, пришедшие к работному дому – грусть и уныние.
Когда врач осмотрел моего пьяного отца и велел ему идти следом, он покорно направился за доктором, даже не обернувшись на меня. В этот момент, моя надежда на лучшее, угасла подобно жизни висельника, борющегося в петле за глоток воздуха.
Меня посетило ощущение, что так же как я, здесь себя чувствуют все. Этот холод, это уныние… одиночество.
Я осталась одна. Одна в кабинете врача и во всем мире.
Через окно на меня глядела тьма – дряхлая ссутулившаяся старуха с ледяным зловонным дыханием. По стеклу колотил дождь вперемешку с первым снегом. Меня сильно морозило.
Слезы на щеках уже высохли, но горло все еще обжигала горечь. Мне хотелось броситься прочь из кабинета врача и покинуть это злосчастное место.
Но бежать было некуда. Скорее всего, дом мистера Гаррисона уже обносили воры, ставшие свидетелями нашего с отцом отъезда, и столкнуться с ними было очень опасно. За пару шиллингов, я запросто могла получить удар ножом, а умирать из-за мнимых сокровищ, которых никогда не было в нашем доме – совсем не хотелось.
Когда я изучала кабинет врача, мой взгляд упал на распятие. Умирающий Иисус глядел в небеса с почерневшей от пыли стены и молил отца скорее забрать его к себе.
Это старое, полное немощных стариков, осиротевших детей, брошенных инвалидов и проституток здание, было брошено Господом. Но я очень надеялась, что ангелы, все же любят детей так сильно, что ни за что не бросят их. Особенно в таком ужасном месте как это.
Я сложила ладони, закрыла глаза и попросила у Господа прощение, за всех людей.
Затем в кабинет вошла надзирательница, не та, что встретила нас с отцом у дверей, другая. Черные брови, длинный нос и плотно сжатые губы – это были ее главные отличительные черты. Волосы на лице этой женщины не росли, но пугала она меня не меньше.
– Идем, – холодно потребовала женщина, и я сразу подчинилась. Я сразу поняла, с такой как эта надзирательница – лучше не спорить.
Внутри, Фрамстон-Холл выглядел намного больше, нежели снаружи. Потолки казались выше, окна шире. Еще меня поразило количество дверей. Их были сотни! Эти массивные стражники секретов, так часто располагались друг от друга, что можно подумать, за ними находятся одиночные камеры. Я не могла это проверить – за крохотными остекленными окошками было темно.
Что же скрывают все эти двери?
– Я Агнесса Лафайет, – сказала женщина. – Надзирательница крыла девочек. Ты нищая и оказалась здесь. Можешь считать это большим везением, особенно в наше время, когда голод выкосил уж пол страны. Здесь ты будешь трудиться, и отрабатывать пищу и кров. Беспрекословное подчинение внутреннему распорядку и труд – это твои обязанности. Тебе ясно?
Я кивнула.
– За непослушание, – продолжила надзирательница, – тебя ждет карцер. За отлынивание от работы, тебя ждет карцер. За побег, тебя ждет…
– … карцер, – угрюмо произнесла я.
Миссис Лафайет остановилась и наградила меня острым взглядом. В тот момент я поняла, что напрасно перебила ее. Скорее всего, я все еще была слишком подавлена, чтобы расставлять приоритеты.
– Извините меня, миссис Лафайет, – проговорила я, и голос мой заблудился под потолками. Уж очень они были высоки!
– За побег или даже попытку к нему, – произнесла ледяным голосом надзирательница, – тебя ждет что-то страшнее. И будь уверена, карцер тебе покажется совсем неплохим местом. И не стоит за моей спиной что-то замышлять. Я все равно об этом узнаю. Идем.
Мы отправились дальше.
Шаги миссис Лафайет были большими и тяжелыми, а стук ее каблуков, эхом разносившийся по всему коридору. Как я вскоре поняла, стук каблуков миссис Лафайет, наводил на детей больше ужаса, нежели она сама. Дети, лишь краем уха уловив этот устрашающий звук – трепетали в страхе.
По широкой лестнице, мы поднялись на второй этаж.
Я услышала музыку. Она доносилась из самого дальнего помещения. Дверь его была приоткрыта, оттуда падал тусклый желтоватый свет.
Мы вошли, и оказались в узкой длинной комнате с подгнившими, потолками и полками, где плотными стопками лежало постельное белье. Известка на стенах почернела, местами обвалилась. Здесь было очень сыро. Пахло книгами, долгое время пролежавшими в воде. Я сразу вспомнила о Тоферах – квартиросъёмщиках мистера Гаррисона. От них пахло так же.
К нам вышла тучная женщина, седая и с тяжелым дыханием.
– Это миссис Пенелопа Гухтер, – объяснила мне надзирательница. – Завхоз, прачка и кастелянша. В одном лице. Она приведет тебя в подобающий вид и отмоет. – В дрожащей от изнурительной работы руке тучной женщины, появилась машинка для стрижки волос и миссис Лафайет добавила: – У нас не допустимы вши.
Миссис Гухтер проводила меня вглубь своего холодного обиталища и завела в комнату, где посредине стояла большая глубокая ванна. Кроме того здесь были тазы, скамейки и торчащие из стен медные краники. Очевидно, здесь дети моются.
Тучная женщина усадила меня на одну из скамеек и молча принялась срезать мои волосы металлической машинкой. Локоны падали мне в ладони, сыпались на пол из черно-белого кафеля. Когда моей голове вдруг стало непривычно холодно, я поняла, что все происходящее, не сон, все по-настоящему. Теперь я – пленник работного дома. Безликий – как серость и мрачный – как уставшее привидение.
Мужчина, чей голос разносился эхом по всей ванной комнате из хриплого динамика, все так же задорно пел, когда тучная женщина жестом руки приказала мне раздеться.
Я подчинилась.
Мои пальто, платье, колготки и трусики, работница ванной комнаты, невозмутимо забросила в железную печь, где они заполыхали словно порох. Затем, миссис Гухтер, тем же безмолвным жестом руки, приказала мне лезть в ванну.
Я снова беспрекословно подчинились.
Сидя на дне пожелтевшей от ржавчины ванны, я безучастно глядела туда, куда потоки ледяной воды уносили обрезки моих волос – в черную сливную дыру. Оттуда пахло гнилью, и доносились непонятные звуки, похожие на дрожь металлических труб.
Там живут детские страхи. Они рвутся из недр этого ужасного дома.
Мне не было холодно, ни физически, ни душевно. Мне было пусто и больно.
После, миссис Гухтер выдала мне одежду из плотной ткани темно-серого цвета. Она называлась униформа и была у всех одинаковая. Мои вещи, тем временем дотлевали в котле. Часть меня дотлевала вместе с ними и часть моей мамы. Запах ее рук, которые не раз зашивали эти вещи, смешивался с едким дымом. Мама переставала существовать, словно ее саму жгли в этой печи.
– У нас не допустимы вши, – повторила миссис Лафайет, встретив меня у дверей ванной комнаты. – Замечу – умою в хлорке. Тебе все ясно?
Я кивнула и поспешно надела униформу. Она оказалась немного великовата, но зато обувь пришлась впору. Это меня, несомненно, порадовало, так как содрать ступни в кровь или постоянно спотыкаться, мне совсем не хотелось.
Пенелопа Гухтер все время молчала. Она все делала молча. Молча стригла меня, молча мыла, молча выдала мне постельное белье, полотенце и зубной порошок и так же, не проронив ни слова, закрыла за нами дверь.
Мы отправились дальше.
Мое тело знобило. В глазах все плыло. Мне казалось, что все происходит не со мной. С кем-то другим. Но не со мной. Я хотела заплакать, но боялась. Мне нужно было хотя бы дождаться ночи, только тогда я смогу укрыть свои слезы от всех. Чтобы никто их не видел, чтобы никто не спрашивал меня о них. Я не хотела разговаривать о своих слезах. Я хотела молчать. Как та женщина из ванной комнаты – миссис Пенелопа Гухтер.
– Миссис Гухтер всегда молчит? – спросила я вдруг.
Вода тонкими холодными струйками стекала с головы по шее и спине. Впитывалась в одежду, щекотала в ушах.
– Да, – коротко произнесла надзирательница.
– Почему?
Надзирательница не любила говорить с детьми, конечно если это не приказы или угрозы. Надзирательницам свойственны лишь холодный ум, каменное сердце и твердая рука, а болтовня, рушит стену между надзирателем и его подопечным. А это недопустимо.
Миссис Лафайет снова бросила на меня резкий взгляд, но к моему удивлению, что-то сдержало ее от грубости, присущей всем работникам Фрамстон-Холла.