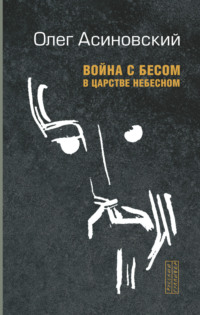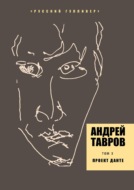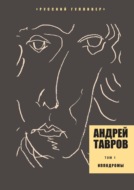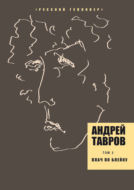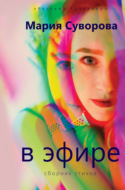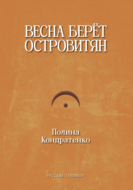Kitabı oxu: «Война с бесом в царстве небесном»
Памяти о. Александра Меня
«Можно вернуть мёртвого к жизни.
Но ещё лучше вернуть к жизни живого».
Коцкер Ребе
© О. Асиновский, 2023
© О. Белова, фото, 2023
© В. Бородин, иллюстрации, 2023
© Русский Гулливер, издание, 2023
© Центр современной литературы, 2023
Евангелие сегодня: Асиновский
Среди прочего, сложился у меня цикл «История в евангелиях», не один десяток этюдов. В том числе, о евангелии в современном кино, кажется, чуть ли не все обзирал, что выходило. Только в основном это масс-культура, что само по себе огорчительно, а главное, произведена-то верующими. Когда атеист лепит масс-культуру, ему простительно, а нам… И вот историку Бог послал… Олега Асиновского. Я сперва не вполне понял, с чем имею дело, потому что он в ФБ давал по строчке, а это как рассматривать Сикстинскую мадонну под микроскопом. Сейчас с его разрешения поместил целиком его книгу у себя на сайте: http://krotov.info/2/persons/01_a/Asinovskiy_Oleg_F.htm.
И вот что я вам скажу. Порциями буду говорить, а начну вот с чего. В русской культуре переложений Евангелия мало, разве что Мардарий Хоныков, 1679 год. Впрочем, возможно, что это Симеон Полоцкий. В любом случае, опус Хоныкова страшно похож на перевод с латинского барочного оригинала, который, правда, пока не обнаружен (впрочем, и не очень искали).
Вот в ХХ веке появились две великолепные книги. Первая – Михаила Булгакова, вторая – Венедикта Ерофеева.
«Мастер и Маргарита» написана во вполне традиционном западно-европейском жанре: Иисус приходит к христианам проверить глубину веры. «Евангельская» часть романа вовсе не та, где описана Страстная Неделя, а именно часть московская.
Иисус пришёл в обличьи Воланда – а что тут такого? По Сеньке и мессия! Но верные Иоанн – Коровьев и Азазелло. Карнавал так карнавал. Кто скрылся под маской Геллы? Да хоть Магдалина, какая разница, важна структура.
Через треть века появились «Москва-Петушки», произведение несравненно более мощное и глубокое. И тут Христос, от имени Которого развивается повествование, приходит и проверяет, но насколько же изощрённее и тоньше текст!
У обеих книг есть одно общее: написаны они неверующими.
Еще полвека прошло, и появилась книга Олега Асиновского. Это – описание Христа, написанное христианином.
Роман или поэма? Скорее, поэма, только абсолютно современная, по- настоящему» европейская», без рифм и почти без размера (но за этим «почти» изысканнейшая техника, именно поэтическая). Поэма, выстроенная вполне по Данте, от ада к раю, но только Данте совершенно не интересовался Христом, да и веру свою никак не проявлял, почему поэма, возможно, великий памятник итальянского языка, но никак не христианской веры. Не случайно всё, что осталось от Данте, это любовная интрижка учителя и ученицы и всякие живописные мучения супергероев. Какое уж тут христианство – победная песнь озлобленной мстительности, причём довольно мелочной.
Характерно название книги Олега Асиновского – тяжеловесное как чугунное облако: «Война с бесом в царстве небесном». Коммерчески абсолютно провальное, в отличие от «Божественной комедии». Богословски тоже провальное, потому что в царстве небесном бесов быть не может по определению. Литературно предельно выверенное, потому что средневековый христианин радовался, что между адом и раем пропасть, современный плакал бы по такому случаю, но не плачет, потому что знает, что схождение во ад повлекло за собой заволакивание ада в рай.
В раю бес есть, и это и есть «я», «современный верующий».
Война с бесом в царстве небесном – война с собой, со своим языковым багажом, который столько же помогает веровать, скольком мешает. Возможно, мешает чуть больше.
Более всего быть с Богом мешают слова о Боге и даже слово Божие, поскольку Слово Божие – Библия – есть жонглированите Бога словами о Боге, а слова-то норовят выпрыгнуть и жонглировать Жонглёром. Что ж, тогда Бог бежит от слов о Боге:
«Царство небесное падает в землю семечком с древа Воскресения Твоего. Лес Воскресений Ты насадил Отцу Твоему. И заблудился в тихом лесу Отец. И не вышел из леса к Тебе Он.
На зов, на шёпот Твой».
Борьба с бесом есть борьба с собой, это борьба Иакова с Богом, Иакова вместе с Богом – против Иакова. Борьба, в которой «жизни Твоя и моя сменяют друг друга».
Борьба идёт за Христа. Веровать в Воскресение – не проблема, проблема понять, какое отношение То Воскресение имеет к себе.
Асиновский делает старинный ход, возвращается в шумерско-вавилонскую древность, превращая ультра-абстрактные понятия в ультра-конкретные, так что у него не Воскресение, а порхающие стайкой воскресения. Воскресение – не событие, а «местность, свободная от души, тела» (заметим отсутствие «и» – синкопа, главный, даже единственный признак того, что это не проза, а поэзия, и не дурная). Поэзия, которая сперва кажется бабьим бормотаньем Парки, но при этом постоянно оборачивается афоризмами.
«Ты не существуешь, и всё потому, что находишься не в той точке, в которой Ты существуешь».
«Воскресение заменяет преданностью покорность, счастье любовью».
Это евангелие, потому что в центре не Воскресение, Христово либо своё, в центре Иисус. Сам Отец оказывается под судом:
«Не плоти Твоей, не душе, только Тебе делает больно Отец».
«Кто переживёт Тебя, тот доживёт до Отца», – это о чём? Это о невозможности перевода Бога в Человека, как невозможно перевести «переживёт», потому что тут потребуется самое меньшее два задания: остаться в живых, когда Иисус умер, и пережить смерть Иисуса как свою смерть.
Это евангелие, благая весть, потому что спасение вытесняется с того места, на которое его возводит любовь к себе. Ишь, спастись! Hunde, wollt ihr ewig leben! Спасение, оказывается, лишь условие Воскресения, не наоборот: «Позади спасение, впереди Воскресение». Воскресение не отвёртка-отмычка, не мгновение перехода из одного «Позади спасение, впереди Воскресение». Воскресение не отвёртка-отмычка, не мгновение перехода из одного состояния вещества в другое, воскресение оказывается совершенно самостоятельной сущностью:
«На горе Воскресения луга Царства небесного». Воскресение важнее жизни, важнее «я»: «На время душа, Воскресение навсегда».
«Воскресение заменяет преданностью покорность, счастье любовью».
Воскресение, в конце концов, важнее жизни: «Воскресение шар, а Спасение пустота внутри шара. Ты Спасением жив, а Воскресением Ты не жив. И любви полна пустота, и горит холодна».
Зато и вечность оказывается не бесстрастной ледяной пустыней, а кипятком:
«В Царстве небесном семья Воскресений, Воскресение Дева, Воскресение Младенец, Воскресение Отец, кипение страстей».
Никакой ереси или адогматизма тут нет, тут здоровый христианский буддизм, как и в коане Иисуса «кто спасёт свою душу, погубит её» (Лк 17:33). В проборматывании Асиновского:
«По Царству небесному пылинки души Воскресения ветер развеял, погас, возле себя их собрал, и стала живой опять, перестала душой быть душа».
Чеканности Данте тут не в помине, проборматывание напоминает Хлебникова и Мандельштама, но идёт бесконечно дальше.
Чудо в том, что это проборматывание не наскучивает, не усыпляет, не зомбирует, а прямо наоборот: пробуждает способность говорить – говорить прозой, то, чему изумлялся Мещанин во дворянстве.
Неужели и я говорю прозой? Да нет, мало кто говорит прозой, большинство говорящих не говорит, не мычит, а только телится, бессмысленно и беспощадно к себе и окружающим. В том числе, религиозными словами.
Нет ничего, чего человек не мог бы опошлить, а больше всего человек стремится опошлить самого себя, чтобы так подстраховаться от упрёков. Пошлый человек – никакой себе и немножечко и для человек. Не придерёшься. Не хороший и не плохой.
Плоский как небытие. Просвечивающий и потому кажущийся настоящим христианином, если лежит на христианстве, настоящим буддистом, если на буддизме, а по сути чёрная дыра, смерть-в- всех окружающих.
В войне человека за себя с собой победитель – «ад любви».
Спасение? Иисус спасает Бога Отца от ада и рая. В таком раю, спасённом от рая, с таким Богом, спасённым от Бога, не соскучишься, и в такой вечности не будешь искать, чем бы себя занять, потому что «себя» исчезнет, «Бог» исчезнет, а что появится, того, как сказано в Библии, не слышало ухо, не видел глаз, а только вот поэт напоэтствовал.
Священник Яков Кротов
О книге
Нынешний эпос Олега Асиновского – жест литературной радикальности, уровня Лотреамона и Сен-Жон Перса, требующих полностью переподчиниться авторской воле. Причем не только его эстетической, но и этической (точнее, если вспомнить Кьеркегора, «религиозной») позиции, ведущей к спасению читательской души. Минимум, к её переформатированию или же некоторой трансформации. Временной, хотя бы…
На меньшее поэт не согласен. Такой молитвенный эпос, важен Асиновскому не для литературных целей, но средством достижения эффектов, лежащих уже вне изящной словесности.
Вот почему ему так важны ему эти сложно организованные, изощренно простроенные между НЛП и барокко, массивы словесных наплывов, волн, молитв, псалмов, констатаций, обобщенных в нарративы. Погрузиться в них можно лишь отринув привычное и повседневное, перенастроив свой собственный внутренний хронотоп. Выделив внутри обычной читательской жизни, автономную и маленькую жизнь. Требование, конечно, дерзкое и амбициозное (понятно же, с кем и с чем здесь Олег соревнуется – и это не Лотреамон), но если пройти по этой торной тропе обе части диптиха Асиновского до самого конца, станет реальным положительный ответ на вопрос о возможности существования религиозной поэзии в нынешнем мире и том, какой она могла бы быть…
Дмитрий Бавильский
Читая эту книгу, я долго не могла определить, что передо мной: стихи, проза, псалмы, притчи, молитвы или дневник глубоко верующего человека, обладающего способностью объясняться с миром метафорами? Но, чем дольше я читала, тем больше укреплялось во мне убеждение, что в данном случае важен не жанр, а то, что находится внутри текста: эмоциональный, мучительный, предельно откровенный разговор автора с Богом, с каждым, умеющим и пока еще не умеющим, но готовым научиться с л ы ш а т ь земным обитателем, с самим собой, наконец. Читая, я думала о том, как нуждается в этой книге тревожный, охваченный войной мир, уже освоивший науку ненависти, но изо дня в день прогуливающий уроки любви. Тексты Олега Асиновского заполняют эти пробелы, делая человеческое существование более осмысленным. «Все великие книги написаны только о любви». – Сказал мне когда-то преподаватель литературы. Чем дольше я живу, тем вернее кажутся мне эти слова. «И ребёнок вернётся живым с войны, не возвратив души в ад. И как стыд тишина окружит дитя. И Воскресит Тебя. И очистится тишина. И прекратится война между адом и раем такая сякая, неверная светлая молодая…»
Ирина Евса
Эта книга не для чтения. Эта книга для впитывания. Прочесть её, значит – стать почвой духа и приготовить её – сухую и бесплодную – для дождя. Возможно и для Потопа, не знаю. Самый долгий дождь на Земле, согласно книге рекордов Гиннеса длился 247 дней. Это не совсем так. В каком-то Девоне дождь длился несколько миллионов лет. Приготовьте свою почву духа к такому дождю. А смоет вас или одарит плодоношением, не ваша вина. И все-таки ваша.
Сергей Золотарёв
Когда Олег написал мне, что пришлет свою новую книгу, я почему-то стал вдруг думать об отце А. Мене. Получаю присланную по эл. почте «ВОЙНУ С БЕСОМ В ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ», вижу: «Памяти о. Александра Меня». – Не бывает ничего случайного. Но случается много единственно необходимого и сущностного. Новая книга Олега Асиновского и похожа на прежние его книги и, в то же время, абсолютно иная. Она производила странное впечатление, когда выкладывалась автором в его ФБ, фрагментами, но – завораживала и тогда. Теперь же, в виде «сложившегося пазла», в своей цельности, приглашает к погружению и растворению в себе. Она текуча и предназначена тем, кто в Пути. «ВОЙНА С БЕСОМ» – для немногих, для тех, «кто понимает и не гонит» (Елена Гуро; и это имя «тишайшей матери русского авангарда» всплыло здесь как бы само собой – вспомните её «Бедного рыцаря»). Но, возможно, и для тех, кто не знал прежде Олега, не читал его книг, для первой их встречи с этой «чудно-безумной душой»…
Священник Сергей Круглов
Каков жанр новой книги поэта Олега Асиновского? Я бы назвал его – молитвой (вероятно, и не только я, книга не зря посвящена памяти о. Александра Меня); напряженная личная поэтическая речь – та часть молитвенного диалога, которую человек может как-то зафиксировать знаками и передать сотаиннику-читателю (другую же часть, произносимую Богом, читатель услышит, почует – в строках ли, между – сам). Приходские школяры из воскресной школы затвердили, какие бывают разновидности молитвы к Богу: просительная, покаянная, благодарственная; эта – какая?.. В речи Асиновского – и та, и другая, и третья, и еще четвертая, восьмая, одиннадцатая: и яростно любовная претензия Иова, и любовно яростная нежность дуэта Песни Песней, и потрясенно безмолвная глоссолалия Тайновидца, иногда – тихая беседа состарившихся супругов, сумеречные посиделки Рильке: «…каждый слог дороже золота ценя при этом».
Выговаривая молитву, поэт-индивидуум превосходит себя, свое «я», становясь поэтом-личностью, притом не растворяясь в безликом абсолюте, но – преображаясь, становясь собой-настоящим. Читая эту книгу, мы сможем вместе с автором испытать то, что в нас самих свидетельствует, как высказался некогда Бодлер, «о некой нетерпеливой скорби, о мольбе нервов, об изгнанной в мир несовершенства природе, которая желала бы немедленно, на этой самой земле, обрести открывшийся для нее рай».
Арсен Мирзаев
Стихи Асиновского – литургические. Это смелый, почти на грани дозволенного, поэтический опыт, когда автор использует ритмический строй псалмов и церковных служб, искусно вплетая в повторяющиеся (как под сводами храма) строки о вечном и мучительном воскресении души яркие «пробуждающие» образы, выводящие текст за условные границы воскресения души яркие «пробуждающие» образы, выводящие текст за условные границы канонической церковной поэтики. Его надо читать «насквозь», внимательно следя за внутренним развитием интонации, которая почти незаметно уходит от гимнов, тропарей и «премудростей», превращаясь в прямую речь почти незаметно уходит от гимнов, тропарей и «премудростей», превращаясь в прямую речь автора, разлетаясь на капли десятками «пословиц» и «присказок», и вновь соединяясь в торжественный литургический поток. Литургия шумит как дождь. Ею наполнен весь мир, в который вселен человек – единственный для Бога и себя свидетель вселенной. Свидетель, заложник, воин, беглец, жертва и победитель. Война между телесным и душевным, между смертью и воскресением происходит каждую секунду.
Противостояние, в котором сгорают наши надежды и страхи, выплескивается в мир кровопролитием, самоотвержением, отчаянием, ликованием, болью, невыразимыми гармониями и диссонансами… И живая, и мертвая природа наполнены красотой и гармонией. Все, что вне человека – божественно, будь то бросок тигра, ураган или удар молнии. Нам, людям, трудно увидеть литургическое совершенство лишь в собственных поступках. Трудно почувствовать в неровном, ускользающем бормотании своей жизни ее высший, горний смысл. Но без него – немыслимо, и любой из нас прислушивается сам, как может, лучше или хуже. Хотя что значит «хуже» и «лучше»? Ведь каждый, входящий под своды храма меняет его акустику – своим дыханием, перемещением, шепотом, взглядом. Каждый становится причастником таинства. Главное – войти.
Сергей Ташевский
Есть такой жанр в литературе «Стихотворение в прозе». Это такая форма, где лирическая речь совмещается с некоторой краткостью, где основное внимание направлено на инверсию, на выразительность текста, где существенную роль играет ритм и выразительность. Есть и более древний жанр, вернее религиозное песнопение, которое входит в состав Псалтыря. То есть – псалом. Автором псалмов Библия считает царя Давида. Мне кажется, что Олег Асиновский продолжает вот эти две ветви литературы в своих сочинениях. Он умело применяет различные варианты метафизики, показывает своё понимание отдельных частей Книги Книг, различных апокрифов, и иных мифологических сказаний.
Евгений Чигрин