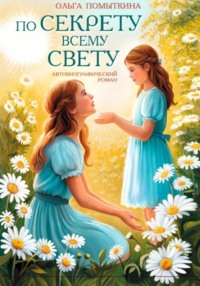Kitabı oxu: «По секрету всему свету 1 часть»
Часть 1
Моя бабушка Мария. 1987 год.
Моя бабушка Мария Александровна, 1912 года рождения, была женщиной набожной, суеверной и к тому же со странностями. Как сейчас помню (было мне тогда двенадцать лет): подхожу я к ограде, наполовину плетённой из прутьев болотного тальника, наполовину сделанной из деревянного штакетника, открываю шаткую и скрипучую калитку, захожу за ограду, заросшую вытоптанным спорышем, а бабушка (мы её звали баба Маруся) сидит на краю крылечка на своём старом, но довольно крепком стуле. Я ещё издали заметила, как она прищурила глаза и приставила ко лбу правую руку в виде козырька. А во дворе в это время заскрипела ветками и зашелестела листвой толстая берёза преклонных лет.
– Баб Марусь, привет! – весело и громко произнесла я, подходя ближе. В ответ она промолчала, продолжая прищуриваться и всё ещё держа «козырёк». Видимо, не узнавала меня. Но потом произнесла своим грубоватым голосом:
– Ольга, это ты? А я тебя не признала!
– Баб Марусь, ты меня просила в лес тебя сводить. Пойдёшь? – проговорила так же громко я.
– Да. Попозже, попозже. А Шука (так она называла сына Александра, моего отца) что делат?
– Да он на работе. А мама с сёстрами дома.
– Ну ладно, пойдём в хату, – предложила бабуля и стала потихоньку подниматься. Она была среднего роста, полновата, с горбинкой на спине, с выпирающим вперёд животом, c синими, венозными ногами в чулках телесного цвета. Бабуля не снимала их даже в самый жаркий день. На ней были надеты старый, дырявый халат из байки с поблёкшими цветами и старая-престарая вязаная кофта с грубыми заплатами из какого-то непонятного материала. Со стороны всё это выглядело очень забавно. Она мне всегда напоминала старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина. На веранде пахло полынью, разложенной на столе, и сырой бумагой из кладовой с покосившейся, облезлой дверью. Мухи бились в закопчённое от пыли окно и громко жужжали. На подоконнике стояли банки с пожухлыми, засушенными цветами. Мне всегда хотелось их выбросить, так как от них несло гнилью, но бабушка не разрешала и повторяла:
– Я люблю засушенные цветы.
Я же в ответ пожимала плечами и думала про себя: «Вот странная! Зачем держать гниль на подоконнике и разводить мушек?»
В дом мы зашли, не разуваясь возле порога (как это положено в большинстве домов), что меня всегда удивляло. На моё предложение подмести и вымыть пол она ответила:
– Нет, нет! Я не доверяю тебе. Вот Шука придёт и вымат.
– Ну хорошо, – соглашалась я.
По правде говоря, мне совсем не хотелось мести её пыльные, облезлые полы и собирать бумажки, заткнутые за шкаф, комод. Я присела возле стола-буфета на стул и молча наблюдала, пока она медленно, скрипя полом, перебирает ногами, телепаясь до любимого синего табурета. Бабуля никому не позволяла садиться на него, так как по своей странной и удивительной натуре глубоко верила, что после сидевшего она непременно чем-нибудь заболеет и сляжет в больницу. Мне всегда представлялось, что бабуля прилетела с другой планеты на космическом корабле, который утонул в болоте аккурат за её огородом. Она редко улыбалась, имея угрюмый вид, и частенько рассказывала о своих болячках, слегка покачиваясь на любимом табурете взад-вперёд. Однажды я спросила её:
– Баб Марусь, а почему ты постоянно раскачиваешься, когда с кем-то разговариваешь? Это нервы, да?
Она усмехнулась:
– Эта привычка осталась у меня после операции, когда удалили желчный пузырь. Я вот так качалась, когда у меня всё болело. С тех пор и пошло.
Она посидела немного, отдышалась и, что-то бормоча себе под нос, направилась наливать мне чай (от которого я отказывалась) в спаленку, где находились её кровать, плитка с чайником и умывальник с ведром. Из всех слов я разобрала лишь «оладьи», «кошки» и догадалась, что она опять состряпала свои кислые оладьи. Хозяйкой она была так себе: пельмени пересоленные, оладьи кислые, в общем, какое бы блюдо (варево) бабуля ни приготовила, оно было невкусным. Мне по душе была лишь её капуста кусочками в рассоле да со свеколкой. Выходило так аппетитно, что я могла съесть много и даже попросить ещё. Бабушка налила чай в гранёный стакан, поставив передо мной, и достала из стола-буфета тарелку с оладьями.
– Я прячу от кошек. Они на стол полезут – стащат, – громко произнесла она и опустилась на стул.
Есть мне совсем не хотелось, но, чтобы не обидеть хозяйку, я взяла одну лепешку и откусила.
«Да. Ничего так, съедобная и почти не кислая», – подумала я, запивая её чаем из душицы.
Над печкой и в углах колыхалась пыльная паутина, и большой чёрный паук спускался с потолка. Суетливые мухи пролетали мимо. Пахло сыростью и полынью. На подоконнике всё так же стояли в банке сушёные цветы. Кругом не белено, не крашено. В открытой углярке, перед печкой, лежал уголь с мусором, а кругом были зола и сажа.
«Как здесь вообще можно жить? – задавалась я всегда вопросом. – Наверное, привычка».
Пока я пила чай, баба Маруся сняла пожелтевший платок с головы и стала расчёсывать свои жидкие, но длинные беловатые волосы гребешком так тщательно, что даже рыжий кот, высунув голову из зала, наблюдал за ней, насторожив уши. Но когда я на него шикнула, он мигом исчез: кот был диким и всех боялся, кроме хозяйки.
Было около двух часов дня, когда мы вышли за ворота. Солнце слепило глаза. Я была в простом ситцевом платье без рукавов, в светлых гольфах и сандалиях, а из-под косынки выглядывала косичка до плеч. Бабуля же надела байковый халат, чулки и тапки; кофту она решила снять. От ворот мы двинулись вверх в сторону леса по накатанной щебёночной дороге.
Поселок небольшой, и если посмотреть на него сверху, со скалистых возвышенностей, заросших редкой травой, то можно увидеть, что сама населённая местность находится внизу, словно в яме. А вокруг, огибая эти холмы, растёт хвойный лес: высокие полуголые сосны как карандаши, пышные, могучие ели. Попадаются и лиственные деревья: черёмуха, калина, вяз и т.д. За посёлком располагаются карьеры по добыче камня. Там даже построен целый завод по его переработке для производства щебня и крошки. Каждый день с карьера доносятся взрывы, а перед этим раздаётся предупредительный сигнал – сирена. Готовые щебень и крошку доставляют грузовым и железнодорожным транспортом к месту назначения. Посёлок славится не только своим заводом, но и хвойным лесом. На скалистых полянах мы с ребятнёй часто находили окаменелые ракушки и морские полипы.
– Когда-то здесь было море, а вместо посёлка кругом солёная вода, – размышляли мы с ребятами, представляя, как раньше в наших краях плескались доисторические киты, акулы да росли кораллы и полипы.
Примерно в ста метрах от бабушкиного дома начинался хвойный лес. Дорога сворачивала налево, огибая последний дом, и уходила в глубь леса. Бабушка двигалась очень медленно, опираясь на берёзовый горбыль. Я убегала вперёд, потом останавливалась, присаживалась на корточки или переминалась с ноги на ногу – ждала бабу Марусю. Она была медлительной, нерасторопной, всё разглядывала вокруг: кустик, веточку, цветок, высказывала о каждом своё собственное мнение.
– Ты, Ольга, далеко не ходи. Лес темён – утащат.
– Ну ладно.
Я поравнялась с ней, и мы не спеша пошли дальше по щебёночной дороге, которая становилась всё круче и круче. Из-за высоких деревьев, стоящих вдоль дороги, стало совсем темно и мрачно. Ни один луч света не проникал сквозь густой лес. Безветренно. Пахло хвоей и сыростью.
– Грибами тянет, – сказала моя спутница и остановилась. – Маслята впору поспели. Может, они вон под теми ёлками?
– Баб Марусь, да какие сейчас маслята? Они в июне были, а на дворе июль. Наверняка уже переросли да сгнили. Мы с папкой ещё на той неделе в лес ходили и нашли только переросшие, гнилые.
Но ответа не последовало. Может быть, бабуля не расслышала меня, хотя вряд ли: в лесу было тихо, лишь птицы перелетали с ветки на ветку и где-то далеко куковала кукушка. Дальше мы шли молча. Дорога была крутой, и я слышала тяжёлое дыхание своей спутницы.
– Может, мы дальше не пойдём, как-то страшновато? – спросила вдруг я, переводя дух.
– Ну, пойдём взад. Дале тяжелее идти.
И мы повернули обратно.
– Баб Марусь, а расскажи что-нибудь о себе, о детстве. Помнишь? – спросила я.
– А то как же… Конечно, помню. – И она начала свой рассказ тихо, с расстановкой, облизывая то и дело пересохшие губы и тяжело дыша. – Отец мой, Александр, имел большое хозяйство – аж четырнадцать коров! Их наша мать доила сама. Встанет рано поутру – и сразу в хлев. Тяжко, руки болят, а никуда не денешься – надо всех управить и детей пятерых поднять. Жили сытно, всего вдоволь: масло, творог, сметана, молоко. Отец купил маслобойку и сам делал масло. Мать много чего продавала на рынке. Ну а после революции стало тяжко и страшно. Было дело: придут белые – мать накрыват стол, угощат. Уходят. Придут красные – опять им стол делат, кормит, поит… А отца обвинили в предательстве, в заговоре против совенской (советской) власти и забрали посредь ночи. Так мы его больше и не видели. Нам сообщили, что его убили красные. Осталась мать с нами одна, а совенская власть всё отобрала, акромя одной коровы… – И тут бабушка замолчала (ей было трудно вспоминать прошлое), на её глазах выступили слёзы, а губы задрожали.
С горки мы стали спускаться быстрее и вскоре вышли из леса. Яркое солнце обогрело нас своими лучами, ведь там, в чаще, было довольно прохладно и сыро. Тёплый ветерок заколыхал моё платьице. А баба Маруся, поправляя свой платок, медленно наклонилась над колокольчиком, чтобы сорвать его. И когда она убедилась, что это вряд ли получится, её фигура так же медленно выпрямилась, опираясь на горбыль.
«Да, страшное было время: белые, красные, революция, нищета».
Бабушка сложила руку козырьком и принялась разглядывать всё вокруг. Её душа, кажется, успокоилась.
Когда мы зашли за ограду, бабушка присела на стул, а я залезла на перила крылечка, пол которого состоял из старых, прогнивших досок, лежащих прямо на земле. На моё неумолимое: «Расскажи ещё что-нибудь!» – она ответила согласием.
– Замуж меня отдали в пятнадцать лет за тваво деда Степана Григорьевича, старше меня на пять лет. Очень характерный, вредный был. Всему меня учил. Я делать ничего не умела: ни стирать, ни варить. А там дети пошли: Иван с 1928 года… – И она загнула первый палец, помогая другой рукой. Тут я заметила, что руки у неё крепкие, жилистые и сморщенные, слегка с синими выпирающими прожилками. – Лида с 1930-го, Володя с 1932-го, Анатолий с 1935-го, Виктор с 1938-го, Вера с 1940-го, Вена с 1944-го, Александр с 1949-го, Люда с 1952-го. Вот все мои девять детей. Грамоте я не обучена. Правда, ходила немного на ликбез, знаю все буквы, но слагаю их с трудом. Деньги считать знаю как.
Наступило молчание.
Через некоторое время бабушка продолжила свой рассказ:
– Жили мы со Степаном плохо. Потом я узнала, что у него на стороне дитё есть. Переживала и детям говорила об этом. А Виктору сгоряча открыла тайну, что отец его бил, когда он в шесть месяцев болел коклюшем. После моих слов Виктор затаил на родителя злобу и перестал с ним разговаривать. Ходил обиженный, держал злость за себя и за меня. И согрешил-таки: убил родного отца.
У бабушки на глаза навернулись слёзы. Она обтёрла губы краешком платка, завязанного спереди, помолчала немножко, вздохнула и продолжила рассказывать, глядя не на меня, а куда-то вдаль. Руки её дрожали, и она потихоньку покачивалась – вперёд, назад.
– Грех большой! – повторила она.
– Если тебе трудно вспоминать, давай не будем? – спросила я тихо.
Но бабуля, всё глядя куда-то вдаль, продолжала:
– Степан отдыхал в зале после работы. Он лежал лицом к стене, а Виктор маялся – ходил туда-сюда. Шука с Людой сидели в зале за столом, рядом с кроватью отца. Слышу вскрик Степана. Я вышла из кухни в зал и обмерла: Виктор стоит с молотком в руках, а у Степана хлещет кровища из виска. «Боже, Боже, Господи!» – закричала я. А Виктор в горячке крикнул: «Вызывайте скорую, милицию!» И взял в заложены тваво отца, да так кричал! А я с места не могла сдвинуться: ноги онемели. Когда приехала милиция, он сдался. Виктору было двадцать семь лет, а Шуке – шешнадцать (шестнадцать). Виктора признали больным и забрали в психбольницу. Там он и умер через пятнадцать лет. А каким он умным был! Играл на гитаре, гармошке, балалайке, вышивал, рисовал портреты, писал стихи. У него были жена и дочка, но вместе они не жили.
Её серые, с жёлтыми белками глаза опять наполнились слезами, а губы слегка задрожали:
– Дети выросли, разъехались. Здесь остались только твой отец, Иван да Вена.
– А тётя Лида когда умерла? – вдруг спросила я.
– Её не стало, когда Шуке было шесть лет, а ей… – и она задумалась. – Ей было двадцать пять. Да, двадцать пять. Молодая. Умерла от рака желудка. Она так мучилась! А чем я могла ей помочь?..
На крылечке было прохладно – мощная берёза давала хорошую тень. Перед домом, чуть поодаль, стояли старые вязы, под которыми росли крапива и лопух.
«Некому делать клумбы и сажать цветы», – подумала я, оглядывая всё вокруг, и такая тоска на меня накатила…
Тут до моего уха долетел знакомый голос – это подружка Олеся, всегда улыбающаяся и довольная. Эдакая милая пухленькая десятилетняя девочка с толстой русой косой до пояса и в трикотажном платьице.
– Привет! Здравствуйте, бабушка! – произнесла с улыбкой девчонка и вопросительно взглянула на меня.
– Сейчас, – ответила я ей. – Ну ладно, баб Марусь, я по шла. Завтра приду картошку тяпать.
– Хорошо. И пусть отец тоже приходит.
– Ладно, – сказала я и вышла за ворота довольная.
На следующий день мы втроём отправились к бабушке. Отец шёл впереди, держа на плече три тяпки, а мы с Варей плелись сзади, болтая и заливаясь от смеха, доводя соседских собак до бешенства. Наш небольшой домик в сорок девять квадратных метров располагался через два от бабушкиного, и поэтому мы с сестрой шли налегке, в ситцевых платьях и резиновых полусапожках. Работать, конечно, в такую солнечную погоду совсем не хотелось.
«Быстро оттяпаемся и пойдём на улицу», – думала я, закрывая калитку и посматривая на высокий забор дома напротив, туда, где жила моя подруга Олеся, в надежде увидеть её. Но тут меня окликнула сестра:
– Ты скоро там?
– Да иду, иду! – нехотя ответила я.
Дверь дома была закрыта на железную щеколду, и мы пошли сразу в огород. Там под высокой раскидистой черёмухой стояла бабуля, сгорбившись и прислонив ко лбу руку в виде козырька, оглядывая свои владения, абсолютно не слыша и не замечая нас. Когда отец совсем близко крикнул: «Мам!», она вздрогнула, повернулась к нам и опустила руку.
– Привет! Помощников не ждала? – спросил спокойно отец.
– А! Шука! И девки! Хорошо!
Мы тоже поздоровались и пошли в картошку, высокую и тонкую, слегка заросшую травой. Огород, по моим детским меркам, казался довольно большим. Справа (если стоять к дому спиной) располагалась старая бревенчатая стайка с низкой входной дверью и двумя комнатушками. В одной стояла железная печь, а в другой, с очень низкой дверью, был курятник, где имелись насесты, а вокруг возвышались кучи помёта с землёй и пылью. За стайкой находилась старая уборная, возле которой можно было увидеть ряды заросшей мелкой малины. Слева – небольшие грядочки с овощами и зеленью. Прямо – непроходимое болото с тальником и близко растущими берёзами. Летом болото подсыхало, а весной вода разливалась далеко, заполняя весь огород. Рядом с болотом имелся глубокий колодец с высоким журавлём.
Мы с сестрой получили по инструменту и приступили к работе. День был в самом разгаре, солнце жгло спину и резало глаза. Даже надвинутая на брови косынка не помогала.
– Так… Что согнулись, как вопросительные знаки? – тихо, но строго произнёс отец, показывая, как нужно стоять и тяпать. – Вот так, спину ровно, срезать траву наискосок, а не зарывать в землю. – И его высокая, стройная фигура с крепкими мышцами показала нам, как нужно работать. – Поняли?
– Да, – ответила я за нас, чувствуя, что силы меня покидают и очень хочется пить.
Облизывая губы языком и морщась от солнца, я продолжала тяпать, искоса поглядывая на свою сестру в цветастой косынке и с жидким коротеньким хвостиком. Она старше на год и ростом повыше.
Под тяпку попадались не только сорняки, но и песчаные камни. Их здесь было очень много, так как местность каменистая. Тяпка дзинькала и тукала, а меня тянуло в сон.
– Перерыв! – крикнул отец, глядя на нас. – Идите в тенёк или попейте воды.
Мы с Варей отправились в дом, а отец сел на скамейку из берёзовых чурок под черёмухой, вытирая платочком пот с лица. На нём были ситцевая кепка, трикотажная светлая майка и трико.
Бачок с водой стоял на веранде. Спросив разрешения, мы зачерпнули ковшиком воду и стали пить по очереди. Воду в дом приносили дети с колонки за оградой, недалеко от дома. Баба Маруся сидела на табурете возле стола-буфета и молча смотрела на нас, весёлых, суетливых девчонок. А мы шутили, улыбались и поглядывали на неё, такие беззаботные и счастливые. Побродив несколько минут в тени вязов и черёмух, мы вернулись на огород. Отец уже тяпал. Работа после отдыха спорилась быстрее, и где-то через часок мы сидели возле грядок, разморённые солнцем, вырывая редкую траву и оставляя тоненькие росточки моркови и свёклы. А иногда рука выдёргивала и их.
– Да, всё пересохло и не растёт, – сказала я, вздыхая. – А кто здесь поливает?
– Не знаю. Иногда папка. А так, наверно, дядя Ваня, он же живёт рядом, за забором, – ответила Варя, прищуривая свои карие глаза.
Я чувствовала, как по спине течёт пот. Было так жарко и безветренно, что в носу пересохло. В высокой траве возле забора стрекотали кузнечики; на черёмухе суетились воробьи; летали бабочки-капустницы; лаяли соседские собаки.
– Ох, ну и жара! – протянула жалобно сестра, допалывая последнюю грядку. – Пойдём посмотрим колодец.
– Пойдём, – согласилась я.
Мы подошли к бревенчатому, по пояс срубу и посмотрели вниз.
– Ого, воды почти не видно. Как глубоко! – произнесла я с замиранием сердца и отошла подальше, боясь, что брёвна рухнут и я непременно полечу вниз. Затем, барахтаясь и захлёбываясь, буду кричать о помощи, а Варя станет спасать меня, опуская прогнивший скрипучий журавль. И я всё же утону.
«Ох, как страшно!» – подумала я.
– Пойдём. Хватит смотреть вниз.
– Пошли. Да, глубоко, – рассуждала Варя. – Как его смогли вырыть и, главное, чем? Интересно!
Мы двинулись по тропинке мимо болота. Неожиданно я заметила в болоте верёвку, натянутую между берёзами, а на ней бельё: кофты, халаты, платки, и всё такое выцветшее, серое, потрёпанное.
– Надо снять, оно уже высохло, – предложила я.
– Не надо, оно здесь висит с месяц или больше, – усмехнулась Варя. – Просто баба Маруся не носит новое бельё, а вывешивает его на болоте. Пока дождём не обмоет, ветром не обдует – она носить его не будет.
– Как так? – не поняла я.
– Да так. Вот такая странная наша бабуля.
Прошла неделя. Дождя всё ещё не было, хотя на небе начали появляться тёмные тучи и солнце изредка пряталось за них. В нашем чистом небольшом дворе ребятня не выводилась, каждый день слышались смех и крики. Это оттого, что наш отец-столяр преобразил и украсил двор качелями, скамейками, песочницей. Одна скамейка вокруг тонкой, но высокой берёзы – красивая, двухцветная. А ещё две под стриженым клёном – это любимое место для настольных игр, так называемая тенистая беседка рядом с окном веранды. Домик наш маленький, чисто выбелен, со ставнями и крыльцом до самых ворот. В палисаднике перед домом – заросли цветов золотые шары и два куста сирени. От крыльца до летней кухни и бани (отдельно) протянулся деревянный тротуар.
Сегодня мама, Татьяна Ивановна, пекла блинчики в летней кухне, натопив жарко печь. Она часто выходила на крыльцо проветриваться, поглядывая на свою шестилетнюю дочь Машу – очень худенькую девочку с копной курчавых русых волос. Дочка сидела в песочнице возле летней кухни и тихонько играла, а из-под платьица торчали тоненькие, как былинки, ручки и ножки. Мама смотрела на неё с жалостью и болью в глазах. Это было болезненное и слабенькое дитя с довольно капризным характером. Сама же мама – невысокая, хрупкая на вид женщина, но терпеливая, выносливая и очень чистоплотная. Она преподавала в школе домоводство у девочек, а летом у неё были каникулы, как и у нас.
Мы с сестрой Варей и подругой Галей сидели в нашей тенистой беседке, когда баба Маруся, слегка косолапя, подошла к воротам и принялась искать крючок, чтобы открыть их, но так и не нащупала его. Тогда я поспешила ей на помощь.
– Привет, баб Марусь! – обратилась я к ней и вернулась за стол.
– Здоровья всем! – сказала она, ступая по крыльцу, глядя на маму, а не на нас.
– Привет, мам, иди сюда. Ты как раз вовремя, чаю попьём, – весело и гостеприимно произнесла наша мама.
– Таня! А Шука где? – взволнованно, с обидой спросила она.
– Он на работе. А что случилось?
– Ничего, ничего. Просто обещал прийти и забыл.
– А! Вечером зайдёт.
Бабушка Маруся зашла в летнюю кухню. Она была в лёгком платье с поблёкшими цветами, в чулках и вельветовых тапках, а на голове у неё был повязан цветастый платок.
– Ох, какая духота! Нет, Таня, я пойду наружу – там прохладно.
– На тебе блинчик масленый. – Мама свернула блин и подала бабе Марусе.
Та приняла, откусила и вышла на улицу.
– Ой, какой вкусный! – сказала она, громко причмокивая и быстро глотая, точно давно ничего не ела.
Мама вынесла ей стул, но она на него не села, видно, боялась заболеть. Я наблюдала за ней из беседки, хотя это считалось закрытым местом. Солнце спряталось за тучи, и подул сильный ветер. Стало пасмурно и скучно. Подружка и соседка Галина, худенькая десятилетняя девочка, побежала домой, увидев на крыльце через дорогу свою мать, тётю Соню. Варя собрала со стола тетрадки и альбомы и направилась в дом. Где-то вдалеке загремел гром, и на небе мелькнула яркая полоса. Даже наш пёс Енот залез в будку, оглядываясь и прижимая уши. Редкие капли дождя стали потихоньку накрапывать.
– Ой, дождались дождя! – произнесла бабуля громко, но с досадой. – Не мог попозже, как до дому идти.
– Пережди у нас и пойдёшь, – проговорила мама.
А я зашла в летнюю кухню, налила себе чаю и села есть блины, быстро откусывая и жуя, поглядывая через окно на бабу Марусю, которая всё же села на стул у кухонного окна. Мама с Машей ушли в дом. А бабуля сидела, тоскливо и задумчиво поглядывая на трепетавшую под ветром берёзу. В её взгляде не было страха и ужаса перед раскатами грома. Она сидела тихо, покорно шевеля губами, словно что-то шептала. Гром усиливался и усиливался, и наконец полил сильный дождь, размывая песок в песочнице.
Тут прибежала мама, вся намокшая, и завела бабушку в кухню, держа её под руку.
– Да Таня, я же под крышей, не промокла бы, – сопротивлялась та.
– Промокла бы. Смотри, как хлещет!
И правда, ветер метал струи дождя в разные стороны, и по двору к огороду потекли большие лужи, так как двор имел уклон. Мы втроём сидели и смотрели на улицу через окно и открытую дверь. Сырой прохладой потянуло снаружи, и в кухне стало свежо. Мама налила бабушке чаю и поставила перед ней блины со сметаной. Та с аппетитом, причмокивая, принялась поедать их, запивая горячим напитком.
– Таня, как там твоя мать поживает? Что-то её не видно. Не болеет? Раньше часто проходила мимо, останавливалась, рассказывала о себе, о внуках.
– Да нет, не болеет, дел у неё много, – с иронией и обидой произнесла мама. – К нам никак не зайдёт, всё мимо проходит.
– А почто так?
– Да дел много.
– Она очень грозы боится, – вмешалась я в разговор. – Сейчас, наверно, под подушкой лежит. Её сестру убило молнией. Правда, мам?
– Да, совсем молодую, – грустно ответила та, вытирая платком мокрые коротенькие волосы цвета каштана.
Несмотря на скромную обстановку, в летней кухне было чистенько и уютно: извёсткой побелённые стены, два светлых окна; рядом – стол, несколько стульев и табуреток. Разувались возле порога, кроме бабы Маруси, – она всегда заходила в обуви, обтерев о травку или тряпку. Исключением служила дождливая погода. Бабушке приходилось потрудиться, чтобы снять обувь, так как у неё сильно болела спина.
Дождь вскоре закончился, но с крыши всё ещё продолжало капать, а по дорогам потекли ручейки. Щебёночные дороги хорошо впитывали влагу – не образовывалось грязи и жижи.
– Спасибо, Таня, накормила. Я пойду домой, – сказала бабуля и вышла на крыльцо.
Я последовала за ней. На улице пахло дождём и прибитой к земле пылью.
– Мам, я бабу Марусю провожу? – неуверенно спросила я.
– Проводи, проводи. Поди, к подруге собралась?
Мне же ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ, ведь она была, как всегда, права. Мы шли потихоньку, выбирая, где посуше и потвёрже. Мелкая крошка щебня прилипала к ногам. Где-то вдалеке ещё сияло небо и раздавались раскаты грома. Ветер понемногу затихал. Совсем далеко, за горой, эхом отдавался стук колёс железнодорожного состава – это в соседнем посёлке Баскускане шёл поезд. Несколько дней жары настолько измучили природу и нас, что наступившая прохлада радовала и восхищала всех.
На улице не было ни души, и даже собаки затихли. Маленькая питомица моей подруги, обычно заливавшаяся хриплым лаем, тоже молчала. Даже когда я подошла к высокому забору, из-за которого не было видно двора, и несколько раз крикнула: «Олеся!», собака лишь огрызнулась и звякнула цепью. Баба Маруся молча пошагала до дома, а я осталась ждать ответа. Во двор зайти я не могла: высокие ворота были закрыты изнутри. И напрасно так долго стояла, всматриваясь в высокие окна веранды, – никто не вышел на мой голос. Что ж, нужно идти домой.
Не было ещё и двенадцати часов дня, когда меня принесло к бабушкиному дому. Шторки в комнатах пока занавешены по старинке, с середины окна. Тучки плыли по небу, а солнце, выглядывая краешком, согревало и подсушивало промокшую землю и зелень. Трава возле ворот и во дворе тоже сырая, намочила мне гольфы в сандалиях, и стало совсем зябко. Да ещё и ветер смёл капли дождя с берёзы прямо на меня.
– Прекрасно! – произнесла я вслух. – А у бабы Маруси в доме холодно и сыро, но я всё же зайду.
Прикрытая дверь легко отворилась. На веранде неприятно пахло сыростью и плесенью, из-за чего у меня перехватило дух. Нет, я не была брезгливой к этому дому, впрочем, и привычная обстановка меня нисколько не угнетала, но жить здесь не смогла бы ни за что. Этот некрашеный, старый домишко не шёл ни в какое сравнение с нашим меньшим домиком по своей чистоте и ухоженности. Мама – эталон чистоты и доброжелательности – вычищала свой дом до блеска, даже бельё в шкафах было разложено по ассортименту и аккуратными стопками. И не дай бог нам создать там хаос! Она тут же сердилась и заставляла наводить порядок. Эта дисциплина нас с сестрой иногда угнетала, но подчиняться всё же приходилось, так как разгневанная мама могла в случае чего и отлупить. Но только меня, очень вредного и строптивого ребёнка, всегда идущего наперекор. Я понимала, что бабушке в её-то годы трудно управляться с таким домом, и всячески предлагала ей свою помощь. Но она отказывалась, ссылаясь на то, что её всё вполне устраивает и она не хочет ничего менять, а запаха свежей краски и вовсе не переносит. Меня многое удивляло и поражало в ней. Это спокойное отношение к жизни и полное безразличие к некоторым вещам. К примеру, её мало волновал огород, которым занимались дети, причём для неё же. Беспорядок в доме бабулю не задевал. Она не была калекой, и если бы двигалась больше, а не сидела целыми днями на крыльце на своём стуле, то, может, и болела бы меньше. Хотя это моё личное мнение.
В доме пахло жареной рыбой. Хозяйка стояла ко мне спиной, слегка согнувшись над сковородкой в своей маленькой спаленке. На столе-буфете творился беспорядок: грязные гранёные стаканы в заварке, крошки хлеба, клубочки из светлых волос (видимо, она расчёсывалась недавно), кишки рыбы, стекающие с разделочной доски.
«Интересно! Что бы сказала мама, если бы увидела всё это на нашем столе?» – подумала я и произнесла:
– Баб Марусь, привет!
Она спокойно повернулась всем телом и, не удивляясь, не улыбаясь, а так, как-то безразлично произнесла:
– А, Ольга, это ты. А я рыбу жарю.
– Понятно, – огорчённо ответила я и плюхнулась на табурет, разглядывая на пыльном окне паутину с бьющейся мухой и пауком, спускающимся к ней.
«Сейчас заколет», – подумала я.
– Отец скоро придёт? – перебила мои мысли бабуля.
– Да. Он сегодня отдыхает, – последовал мой ответ.
Мне пришлось отвернуться от окна и начать смотреть на сгорбившуюся старушку с пожелтевшим платком и в кофте с заплатами. Да ещё на старенькие занавески в спальне, придающие комнате сумрачный вид. В этом доме все занавески открывались ровно в двенадцать часов дня. Такой распорядок установила бабушка – самая странная и удивительная натура, но этим меня и привлекающая. А почему она так делала уже много лет, никто не знал, да и сама бабуля не давала внятных ответов. Телёпая по дому и шаркая ногами, хозяйка двигала тряпочки на окнах по натянутым с середины верёвочкам. В комнате стало светлее, но запах сырости засел в доме накрепко, и выгнать его могла лишь растопленная печь, которую уже давно не топили.
На веранде послышались тяжёлые шаги, и на пороге, хлопнув дверью, появился крепкий, стройный мужчина с аккуратно стриженными русыми волосами и серыми глазами. Это был отец. Он задумчиво улыбнулся и крикнул:
– Мам, я пришёл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало! – И, увидев меня в зале, произнёс: – А что ты так рано сбежала, даже не позавтракала? Мать там переживает…
– Да мне к Олесе надо было сходить, – ответила я, разглядывая портреты на стенах: с одного смотрел Виктор, с другого – Лида; также в рамочке красовалась вышивка Виктора.
Отец пришёл сделать доброе дело для матери – постирать бельё. Ей самой данная работа была не по силам, так как требовалось принести чистую воду с колонки, а грязную – вынести на улицу (слив в доме отсутствовал).
– Ну что, займёмся стиркой века! – весело проговорил отец, глядя на меня. – Пока я буду носить воду, ты, мать, собери грязное бельё.
– Соберу, соберу, – спохватилась старушка.
Стирать решили в зале, выкатив круглую стиральную машину на середину комнаты. Отец взял два ведра и отправился за водой.
– Ладно, пойду прогуляюсь, – сообщила я.
Предлагать свою помощь не стала, так как заранее знала, что меня не только не подпустят к стирке, но даже и постоять рядом и понаблюдать не разрешат. Лишь двоим детям мать доверяла это грязное дело: моему отцу и дочери Люде, которая жила в городе с семьёй и приезжала очень редко.