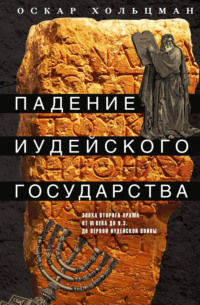Kitabı oxu: «Падение иудейского государства. Эпоха Второго Храма от III века до н. э. до первой Иудейской войны»
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025
© «Центрполиграф», 2025
* * *

От переводчика
Предлагаемое сочинение Хольцмана составляет часть известной Всеобщей истории, издаваемой Онкеном. Беспристрастие автора и самостоятельность его при освещении описываемых событий искупают в значительной мере некоторые недостатки изложения. При бедности литературы по еврейской истории на русском языке появление в свете предлагаемого сочинения вряд ли окажется лишним. Сделанные в переводе пропуски не существенны и не нарушают цельность книги.
Москва, 1899 г.
Глава первая
Евреи в эллинизированных странах до Антиоха IV Сирийского
1. Еврейство и эллинизм
Со времени Рехавеама Палестина служила ареной борьбы, привлекавшей к себе властолюбивые замыслы, с одной стороны – египтян, а с другой – восточноазиатских народов. В эпоху, когда нельзя было отважиться на морские битвы, Палестина представляла собою естественное поле для состязаний между властителями передней Азии и Нильской долины. С одной стороны, повелители Месопотамии только здесь могли делать попытки к завоеванию средиземной береговой полосы, не вступая в опасную борьбу с более могучей цивилизацией малоазиатских греков; кроме того, Средиземное море было для них наиболее доступно именно в этом месте. С другой стороны, для египетского государства было чрезвычайно опасно нашествие более сильной державы как раз в данном пункте. Вот почему египтяне должны были или сами овладеть этой береговой полосою или же, по крайней мере, воспрепятствовать укреплению на ней чужой крупной силы. Этим объясняется то, что фараоны уже давно стремились либо подчинить себе эту страну, либо хоть оградить ее от чужих притязаний. Необходимым следствием этого была постоянная борьба Египта с великими царствами передней Азии, борьба, которая ко времени ассирийского царя Ассархадона (671) и персидского – Камбиза (около 525) привела к временному уничтожению египетской самостоятельности. Предшественник Камбиза, основатель великого Персидского царства Кир, хотел, вероятно, именно для охраны своего могущественного положения в Палестине, воздвигнуть оплот против египтян, разрешив евреям вернуться на их прежнюю родину. И по возвращении туда они целых два столетия наслаждались миром и спокойствием, которое было восстановлено Камбизом для этой части Персидского царства, благодаря покорению Египта. Незначительные раздоры с самаритянами и идумеями не заслуживают особенного внимания сравнительно с прежними, мир потрясавшими войнами между Египтом и Ассирией; их нельзя сравнивать даже с войнами между Израилем и Дамаском за верховное господство в Сирии. В течение этого долгого периода мира все более и более ослабевала политическая сила народа, ясное отражение которой мы находим еще в книге второго Исайи; зато только теперь евреи научились сознавать себя особой религиозной общиной, гордость которой заключалась в неуклонном исполнении писаного закона. Государственной жизни с ее разнообразными стремлениями и заботами больше не было. Духовные сокровища, в которых греки до известной степени находили утешение в гибели своего политического строя, искусство и наука – для евреев едва существовали. Вот почему со всею цепкостью своего духа они ухватились за то наследие отцов, которым, именно по сравнению с другими народами, они по праву гордились, как особенным достоянием Израиля, – за культ религии и нравов. Вместе с тем тогда уже стала развиваться, преимущественно у оставшихся в рассеянии евреев, наклонность к торговле, которая кажется как бы врожденною семитической расе.
Но и это не было последним фазисом в историческом ходе воспитания израильского народа. Очарование, которое окружает образ Александра Великого, как могущественнейшего носителя западной цивилизации на восточной почве, своим волшебным жезлом коснулось и еврейства. Важнейшим последствием победы Александра было, несомненно, то, что этот властитель проложил путь, по которому религия Израиля в своей христианской переработке могла быть передана западному культурному миру. Как совершался этот процесс в частностях, должно будет показать все дальнейшее изложение. Легко указать схему этого поступательного движения. Задачей эллинизма, т. е. цивилизации в том виде, в каком она распространилась в государствах, своим возникновением обязанных Александру, – было слить восточное и греческое миропонимание, взгляды на жизнь и нравы, в одно целое так, чтобы духовные особенности каждого отдельного народа сделались всеобщим достоянием. Таким образом, несомненно, что в тенденции всей этой эпохи кроется причина как того, что Израиль стремился сообщить свою религию западному культурному миру, так и того, что он сам принужден был считаться и с греческой философией. Однако возможность распространения израильской религии среди других народов очень затруднялась ее своеобразием. Безусловное упование на Бога, которое отличало евреев, было у них тесно связано с представлением, что Израиль есть совсем в особенном смысле народ Божий. Таким образом, обращение в еврейство без вступления в еврейскую народность было, собственно говоря, совершенно невозможно. Конечно, еврей не только из набожности, но и из патриотизма чувствовал в себе наклонность к обращению чужеземцев, и его усердие к прозелитизму не оставляло желать ничего большего; но чем сильнее было это усердие, тем более сознавал он и то препятствие, что язычника его патриотизм удалял от религии Израиля. Тогда стали производить различные опыты: центр тяжести еврейской религии переносили на ее этический элемент и восхваляли возвышенность религиозно-философского понимания единства Бога, а ядро древней религии – упование на Бога – устраняли из катехизиса для языческого мира; или же облегчали присоединение к еврейству тем, что отчасти игнорировали, отчасти перетолковывали, отчасти, посредством философских объяснений, делали, по крайней мере, более доступными существовавшие на этот счет постановления. Но затруднения оставались, пока в христианстве не возникла новая форма израильской религиозной жизни, форма, которая сохраняла в высшем совершенстве именно то, что было ценного в предшествующих стадиях израильского религиозного развития, и при этом сделала возможным распространение этой религии среди других народов, нисколько не нарушая их самостоятельности и индивидуальности. И таким образом христианство есть самая важная форма, созревшая благодаря эллинизму. Ибо в искусстве и науке восточные народы не создали ничего такого, что существенно превзошло бы первоначально греческую образованность.
Период мира, начавшийся со времени покорения Египта Камбизом, закончился победоносным походом Александра. Среди смут, которые последовали за разделом его великого царства, Палестина должна была выносить тяжкие страдания. Если в Египте Птоломеи явились наследниками фараонов, то Селевкиды, как властители Месопотамии, Сирии, Персии и части Малой Азии, смотрели на себя, как на преемников знаменитых переднеазиатских великих царей ассириян, вавилонян, персов. И таким образом скоро снова началась, как бы из внутренней потребности, борьба за область пограничную для обеих сторон – Палестину. В этой борьбе Птоломеи с самого начала имели то преимущество, что область их господства лежала в местности, защищенной со всех сторон природой и точно ограниченной местности, которая могла быть покорена только как целое, но никогда не могла быть на продолжительное время разделена. Напротив, более обширному царству Селевкидов недоставало такой единой нераздельной области. Прежние властители передней Азии видели, правда, такую область в Месопотамии, но эта страна, благодаря долгому господству Ахеменидов, была слишком связана с близкой к ней Персией, чтобы Селевкиды имели право считать средоточием своего царства провинцию, которая вместе с Персией оплакивала гибель своего родного государства. Правда, Селевк здесь, на берегу Тигра, заложил город Селевкию, который впоследствии завещал свою славу, лежавшему на левой стороне реки, Ктезифону. Но этот город уже при втором преемнике Селевка Первого, при Антиохе Теосе (266–247), не принадлежал больше Селевкидам, а вновь возникшему царству парфянских Арзакидов. Древняя резиденция Вавилон, который Александром Великим сделан был столицей царства, и который еще при Антиохе III считался единственной столицей Селевкидов, лежал слишком далеко от прибережной полосы Средиземного моря. Последняя подвергалась опасности со стороны Птоломеев, македонян и пергамцев, и Селевкиды, в силу эллинистического характера своего владычества, не могли отказаться от обладания ею. Так жили они, то в Сардах, то в Эфесе и, наконец, в избранной лишь впоследствии и по необходимости резиденции Антиохии на Оронте.
Отсутствие у царства Селевкидов укрепленных границ, несомненно, давало себе чувствовать и евреям. После битвы при Ипсе Палестина была обещана Птоломею Лаги, и вследствие этого она в течение почти ста лет принадлежала новому египетскому царству; этот период, в сущности, и представляет собою время мирного эллинизирования еврейства. Рассудительная политика Птоломеев относилась к евреям так же, как и к египтянам. Религиозные воззрения и основанные на них обычаи были, в общем, не только заботливо охраняемы, но даже и культивируемы. Основателю династии Птоломеев, Птоломею I Сотеру, евреи, впрочем, никогда не простили того, что он во время политических смут, предшествовавших окончательному формированию эллинизированных государств, однажды взял хитростью и обманом Иерусалим, воспользовавшись субботним отдыхом. Говорят, что тогда же (следовательно, до 301 г.), он увел в Египет много пленных из гор Иудеи, из окрестностей Иерусалима и Самарии. Сущест вует также рассказ о значительном добровольном переселении евреев в Египет. Без сомнения, Птоломей старался увлечь часть евреев в Египет, потому что эти люди представляли собою удобное соединительное звено между коренными египтянами и господствующим греческим населением. Действительно, с египтянами они разделяли, например, обряд обрезания, различение чистых и нечистых животных, а с просвещенными греками – веру в единство и духовность Божества; также и в отношении ловкости в торговле они, в отличие от египтян, соперничали с подвижными и суетливыми греками. С другой стороны, более серьезное отношение к жизни было у них общим с египтянами. Таким образом, первый Птоломей сделал их в Александрии равноправными гражданами и поставил наряду с македонянами; в виду их преданности он даже пользовался ими в качестве гарнизона для своих крепостей.
Если, таким образом, поселение евреев в Египте уже ко времени первого Птоломея стоит на совершенно твердой почве, то, наоборот, обладание Палестиной, даже спустя некоторое время после битвы при Ипсе, по-видимому, не оставалось для Птоломеев неоспоримым. По крайней мере, один из позднейших Селевкидов, Антиох IV, мог ссылаться на то, что Селевк после битвы при Ипсе владел Палестиной. Во всяком случае, Селевк (первый, с прозвищем Никатор) стремился приобрести благоволение евреев. Если первый Птоломей поставил их наравне с македонянами, то Селевк Никатор дал им права гражданства в Малой Азии, северной Сирии и в городе Антиохии и, следовательно, тоже уравнял их с греками-победителями. При этом случае он проявил свою благосклонность к ним совершенно особенным способом. Дело в том, что новое право, действовавшее в этих городах, было правом победителей над побежденными и влекло за собою известные выгоды в пользу первых. Обыкновенная подать этих городов, уплачивавшаяся их гражданами, по-видимому, состояла во взносах маслом. То, что евреи, которые, конечно, также мало общего имели с греко-македонскими победителями, как и остальные жители указанных областей, все-таки сумели извлечь для себя выгоду из этого права, – несомненно, поразительно. Они, очевидно, были обязаны этим той самой услужливости, благодаря которой они после уничтожения вавилонского царства добились от победителя Кира позволения вернуться в Палестину. Их не приковывала патриотическая любовь ни к какому из распадавшихся мировых царств, и, таким образом, они умели извлекать для себя пользу из всякого изменения, существующего политического строя. Но, по меньшей мере, столь же удивительным, как и это предоставленное Селевком I право евреям, является то особенное внимание, которое было оказано их своеобразным установлениям при пользовании этим правом. Именно, Селевк разрешил евреям взимать упомянутую подать масла деньгами, потому что евреям запрещено было пользоваться чужеземным маслом. И этой привилегии евреи не были лишены даже в римский период после кровавого исхода Иудейской войны, когда общины роптали на тяжесть подати.
2. Семьдесят толковников
Около 280 г. Птоломей II (Филадельф, 283–247) захватил всю Финикию и Палестину вплоть до укрепленного города Дамаска. Евреи, тем не менее, могли иметь что-нибудь против этого, что победитель сохранил по отношению к ним политику своего отца и удостаивал их различными проявлениями дружбы. Значение, которое в его время уже приобрела еврейская колония в Египте, лучше всего сказалось в том, что евреи перевели тогда с еврейского на греческий язык текст своего Закона. В точности неизвестно, принимал ли сам Птоломей Филадельф какое-либо участие в осуществлении этого перевода. Еврейская легенда, которая уже около конца третьего столетия была записана Аристеем, рассказывает о 72 еврейских переводчиках, которые в течение 72 дней, благодаря сочувствию египетского царя и еврейского первосвященника Элеазара, исполнили этот перевод для царской библиотеки. Несомненно только то, что перевод Пятикнижия Моисея возник между 280 и 220 гг. в Александрии и положил основание тому великому движению, которое с того времени стремилось раскрыть перед гречески образованным миром высокое достоинство израильского религиозного развития. Ибо, во всяком случае, сильнее, чем потребность египетских евреев в переводе их Священного писания на испорченный, в сущности, греческий язык для целей богослужения и домашнего поучения, – сильнее была нужда в таком переводе для цели большего возвеличения иудаизма. «Греки ищут мудрости», и поэтому не хотели скрывать от них мудрости Израиля. Таким образом, в первом переводе ветхозаветного писания на греческий язык, мы не имеем дела с религиозной потребностью ни в том смысле, что египетские евреи разучились уже свободно читать древнееврейский текст, ни в том смысле, что они хотели обратить греков в еврейство: этот переводный труд был скорее делом еврейского честолюбия, которое не желало видеть литературной образованности евреев, отодвинутой на второй план. Ибо, как верно то, что, лишь только этот перевод был закончен, им регулярно пользовались также и писавшие по-гречески евреи, так верно и то, что он составною частью вошел в круг тех произведений, которые предназначены были для языческого читающего мира, чтобы выяснить пред ним достоинство иудаизма. Уже письмо Аристея без всякого колебания признает, что переводчики переводили не для говоривших по-гречески евреев, а для греков; и можно с уверенностью сказать, что люди, греческий язык которых был языком этого перевода, не нуждались в греческом переводе древнееврейского текста. В обыденной жизни и в Палестине давно уже не употребляли древнееврейского идиома и, однако, еще не чувствовали тогда потребности в писаном арамейском переводе. К тому же и большая часть других иудейско-александрийских греческих произведений меньше имели в виду еврейскую общину, чем греческий мир, и почти все они проникнуты стремлением уяснить грекам образованность и мудрость еврейского народа. Сочувственный прием, который этот перевод «Закона» нашел в нееврейском обществе, имел по своим результатам не только богатую литературу о превосходных достоинствах еврейского Закона, но и, прежде всего, – продолжение начатого перевода. Вся еврейская литература должна была быть сделана доступной для греков. Эта работа продолжалась, во всяком случае, до предпоследней четверти второго столетия до P. X. (150–125). Но еще больше времени прошло, пока эти греческие переводы вместе с разного рода первоначальными произведениями по-гречески говорящего еврейства были соединены в один общий библейский канон, который, сообразно с упомянутым легендарным рассказом о переводе Закона 72-мя учеными евреями, получил условное название перевода Семидесяти Толковников.
Этот перевод не создан, таким образом, одним лицом или хотя бы одним кружком ученых, – это упорный труд, быть может, более чем полутора столетий. Достоинство этого перевода весьма значительно. Правда, как было уже указано, перевод Закона не искусен, и эта оценка в различной степени может быть приложена ко всему тексту 70 толковников, так как хороший греческий язык встречается только местами в самых поздних переводах. Но этот перевод открыл не только грекам еврейский мир. Самая работа над ним и тотчас же возникшее всеобщее пользование им много способствовали тому, что евреи привыкли облекать в язык запада своеобразный мир своих мыслей. Это произошло не без того, чтобы некоторые слова не получили до сих пор чуждого им нового смысла; так, понятия «мирт» и «честь» были углублены совершенно необычным образом. С другой стороны, необходимость сообразоваться с цивилизованным языческим читающим миром открывала иногда переводчикам глаза на такие места их Священного Писания, которые казались не подходящими для просвещенных взглядов современной эпохи. Однако такие места лишь изредка подвергались изменениям; придавать им то или другое значение предоставляли толкованию. Перевод 70 толковников мало-помалу до такой степени получил права гражданства среди говорившего по-гречески еврейства, что он почти совсем вытеснил из употребления первоначальный текст. Пользовался ли еще этот текст вообще каким-нибудь вниманием среди говорившего по-гречески еврейства в течение ближайших столетий на еженедельных синагогальных собраниях, всюду имевших место, – это вопрос; но верно то, что ко времени Иисуса Христа не только в Египте, но именно в сердце Палестины, в Иерусалиме, были высокообразованные и строго-набожные евреи, которые, если они писали по-гречески, придерживались только текста 70 толковников, а не первоначального еврейского подлинника. Мы имеем здесь в виду апостола Павла. Односторонние палестинцы, вероятно, склонны были сокрушаться по поводу этого обстоятельства, потому что они видели в нем признак денационализации своих соплеменников и единоверцев; но в действительности этот перевод был, конечно, также и главным средством, позволявшим евреям сохранять свое национальное образование, которое легко могло бы быть забыто на чужбине. Старый язык приходил в забвение, а старые нравы они соблюдали тем усерднее, что Закон Божий, которому этот язык поучал их, вместе с тем возвышал их чувство собственного достоинства в виду гордых своею образованностью греков. Отсюда и произошло то, что александрийские евреи впоследствии ежегодно праздновали тот день, в который перевод Пятикнижия был представлен царю для библиотеки. С точки же зрения нашего современного исследования, перевод 70 толковников имеет неоценимое значение потому, что лежащий в его основании еврейский текст не тот еще, который был впоследствии канонизован. Во многих пунктах он представляет собою чтение, отступающее от нашего еврейского текста, – чтение, которое, конечно, тоже не всегда первоначально, но все-таки очень часто способствует выяснению подлинного текста.
3. Еврейство в Палестине и вне нее
Ясно, однако, что пребывание столь многих евреев вне Палестины необходимо вызывало известные различия в исполнении Закона среди еврейского народа. Закон Моисея в том значении, какое он имел со времени Эзры в Иерусалиме и его окрестностях, как известно, сосредоточивал все жертвенное служение в Иерусалиме и вполне определенно предписывал каждому еврею являться, по крайней мере, три раза в год в Иерусалим. Но уже в Палестине нельзя было точно соблюдать этот закон. Это было уже много, если благочестивые галилеяне отправлялись в Иерусалим каждый год во время Пасхи. Конечно, от евреев Сирии, Малой Азии, Месопотамии и Египта было бы неразумно требовать чего-нибудь подобного. Много благочестивых людей, живших на чужбине, испытывали страстное желание, по крайней мере, раз в жизни увидеть священный город. Кто только был в состоянии так или иначе исполнять это, тот, разумеется, и издалека соблюдал предписание Закона с возможно большей точностью. И это не было единственным пунктом, где исполнение Закона было просто немыслимо для рассеянных по языческому миру евреев. Закон во всех своих частях был рассчитан на земледельческий народ. Его праздники были праздниками Жатвы и бóльшая часть его установлений (например, наследственное право, предписания относительно седьмого года) были вообще важны или исполнимы только для земледельцев, а евреи на чужбине занимались денежными делами и торговлей. И если они и могли регулярно проводить седьмой день, с точки зрения окружавшей их языческой среды, – в лени и бездействии, то бесспорно, конечно, что они, при всем своем желании, никак не имели возможности соблюдать субботний праздник с тою строгостью, которая со времени Неемии укоренялась все более и более в стране евреев. Но важнее всего то, что по своим строго религиозным понятиям еврей, находясь в деловых сношениях с не евреями, вовсе не выходил из состояния нечистоты. Таким образом, этому рассеянному среди эллинского населения еврейству, при всей серьезности, с какою оно соблюдало свой Закон, постепенно должно было все-таки навязываться сознание разницы между более важными и менее важными его предписаниями. Не то, чтобы в этических заповедях видели теперь ядро Закона: обрезание, святость субботы, требования относительно пищи, все это высоко ценилось, как признак принадлежности к народу Откровения; но редакция этих предписаний была, сообразно с внешними обстоятельствами, смягчена, и многие из них должны были быть устранены, как неисполнимые. С тем большей силой именно теперь развивали книжники в Палестине свою изумительную казуистику, посредством которой они охватывали каждый мыслимый случай жизни целой сетью регламентов, первоначально не имевших почти никакого отношения к нему, и обводивших таким образом «ограду вокруг Закона» для того, чтобы по возможности никто не переступал его. В другом месте мы ближе познакомимся с этими условиями; здесь же нам остается только подчеркнуть, что связь еврейства, жившего на чужбине, с его метрополией была слишком тесна и глубока для того, чтобы из этого далекого мира не веяло каждый раз свежее дуновение воздуха на косное еврейство Палестины. Это общение происходило по совершенно определенным колеям, не только благодаря праздничным путешествиям, которые всякий раз увлекали из каждой более или менее значительной общины в Иерусалим то того, то другого, но и вследствие регулярной храмовой подати, которую нужно было уплачивать ежегодно.
Каждый еврей должен был ежегодно, в месяц адар (т. е. приблизительно в март), вносить дидрахму тирского чекана, что составляет около сорока пяти копеек. Другие подати, которые уже в Палестине довольно часто могли быть повсюду обременительны, всякого рода натуральные повинности, где их вообще платили, – были обращены на деньги. Значит, и здесь, в пункте, очень чувствительном для палестинцев, исполнение Закона было, если не совсем нарушено, то все-таки приспособлено к обстоятельствам. При всем том евреи на чужбине и на родине чувствовали себя, безусловно, единым целым, в осознании, что Закон Бога есть гордость Израиля и что этот Божий Закон должен быть соблюдаем всяким правоверным евреем.