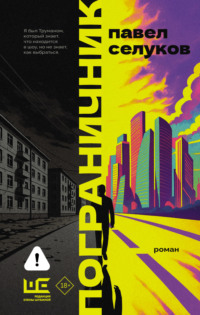Kitabı oxu: «Пограничник»
© Селуков П.В., 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
⁂


Бабушке, дедушке, Артёму, Никите, Маше Махоне и всем, кто не дожил.
Дом на Доватора, 30а, был желто-розовым, тусклым, похожим на Петербург. Питер я увидел через тридцать лет, а сейчас я только родился. Мне ноль лет и несколько дней. Отец держит меня на руках. Бабушка говорила, его переполняла нежность, он не знал раньше такой нежности, поэтому его руки слегка дрожали. Рядом с отцом стояла мать. В ее глазах, это я предполагаю, зная дальнейшие события, плескалась животная любовь, готовность растворить себя в младенце. Впрочем, я не видел глаз всех матерей, может, это общеупотребительное. Справа и слева от родителей стояли бабушка и дедушка, рядом с бабушкой – мамина сестра. Фотографировал нас сосед Малышев.
Раннее детство я помню плохо, память изменяет мне, как молодая жена пожилому мужу. Впрочем, я помню нашу двухкомнатную квартиру, где не было предусмотрено помещение для ванной. Горячую воду мы брали из батарей, а мыться ходили в общественную баню. Лет до пяти я ходил в женское отделение с мамой. Там я смотрел на женские груди, то ли из эротических соображений, то ли хотел есть. Потом меня отдали отцу, и я попал в мужское отделение. Там я смотрел на пенисы. Сейчас я понимаю, что и женские груди, и пенисы были самими запоминающимися подробностями человеческого дизайна. Они у всех разные, еще более разные, чем лица. А еще и те, и другие висели, а висит обычно то, без чего можно обойтись: сережка, волосы, флаг. Может, этой «лишностью» они меня и завораживали. Позже я прочитаю у Якоба Бёме об андрогине, юноше-деве, и в моей голове кое-что прояснится. Или затуманится.
К семи годам я пристрастился к парилке. Отец начал вводить меня в мир веника постепенно, но, видя мои успехи и удовольствие, невероятно обрадовался. Скупой на эмоции, отец мог годами сжиматься внутри, как пружина, чтобы взорваться безобразной яростью или безобразной нежностью. Вся моя жизнь пройдет в поисках его одобрения.
Я быстро понял: если я парюсь и не убегаю из парной, то отец меня любит – улыбается, ерошит волосы, хлопает по плечу, дает первому попить квас. Ребенком я не понимал, что внутри отец меня любит, просто не показывает, ребенком я думал, что раз не показывает, то и не любит. Вернее, раз я не вижу. А тут увидел.
В баню я стал ходить не за паром, за любовью. Парился до головокружения. Однажды шел с тазиком, поскользнулся и боднул головой бетонный стол, на котором набирали воду. Обычно в сценариях такое событие запускает последствия: ребенок вырастает маньяком, или у него открывается талант к музыке, или он получает способность летать. Это не тот случай. Я оклемался. Всё.
Мне было пять. Шел 1991 год. Страну трясло. Раньше по выходным мы всей семьей лепили на кухне пельмени, теперь все сидели у телевизора. Пельменей больше никто не лепил. Отец включал на кассете Высоцкого, дед пытался стащить водку из морозилки. Это был обряд, традиция. Это нас здорово всех объединяло. Но исчезла страна, исчез и обряд. Бывает.
В моем доме жила девочка Оля с братом Димой. Она была на год младше меня. Когда ей было шесть, а мне семь, Оля предложила заняться сексом. Я был против. Однажды я забежал к родителям в спальню и увидел, как папа трахает маму. Он лежал на ней и, кажется, душил. Мама стонала от боли. Я кинулся к отцу, схватил его за руку и потащил. Отец машинально отшвырнул меня к серванту. Я упал. Включился свет. Я увидел отвертку, схватил.
– Не обижай маму!
Я целился отверткой в отца, будто направлял в атаку полки́. Неистовый Бонапарт. Отец подошел ко мне, он был завернут в одеяло, забрал отвертку, взял на руки. Я заплакал. Подошла мама:
– Не плачь. Папа меня не обижал. Это секс. Люди так детей заводят. Мы тебе сестренку хотим.
– Мне она не нужна!
Отец поставил меня на пол и легко шлепнул по попе:
– Всё, быстро спать!
Я понуро ушел в свою комнату. А тут Оля со своим сексом. Я ей все рассказал.
– Да нет, Паш, тут не так! Ты меня за ноги держишь, а я руками по земле. Давай!
Оля приняла упор лежа и протянула мне ногу. Я взял. Потом вторую. Оля пошла руками по асфальту, я поплелся за ней. Тогда я не знал, а сейчас понимаю – это была метафора всех моих будущих отношений с женщинами.
В первый класс я пошел на Кислотных Дачах, в чудесную 89-ю школу. Чудесную – потому что в ней был урок бассейна. Плавать я уже умел. Отец выкинул меня из лодки на реке Чусовой. Я воспринял это как еще одну возможность заслужить его любовь и просто поплыл, как маленькое влюбленное животное. Но в бассейне нас учили плавать разнообразно, правильно дышать, нырять. Помню, я куда-то шел и подумал – вот бы все люди жили в воде, а не на земле, как было бы здорово!
Прогуливать школу я начал во втором классе. Уже тогда во мне стала проявляться эта патология – непереносимость запретов, правил, чужой воли. Даже разумной воли. Как только я понимал, что чего-то нельзя делать, я тут же невыносимо хотел это сделать. И «невыносимо» не преувеличение. Моему однокласснику Саше Иволгину мама купила приставку «Денди». Она была челноком, такой энергичной женщиной с белыми волосами и в золоте. Я видел ее пару раз. Она показалась мне похожей на мужчину.
Как-то мы с Сашей встретились у школы. Саша сказал:
– Мне приставку подарили. Пошли поиграем?
– А школа?
– Прогуляем.
От одной мысли, что я прогуляю школу, перехватило дух. Приставка меня не сильно интересовала. Я не знал тогда, что такое «эскапизм», но уже его не любил. Раскрыли нас через три дня. Раскрыли бы и раньше, но политическая ситуация отвлекла. До двух ли мальчишек, ушедших куда-то, когда куда-то вышли все?
Надо сказать, ушел я не в первый раз. Был еще садик. Меня отдали туда в четыре года. Я увидел молоко с пенкой и на прогулке скрылся через щель в заборе. «Лучше смерть, чем молоко с пенкой!» – наверняка подумал бы я иронично, будь у меня ум. Нашли меня на другом конце района – мама и милиционер на уазике. Мама была счастлива, милиционер – не очень.
Кроме бассейна, в школе случилась моя первая драка. Это был кабаноподобный мальчик Новосельцев с челкой, как у битлов. Не помню, из-за чего мы сцепились. Кажется, я любил девочку с какой-то невероятной косичкой, и Новосельцев за эту косичку дернул. Драку я откровенно проигрывал. Новосельцев допинал меня до конца кабинета, где я его как-то уронил. Рядом валялся пустой пакет, мы оставляли сменку в классе, я взял этот пакет, надел Новосельцеву на голову и затянул. У меня не было идеи задушить Новосельцева, я действовал по какому-то наитию. Стоило мне тогда насторожиться. Потому что это наитие будет сопровождать меня всю жизнь. Когда в класс забежала учительница и оттащила меня, Новосельцев был без сознания. Меня напугали директор, мама и бабушка. А папа на улице похвалил. Я был счастлив. Может, тогда, а может, мне теперь кажется, что тогда, но я понял, что должен побеждать в каждой драке. Ради папы. Любой ценой.
Бабушка моя работала в ту пору начальником отдела кадров нефтебазы. Нефтебазы по всей стране поглощал «Лукойл». Бабушке предложили уволиться по собственному желанию. Бабушка отказалась. До пенсии ей оставался год. Согласилась она, когда «Лукойл» предложил ей две новые квартиры на Пролетарке, на другом конце Перми. Взамен бабушка уходила и отдавала нашу квартиру и две комнаты, в одной жила моя прабабушка Ольга, которую все звали Лёля, а в другой прабабушка Нина, которую так и звали. Новые квартиры были на третьем и девятом этажах. Мы въехали в ту, что на девятом: я, мама, папа и прабабушка Лёля. Помню, открыли дверь в ванную и долго смотрели на эту роскошь. А потом папа включил душ. Праздник какой-то.
Я бродил по квартире и не верил, что буду здесь жить, так много места. И к окну страшно подходить – высота. Когда я первый раз к нему подошел и посмотрел, мне захотелось прыгнуть, резкое такое желание, как зубная боль. Я испугался и отбежал.
Отец не хотел переезжать, все его друзья жили на Кислотках. Последним его аргументом было то, что на Пролетарке нет освещенной лыжной трассы. Почувствуйте всю беспомощность – никто в нашей семье не катался на лыжах.
На Пролетарке я прижился легко, как сорняк. Подружился с ребятами, чьи имена вам ничего не скажут, но перечислю: Киса, Дрюпа, Шира, Петя, Гриша, Толстый. Такая стая человеческих щенков: шалых, веселых, глупых. Из достижений – влез на стрелу крана. Я боялся высоты и ненавидел себя за это, поэтому и полез. Хотел покончить с этим, хотел свободы. Это я сейчас так думаю. А тогда… Полезли все – полез и я. Кран стоял посреди заброшенной стройки. Стройку мы воспринимали как свою недвижимость. В каком-то смысле она уравнивала нас со взрослыми.
Из поражений. Отец ковырялся в машине, я стоял у подъезда, ждал, когда позовут помогать. Мимо шел Юра Баранкин, мальчик на год старше меня, десятилетка. По неизвестной мне причине мы с Юрой решили подраться. Обхватили друг друга за шеи, сели на бордюр и стали щипаться. Меня подвела близость отца. Я все время ждал, что он придет на помощь и покарает Юру. Не пришел. Наконец мы с Юрой расцепили объятья, и он ушел. А я остался и заплакал.
– Чего ревешь, как баба! Нормально дрался. Иди умойся.
Я поднялся домой, где излил всю свою боль маме. Мама утешала меня, как могла, но суть трагедии, кажется, от нее ускользнула. А я смекнул – помощи не жди. Всё сам.
Тогда же, в первое лето на Пролетарке, я увидел смерть. Мы с Толстым играли в песчаном карьере позади дома. Вдруг – крик. Мы всмотрелись. В окне восьмого этажа второго подъезда стояла девушка в халате. С ее ноги спала легкая тапочка и полетела вниз, слегка планируя. За тапочкой полетела девушка. Уже соступив, она тонко вскрикнула: «Мама!» Мы с Толстым побежали. Девушка лежала на асфальте, ее руки-ноги вывернулись, как у пластмассовой куклы. Правый глаз был открыт и пугал нездешним выражением. Из него смотрело ничто. Мы замерли с Толстым, не понимая, кажется, что произошло. Из-под девушки поползла лужа крови. Девушка была мертвая, а кровь – живая. На уровне чувств меня это потрясло. Сейчас я пошутил бы про девушку Шрёдингера – живую и мертвую одновременно. Но тогда я просто смотрел на ползущую к моим сандалиям кровь. Это было красиво. Я не знал еще ни Поллока, ни Ротко, но доминацию цвета, его глубину, насыщенность, эмоцию оценил, пусть и не сформулировал. Много лет я считал, что та смерть на меня никак не повлияла. Теперь я склонен думать, что повлияла. Если представить жизнь книгой, что я сейчас и пытаюсь сделать, то я был на первых страницах, однако, благодаря случаю, подсмотрел финал. Конечно, я продолжил читать, то есть жить, с тем же интересом, но знание финала нависало и производило во мне свою работу.
За мортидо последовало либидо. Иногда мне кажется, что это одно и то же, как абсолютный минус и абсолютный плюс. В каком-то смысле они не следуют друг за другом, они друг друга подтверждают. Мне повезло, а может, не повезло жить в эпоху зарождения новой технологической природы. На моих глазах появились пейджеры, игровые приставки, видеомагнитофоны, CD, сотовые, DVD, компьютеры, флэшки, ноутбуки, интернет. Мир становился все более удобным и предсказуемым. А еще этот мир искушал. Мой дед, когда был пацаном, мог полюбоваться голой женщиной, разве что подглядев в окно женского отделения бани. Мы смогли это сделать по видеомагнитофону и тайной кассете Гришиных родителей. Гриша взломал отверткой ящик в отцовском столе. Он не искал ничего конкретного, ему просто не понравилось, что он заперт. Эта нелюбовь ко всему запертому или любовь к открытому сохранится в Грише до конца его дней и сыграет трагическую роль в его судьбе. А пока Гриша добыл кассету, вставил в видик и с первых же секунд просмотра осознал всю ее исключительность. Это был триумф, а триумф, подумал Гриша, глупо переживать в одиночку. Да и как-то страшно. Вскоре на диване расположились: Киса, Дрюпа, Шира, Петя, Толстый, Гриша и я. На экране возникла очень вольная интерпретация сказки братьев Гримм «Джек и бобовый стебель». Это был мультфильм. Когда Джек взобрался по стеблю наверх, там оказалась роскошная великанша, она обнажила роскошную грудь и приложила Джека к роскошному соску, как подорожник. На эту нарисованную грудь мы страшно возбудились. То ли как бывшие дети, недавно от груди оторванные, то ли как будущие мужчины, вновь к ней стремящиеся. Вдруг великанша раздвинула молочные ноги, и мы увидели сокровенное. Тонкая нарисованная полоска волос, как стрелка, указывала на самую суть. Я ел экран глазами. Я не думал о том, что вышел из чего-то похожего, я думал, как бы во что-то похожее войти. Представьте же мое удивление, когда великанша взяла Джека, как палочку, и ввела в себя по самые ботинки. А потом вынула. И снова ввела. Раз-два, раз-два. Лицо Джека чем-то испачкалось. Великанша начала стонать, ноги задергались, груди стали еще больше. Гриша потрясенно поставил видик на паузу. Переглянулись. Гриша озвучил повестку:
– Почему она так стонет?
Шира отреагировал:
– Секс.
Гриша не сдавался:
– Да я понимаю, что секс. Стонет почему?
Дрюпа ответил:
– От удовольствия.
– Ты стонешь от удовольствия?
– Нет.
– Кто-нибудь стонет от удовольствия?
Все переглянулись и помотали головами.
Я сообразил:
– Она чешется.
– Чего?
– У нее чешется внутри, и она Джеком чешет. И стонет, расчесывает.
Подумали. Гриша поверил:
– А-а-а! Точно.
Киса уточнил:
– Подождите. Это что получается – у женщин там всегда чешется, а мужчины им чешут?
Я проявил твердость:
– Ну да.
– А мужчинам это зачем?
Подумали. Гришу осенило:
– У них тоже чешется.
Шира не согласился:
– У нас же не чешется.
– Мы маленькие еще. Вырастем, и зачешется. Будем чесаться об женщин, а женщины об нас.
Этот вывод устроил всех. Действительно, иной раз между лопаток так зачешется, хоть вешалку хватай, а если внутри, да еще нежное?
Гриша включил запись. Великанша потряслась на стуле и обмякла. Джек выбрался наружу и вытер лицо о ее подол. Потом он взобрался на стол и снял штаны, явив нам маленький крепкий пенис. Великанша послюнявила два пальца и взяла пенис Джека. И давай чесать. Эта сцена возбудила нас сильнее предыдущей. Как обезьянки бонобо, стали мы хватать друг друга за члены, стараясь воспроизвести увиденное на экране. Быстро игра приобрела жестокий пенисовырывательный характер. Я сбежал, выпрыгнув с лоджии: Гриша жил на первом этаже. Дома я заперся в туалете и впервые помастурбировал. Под веками проступила белая кожа, раздвинутые ноги, голубые глаза, пышная грудь и розовые соски. Было чудесно. Не знаю, в тот ли момент, почему-то хочется думать, что в тот, я распробовал силу воображения, прикоснулся к тайне, живущей в темноте век каждого человека. Позднее я обманчиво пойму, не умом даже, а твердым наитием, что мои фантазии лучше и совершеннее реальности, а значит, главнее.
На Пролетарке я пошел в новую школу, в новый 3 класс под литерой «Г». Оттуда помню только классную руководительницу Марину Сергеевну, вернее, ее кофту крупной вязки из петелек. Я смотрел на нее всякий раз, когда только мог. Не знаю уж, чем она мне так приглянулась. И девочку Аню Птицыну. Марина Сергеевна заставляла меня танцевать с ней медленный танец на вечеринке для третьеклашек. Странновато прозвучало. Помню, я вцепился в парту, они стояли по периметру танцпола, Марина Сергеевна тянула меня за талию, а другие девочки отцепляли пальцы. Они победили. Я танцевал с Аней, умирая от какого-то первобытного стыда, природу которого едва ли понимаю и теперь.
Экзистенциально моя жизнь проходила тогда не в школе, а в зале карате. Если кому интересны подробности, это было карате школы киокушинкай. Спортзал находился за железной дорогой. Чтобы в него попасть, надо было пройти по пешеходному железнодорожному мосту. На тренировки меня водил отец, обычно захватив с собой пару бутылок пива. Наши тренировки он воспринимал как телевидение. Или смешные гладиаторские бои. Отец обожал карате. У него был темно-коричневый пояс. В восьмидесятые он тренировался в каком-то подвале и сохранил о тех временах теплые воспоминания. Видимо, эти воспоминания как-то умножали его энтузиазм. Отец не просто сидел на всех моих тренировках, но и тренировал меня дома после тренировок. Иногда он разбивал мне губы, ставил синяки, один раз разбил нос. Я не думал об этом как о насилии или несправедливости, я даже не сильно переживал, это был фулл-контакт, мы просто работали. Переживал я из-за кимоно. Все мальчики в зале носили покупные кимоно, а я носил сшитое мамой. Мама говорила, что это временно, чтоб понять, нравится мне карате или нет. Если нравится, купим тебе настоящее. Отец молчал. А я догадался, что у нас нет денег. Тогда впервые деньги стали для меня синонимом проблемы, а их наличие – ее отсутствием. Мальчишки в зале постоянно цепляли меня из-за этого кимоно, обзывали его курткой и пиджаком. Они меня злили. Добавьте к этому тренировки с отцом. Где-то через полгода я стал уничтожать всех, кто был в моей секции. Я ведь привык блокировать тяжелые руки-ноги отца, доставать его, а тут какие-то девятилетки. С карате мы разошлись по разным углам, когда мне было одиннадцать. Я дрался в финале чемпионата Перми, проигрывал по очкам. Мальчишка был ловким и легким, я никак не мог попасть и бесился от этого. На трибуне сидел отец. Время боя истекало. Распсиховавшись, я пробил правый прямой. Кулаком точно в нос. Меня тут же дисквалифицировали. Удары рукой в ли-цо в киокушинкай строго запрещены. Я сломал мальчику нос. Первый сломанный нос в моей жизни. Из секции меня тоже отчислили. Правда, это мало что изменило в моей жизни. В школе открылась секция дзюдо, и я перекочевал туда, вернее, отец меня отвел. Он с гордостью воспринял такое мое поражение, обозвав соревнования балетом.
После 3 класса «Г», довольно сносного в нравственном смысле, я попал в 5 «Е». Тогда школьников учили по двум программам – 1/3 и 1/4. Первая четвертого класса не подразумевала, вторая на нем настаивала. Я учился по первой, как бы торопился жить – в школу пошел с шести, в четвертый не ходил. Кто тут у нас такой маленький и взрослый?
Класс наш состоял из девочек и мальчиков из неблагополучных семей. Вскоре я выяснил, что большинство этих семей – многодетные. Родители моих одноклассников не обязательно пили, не обязательно кололись, не обязательно сидели в лагерях, просто они размножались. За это их дети попали в класс-отстойник, где полгода могло не быть математики, вовсе не быть черчения или биологии. Но я понимаю это сейчас, тогда мы радовались, что у нас нет математики, черчения, биологии. Почему не было? Учителя отказывались преподавать нашему классу. Тут замкнутый круг. Во-первых, наш класс быстро зажил по лагерным понятиям. В Пермском крае, тогда области, находится двадцать восемь колоний. Женская колония и вовсе была напротив Пролетарки, через дорогу. Зэки освобождаются и оседают по окраинам Перми. И несут в массы свои принципы. Естественно, мы эти принципы легко и с удовольствием впитывали. Понимаете, у тех принципов не было конкурентов, общество ничего другого нам не предложило, вот мы и взяли, что дают. Я взял в меньшей степени, потому что пропадал в спортзалах, но мои одноклассники пропитались ими донельзя. Учителя видели в нас маленьких зэков и презирали, а мы, чувствуя их презрение, еще вернее превращались в маленьких зэков. Во-вторых, из-за лагерных принципов мои одноклассники, а вскоре и я, не боялись наказаний. Апофеоз наказания – зона, а попасть в зону, в это святое место, считалось почетным. Любовь к аду освободила нас от десяти заповедей. В этом недостаток любой стращающей системы. Учителя не имели рычагов давления на нас, кроме инспектора по делам несовершеннолетних, но и та – крашеная блондинка с огромной попой и угрями на носу – разводила руками. Мы часто слышали от учителей – по вам тюрьма плачет. Иногда я мечтаю: вот бы к нам тогда пришел учитель и заговорил по-людски, по-воровски, вытащил нас, мы бы прожили долгие жизни, завели семьи, увидели мир. Смешно.
Я нарисовал мрачную картину, но картина эта мрачна лишь в силу своей ретроспективности. Тогда я просто пришел в новый класс, на перемене на меня наскочил Эдик Антипов, я швырнул его через бедро, но не довернул бросок в пол, как полагается, а бросил как бы вдоль пола, чтобы соперник эффектно прокатился кубарем. Конечно, меня зауважали, вскоре наградив погонялом Спортик. Спортиком я пробуду, пока не стану наркоманом. Кому-то этот переход покажется неестественным, однако это не так, это все те же абсолютный плюс и абсолютный минус, вид сбоку. У нас не было такого, что кто-то встал и сказал: «Давайте жить по лагерным понятиям, братья и сестры!» Просто метла, которая смела нас в «Е» класс, смела как раз тех, кто уже по ним жил или, по крайней мере, присматривался. В первый месяц все со всеми передрались. Не передрались, чтоб определить иерархию, а передрались и определили иерархию. Кто-то ушел вниз пищевой цепочки – к отверженным (лохам), кто-то остался серединкой на половинку (мужики), а кто-то ушел наверх – в блаткомитет (блатные). Если отбросить лагерный жаргон, это обычное деление приматов всех мастей. Может быть, за исключением бонобо, где разногласия решаются сексом. В приличных классах типа «А» и «Б» деление было точно таким же – ведущих, ведомых, лидеров никто не отменял, просто наша иерархия была священной, корыстной и насквозь пропитанной физическим насилием.
Как-то в седьмом классе, уже весной, мы тусовались с Эдиком Антиповым за школой, он курил, а я подтягивался на турнике. Вдруг Эдик спросил:
– Ты кем хочешь стать?
Он не спросил – кем хочешь стать, когда вырастешь. Это симптом то ли нашего класса, то ли поколения – мы не считали себя детьми даже тогда, когда ими были.
Я спрыгнул с турника и ответил:
– Чемпионом мира по дзюдо.
Мой ответ был тем более комичен, что в школу я всегда ходил в брюках, туфлях, рубашке и пиджаке, такой ботаник. Если б я не был Спортиком, меня бы живьем съели за такой, как сейчас говорят, «лук».
Я сел рядом с Эдиком. Он посмотрел мне в глаза:
– А я знаешь, кем хочу стать?
Мне было плевать, кем он хочет стать, но я спросил:
– Кем?
– Вором в законе.
Мое лицо чуть не треснуло от желания засмеяться. Выдохнув, я заметил:
– Отбывать надо.
Эдик покивал и как-то драматически навис над своими коленями.
– Надо. После школы отбуду.
– По какой?
– Да вот думаю. Сто шестьдесят первая или сто пятьдесят восьмая.
Мы все тогда уже отлично знали уважаемые статьи. 161-я – грабеж. 158-я – кража.
– Со сто шестьдесят первой на сто пятую можно заехать. Не коронуют.
– Да я в курсе.
– Знаешь, кто ты?
– Кто?
– Вор Антип.
Я не выдержал и заржал. Антип покраснел, а потом спохватился:
– Не говори никому!
– Всем расскажу.
– Да блин! Я тебе за это…
– Давай. Над асфальтом полетаешь.
– Да блин! Ну пожалуйста, не говори.
– Не верь, не бойся, не проси. Ты же вор, должен знать.
По поводу детских диалогов. Моя память не сохранила их ни в каком виде, за давностью лет я не могу их расслышать, как не слышно слов из-за толстой стены, однако я помню, что говорили мы чисто, стараясь говорить по-взрослому, поэтому представим прямую речь в этой книге не как возрастную примету или характеристику персонажей, а как способ передачи информации, потому что только за информацию я и могу поручиться.
Я действительно всем рассказал про вора Антипа. Эдика с тех пор так и звали – вор Антип. Поначалу он психовал, но потом и сам стал ржать над этим прозвищем. Может быть, это его сберегло. Сложно по-настоящему хотеть стать тем, над кем смеешься, даже если смеешься над несоответствием, а не сутью. Тогда мы не могли сформулировать, но интуитивно чувствовали – Эдик добрый мягкий парень, в нем нет жесткости и жестокости, он никакой не вор, тем более – в законе. Через шесть лет, в 2004 году, по телевизору покажут сериал «Штрафбат» с Алексеем Серебряковым. Я сяду смотреть первую серию, как вдруг в ней появится персонаж по имени вор Антип. Там так и скажут – вор Антип. А я вдруг исчезну из своей сложной жизни и перемещусь на лавку, в май, в тот разговор, так что даже и запахи весны вползут мне в ноздри. Казалось бы – мелочь, всего два слова, а меня уже нет, исчез, вышел покурить. И я уверен, мои одноклассники, когда это услышали, тоже вышли. Я не думал тогда – сила слова, власть момента, просто стал переживать за вора Антипа, как за родного, и сериал, который пять минут назад был обычным сериалом, стал родным, личным. И война стала личной. Я все это присвоил. Сделал своим. Позже, когда я чуть поумнею, начну писать книги и сценарии, то пойму – я должен дать людям героя, которого дал мне случай в лице вора Антипа. Вовсе не сюжет или язык главное в литературе и в сценариях, главное – герой. Пока нет героя, все остальное не имеет никакого значения.
Я отвлекся. В седьмом классе нашу параллель охватило новое увлечение – выяснить, кто самый сильный боец в этой самой параллели. В нашем классе учился третьегодник Витя Зюзя Чупа-чупс. Он был на голову выше нас, такой дяденька среди детишек. Однажды мы с Витей подрались. Он оторвал рукав моего пиджака, а я кинул в него цветочным горшком, но не попал. Нас разняли девчонки. Все они были пацанками, хоть и красивыми. Я понимаю, что это неправда, но мне помнится, что все наши девчонки были красивыми. Объективно красивой была Настя Спиридонова – бледная волоокая брюнетка с рано поспевшей грудью. Мне кажется, мы так тогда красоту и воспринимали: поспела – красивая, не поспела – расти над собой. Вообще девочки ставили нас в тупик, потому что в зоне девочек нет и наши понятия, исторгнутые оттуда, обращению с ними в принципе не учили. Нет, там был запрет на еду-питье после девушки, практиковавшей оральный секс, и запрет на куннилингус, но в положительном ключе о девушках там не говорилось. Мы как бы жили в зоне, не живя в зоне, да еще и с таким неопределенным фактором под боком, как девушки. Большинство из нас их сторонились. Но чем старше мы становились, тем сильнее нас к ним тянуло. Девчонки же жили своей женской зоной, заигрывали с нами и были такими свободными, что казались нам чокнутыми. Чтобы хоть как-то растормошить инертность нашей касты, девочки придумали анкеты. Там были всякие личные вопросы, мальчик на них отвечал и отдавал девочке, а девочка давала ему точно такую же анкету, только заполненную ею. Бумажная версия Тиндера. Первой с такой анкетой подошла Настя Спиридонова. Избранником был Яша Тихий, брат Витамина. Настя протянула тетрадь и сказала:
– Тут анкета. Заполни, пожалуйста.
– Нафига?
– Взамен я тебе свою отдам.
– Нафига?
– Узнаем друг друга.
– Нафига?
Настя взорвалась:
– Людское потому что! Заполни, блин!
– Ладно.
Вскоре в игру с анкетами включился весь класс, кроме меня и Вити, нам анкет никто не предлагал. Я не подавал виду, но в глубине души переживал. Идет в мою сторону какая-нибудь девочка с тетрадкой, я в стойку – сейчас анкету даст! Нет, мимо. Прошел месяц. Я пошел за школу на турники, на лавке сидел Витя, курил сигарету или «шабил сижку», как он говорил. Я поздоровался:
– ПТ, Витя.
– Падай.
Я сел. Выждав, спросил равнодушным тоном:
– Тебе девчонки анкету давали?
– Не.
– И мне. Почему, думаешь?
– Да страшные мы. Ха-ха-ха!
Витя это так сказал, так засмеялся и так быстро ушел, что сейчас бы я подумал – вешаться. Тогда я истолковал его слова в пользу собственной опасности. Я такой опасный, что девчонки боятся со мной связываться. Как Ван Дамм. Хотя с Ван Даммом девчонки постоянно связывались. Вот – как Боло Янг. Я – Боло Янг. В юном возрасте, да и в любом, сложно набрести на мысль, что ты можешь просто не нравиться, что тебя могут просто не любить.
Но вернемся к выявлению самого сильного бойца в параллели. Не знаю, кому в голову пришла эта грандиозная идея, но одобрение она встретила во всех классах, даже в умненьких «А» и «Б». Что-то древнее наползло на нашу параллель: большие пальцы, опущенные вниз, лавровый венок на челе, гладиатор, забрызганный кровью. Сейчас мне кажется, что дело было не столько в зрелище, сколько в сладком гаденьком чувстве, когда бьют другого, не тебя, а ты в шаге от опасности, но шаг этот защищает тебя вернее бетонного забора, поэтому ты одновременно и зритель, и участник драки.
В «Е» классе вслед за преподавателями могли исчезнуть какие угодно предметы, неизменными оставались труды, музыка, театр и шахматы. Последние два держались на энтузиазме учителей. Денег за свою работу они практически не получали, это были крохи даже по сравнению с зарплатами педагогов, которые вели базовые предметы. Театр преподавала Анжела Борисовна. Помню, мы ставили какие-то незатейливые пьески, много ржали и постоянно ходили красномордыми то ли от смущения, то ли от свободы. На урок театра мы шли смущенными, потому что не знали, чего ждать, не знали такой свободы, а уходили счастливыми, потому что ее распробовали. Воровской закон, блатная оптика, феня, ужимки сползали с нас, мы снова становились детьми. Но стоило нам покинуть кабинет, как все возвращалось. Однажды мы с Антипом сидели на лавке после театра, Антип курил. В его лице доплясывала свобода, какая-то хитрая радость Емели, поймавшего щуку, он играл его в спектакле и будто бы все еще был им там, на сцене. Но вот его лицо захлопнулось, как забрало рыцаря, стало плоским, мрачноватым. Антип отщелкнул сигарету в клумбу и резюмировал:
– Ладно, чё. Поморосили, ваньку поваляли, и будет.
Я заинтересовался:
– Что будет, Антип?
Антип вздохнул, как двенадцатилетний взрослый, и ответил:
– Ничего хорошего.
Шахматы вел Дмитрий Павлович, которого все звали Дмитрий Палыч. То ли язык стремится к лапидарности, то ли туда стремился Дмитрий Палыч. Работал он машинистом на железной дороге, рано вышел на пенсию и пришел в школу преподавать шахматы и вести шахматный кружок. Денег за это ему не платили вовсе. Дмитрий Палыч любил шахматы. Он был советским кандидатом в мастера спорта. Загаром, лысиной – она ему шла, диким темпераментом – он часто швырял фигуры по доске, попав в цейтнот, привычкой нависать над доской и обхватывать голову руками Дмитрий Палыч здорово походил на Каспарова1. За глаза мы называли его Кимыч. Кимыч – это отчество Гарри Каспарова.
К шахматам я пристрастился легко и быстро. Это как с детьми: сначала учишься ходить, потом ходишь, а потом начинаешь думать, куда пойти. Собственно, думать, куда пойти, и ходить, куда подумал, это и есть шахматы. А еще, в отличие от нардов и покера, в шахматах нет встроенного элемента удачи. Никакой вам сильной руки или кубиков, выпадающих шестерками. Одинаковые фигуры, одинаковое количество времени. Все зависит от тебя. Но в этом и жестокость шахмат. В покере и нардах ты можешь сказать – не повезло! В шахматах ты так сказать не можешь. Кимыч быстро заметил, что я не умею проигрывать. Бешусь, швыряю фигуры. Поэтому он стал играть со мной лично. Каждый раз я проигрывал, а он заставлял меня разбирать эту партию. И показывал мне, где я повернул не туда. Заставлял меня учиться.