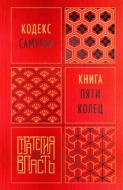Kitabı oxu: «Государство»
© Егунов А. Н. (наследники), перевод, 2025
© Тахо-Годи А. А., примечания, 2025
© Львов К. В., предисловие, 2025
© Оформление. ООО «Издательство Азбука», 2025 КоЛибри®
* * *


Предисловие
Платон (~428–423 – 348/347 гг. до н. э.) – центральная фигура в истории европейской философии. Альфред Н. Уайтхед в своем трактате «Процесс и реальность» (1929) остроумно выразился, что европейская философская традиция – ряд примечаний к сочинениям Платона. Творчество великого афинянина и само по себе было своеобразным мостом, перекинутым из прошлого древнегреческой философии в ее будущее: Платон критически освоил учения досократиков – Парменида, Гераклита, Пифагора, систематизировал блестящие изустные выступления своего наставника Сократа, а примерно в 383 г. до н. э. основал, неподалеку от священной оливковой рощи Гекадема, свою Академию, в которой исследовал со сподвижниками и учениками философию и математику.
Каноническими текстами Платона считаются 26 диалогов, относительно еще девяти диалогов и тринадцати писем уже не одно столетие ведутся академические дискуссии.
Диалог «Государство» можно без преувеличения назвать краеугольным камнем в стройном корпусе сочинений Платона. Тематически он неразрывно связан как с более ранними произведениями Платона («Евтифрон»), так и с позднейшими – «Политиком» и «Законами». Этот диалог – один из самых крупных текстов философа; в увлекательной форме – с изложением поэтичных мифов о волшебном кольце, аллегорической пещере и вернувшемся из загробного царства Эре – Платон подробно излагает свои оззрения. Автор «Государства» рассуждает о справедливости и ее соотношении со счастьем, о любви и теории форм, о старении и бессмертии, о значении философии и искусства в обществе. Платон сопоставляет устройство города-государства, управление кораблем и строение человеческой души. «Государство» – это центр приманчивой паутины, называемой философией Платона.
«Государство» посвящено выяснению того, что есть справедливое. В первой книге диалога критически обсуждаются общепринятые представления о справедливости (нужно ли отдавать долги и говорить правду, помогать друзьям и вредить врагам и т. д.). Начиная со второй книги, Сократ излагает истинное представление о справедливом как в государстве, так и в душе человека. В идеальном государстве каждый человек и группа живут справедливо, лишь когда действуют ради блага государства, и то же определение переносится и на душу, в которой роль сословий играют части души.
Такое представление о справедливости основано на центральном понятии философии Платона – идее блага. Начиная с пятой книги, она становится главной обсуждаемой темой. Во главе совершенного государства должен стоять философ, познавший теорию идей и высшую идею – идею блага, дающую возможность увидеть истинное значение нравственных понятий, верно организовать и душу, и государство.
Платон в своих текстах никогда не говорит прямо о содержании идеи блага, но описывает ее с помощью понятий гармонии, согласия и единства. В «Государстве» он предлагает типологию политических режимов и характеризует их, но также рассказывает об идеальном городе-государстве – Каллиполисе, которым управляют философы-цари. Эти части диалога были весьма злободневными, поэтому представляется нелишним совершить краткий исторический экскурс во времена Платона.
Очередную войну греческих полисов (речь идет о Коринфской войне 395–387 гг. до н. э.) завершил в 387 г. до н. э. так называемый Анталкидов мир. Его еще называли «Царским», потому что посредником его заключения был царь Персии Артаксеркс. Собственно, Персия и оказалась победительницей в войне, потому что греческие города в Малой Азии (Ионии) попали от нее в зависимость, греческие полисы потеряли право создавать военно-политические союзы, крупнейшим военно-морским флотом Восточного Средиземноморья становился флот опять-таки Персии. Кроме того, Анталкидов мир наделил Спарту полномочиями своеобразного «полицейского», разрешив ей вмешиваться во внутренние дела полисов Эллады, вплоть до интервенции и свержения режимов. Такой мир не мог быть долгим, и в 378 г. до н. э. вспыхнула новая война – между Спартой и союзными Фивами и Афинами; она носила позиционный характер, обе стороны без стеснения применяли тактику «выжженной земли». Попытки заключения нового мира в 375 г. до н. э. оказались безуспешными, в то же время распалась и антиспартанская коалиция.
В общем и целом, старые греческие полисы пребывали в затяжном кризисе, а выхода из него видно не было. Наиболее проницательные люди, в их числе Платон, с надеждой смотрели на Запад – на греческие колонии-полисы в Италии и особенно на Сицилии, где возвысились Сиракузы под властью тиранов Дионисиев (Старшего и Младшего). Здесь уместным кажется предоставить слово самому Платону: «В конце концов относительно всех существующих теперь государств я решил, что они управляются плохо; ведь состояние их законодательства почти что неизлечимо и ему может помочь разве только какое-то удивительное стечение обстоятельств. И, восхваляя подлинную философию, я был принужден сказать, что лишь от нее одной исходят как государственная законность, так и все касающееся частных лиц. Таким образом, человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах по какому-то божественному определению не станут подлинными философами. С такими мыслями я прибыл впервые в Италию и Сицилию» (VII письмо – родственникам и друзьям Диона; 326b; письмо это большинству ученых представляется подлинным).
Платон трижды совершал плавания на Сицилию (~385, 366 и 361 гг. до н. э.), надеясь убедить Дионисиев – отца и сына – установить форму правления, соответствующую учению философа, но успеха его миссии не имели. Всякий раз Платон оказывался пленником в золотой клетке. Ему удалось найти сторонника в правящей фамилии – Диона, зятя Дионисия Старшего; однако и сам Дион долгие годы провел в изгнании, а когда наконец утвердился у власти, то очень скоро пал жертвой заговора (354 г. до н. э.).
Можно сказать, что в политических частях «Государства» смешаны разочарования и надежды Платона: разочарование в настоящем греческих полисов, раздробленных и слабых перед лицом сильного и недоброго соседа – Персии, разочарование в высоком искусстве Афин, которое не помогло городу избежать поражения, обида на Дионисия Старшего и провал сиракузского предприятия, но в то же время и надежда, что Академия воспитает тех самых будущих философов-царей.
Вероятно, эта эмоциональная окрашенность диалога побудила Платона выбрать время и место его действия – Афины, точнее, их важнейший пригород – морской порт Пирей, в последние годы Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.), накануне сокрушительного поражения родины философа. О войне и тяжелом положении Афин в диалоге не говорится, но эти обстоятельства нельзя забывать при чтении.
Главное действующее лицо «Государства» – Сократ, наставник Платона и Ксенофонта, которые и сохранили его слово для потомков. Спустя несколько лет, в 399 г. до н. э., афинская демократия обвинит Сократа в нечестии и развращении молодежи и приговорит к уходу из жизни. Также в диалоге участвуют старшие братья Платона – Главкон и Адимант, ученики Сократа. Трое остальных говорящих персонажей «Государства», хотя и жили и работали в Афинах, но не были их гражданами. Фрасимах был гражданином Халкидона Боспорского, а в Афинах занимался софистикой; Кефал из Сиракуз был весьма преуспевающим предпринимателем; одним из его сыновей был знаменитый оратор Лисий. Другой сын, Полемарх – хозяин дома, в котором встречаются персонажи «Государства». Полемарх был репрессирован Тридцатью тиранами, недолго правившими Афинами после поражения в Пелопоннесской войне: его заставили принять яд и запретили публично хоронить.
Сила «Государства» – в его универсальности. Это тот труд, который словно зеркало отражает наши собственные дилеммы. Кто-то находит в нем ответы на вопросы о власти и справедливости, кто-то – о воспитании, кто-то – о личной ответственности. Но каждый, кто обращается к Платону, получает возможность не просто прочитать философский текст, а научиться мыслить шире, глубже и точнее.
Но настал уже момент дать слово участникам диалога, а читателю – не забывать о том, что все персонажи – лишь куклы, управляемые талантливым артистом, лишь искаженные отражения, тени образа великого их создателя – Платона.
К. В. Львов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ им. А. М. Горького РАН
Книга первая

[Сократ]. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богине, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее праздник, – ведь делается это теперь впервые. Прекрасно было, по-моему, торжественное шествие местных жителей, однако не хуже оказалось и шествие фракийцев1. Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город.
Увидев издали, что мы отправились домой, Полемарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали. Слуга, тронув меня сзади за плащ, сказал:
– Полемарх просит вас подождать его.
Я обернулся и спросил, где же он.
– Да вон он, подходит, вы уж, пожалуйста, подождите.
– Что ж, подождем, – сказал Главкон.
Немного погодя подошел и Полемарх, а с ним Адимант, брат Главкона, и Никерат, сын Никия, и еще кое-кто, также, вероятно, с торжественного шествия.
Полемарх сказал:
– Сдается мне, Сократ, вы спешите вернуться в город.
– Ты догадлив, – сказал я.
– А разве ты не видишь, сколько нас здесь?
– Как же не видеть!
– Вот вам и придется либо одолеть всех нас, либо остаться здесь.
– А разве нет еще и такого выхода: убедить вас, что надо нас отпустить?
– Как же можно убедить тех, кто и слушать-то не станет?
– Никак, – сказал Главкон.
– Вот вы и учтите, что мы вас не станем слушать.
Адимант добавил:
– Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами2 в честь богини?
– Конный? – спросил я. – Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки факелы при конных ристаниях? Так я тебя понял?
– Да, так, – сказал Полемарх, – и вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. После ужина мы пойдем смотреть празднество, и здесь можно будет встретить много молодых людей и побеседовать с ними. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте.
Главкон отвечал:
– Видно, придется остаться.
– Раз уж ты согласен, – сказал я, – так и поступим.
И мы пошли к Полемарху домой и застали там Лисия и Евтидема, его братьев, а также халкедонца Фрасимаха, пэанийца Хармантида и Клитофонта, сына Аристонима. Дома был и отец Полемарха, Кефал, – он мне показался очень постаревшим: прошло ведь немало времени с тех пор, как я его видел. Он сидел на подушке в кресле с венком на голове, так как только что совершал жертвоприношение3 во внутреннем дворике дома. Мы уселись возле него – там кругом были разные кресла.
Чуть только Кефал меня увидел, он приветствовал меня такими словами:
– Ты, Сократ, не частый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить сюда – мы бы сами посещали тебя там; но теперь ты должен почаще бывать здесь: уверяю тебя, что, насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии, связанном с ним. Не уклоняйся же от общения с этими молодыми людьми и посещай нас, мы ведь с тобой друзья и близкие знакомые.
– Право же, Кефал, – сказал я, – мне приятно беседовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь – тернист ли он и тягостен или удобен и легок4. Особенно от тебя, раз уж ты в таких летах, когда стоишь, по словам поэтов, «на пороге старости»5, мне хотелось бы узнать, в тягость ли тебе жизнь. Или тебе кажется иначе?
– Тебе, Сократ, – отвечал Кефал, – я, клянусь Зевсом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку6. И вот, когда мы соберемся, большинство из нас сокрушенно вспоминают вожделенные удовольствия юности – любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное – и брюзжат, словно это для нас великое лишение: вот тогда была жизнь, а теперь разве жизнь! А некоторые старики жалуются на родственников, помыкающих ими, и тянут все ту же песню, что старость причиняет им множество бед. А по мне, Сократ, они напрасно ее винят: если бы она была причиной, то и я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем я не раз встречал стариков, у которых все это не так; например, поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос:
«Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?» – «Что ты такое говоришь, право, – отвечал тот. – Да я с величайшей радостью избавился от этого, как убегает раб от необузданного и лютого господина».
Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникает полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей; ослабевает и прекращается власть влечений, и во всех отношениях возникает такое самочувствие, как у Софокла7, то есть чувство избавления от многих неистовствующих владык. А [огорчения] по поводу этого, как и домашние неприятности, имеют одну причину, Сократ, – не старость, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную и был добродушен, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и молодость бывают в тягость.
В восхищении от этих его слов и желая вызвать его на дальнейший разговор, я сказал:
– Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, не согласятся с тобой, они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. Они считают, что у богатых есть чем скрасить старость.
– Ты прав, – сказал Кефал, – они не согласятся и попытаются возражать. Но их доводы не так уже весомы, а вот хорош ответ Фемистокла одному серифийцу, который поносил его, утверждая, что своей славой Фемистокл8 обязан не самому себе, а своему городу: «Правда, я не стал бы знаменит, будь я серифийцем, зато и тебе не прославиться, будь ты хоть афинянином». Точно так же можно ответить и тем небогатым людям, которым тягостна старость: да, и человеку кроткого нрава, но бедному легко переносить старость в бедности, но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, старость всегда будет тягостна.
– А то, чем ты владеешь, Кефал, – спросил я, – ты большей частью получил по наследству или сам приобрел?
– Куда уж мне приобрести, Сократ! Как делец я где-то посередине между моим дедом и моим отцом. Мой дед – его звали так же, как и меня, – получил в наследство примерно столько, сколько теперь у меня, но во много раз увеличил свое состояние, а мой отец Лисаний довел его до меньших размеров, чем теперь у меня. Я буду доволен, если оставлю вот им в наследство не меньше, а немножко больше того, что мне досталось.
– Я потому спросил, – сказал я, – что не замечаю в тебе особой привязанности к имуществу: это обычно бывает у тех, кто не сам нажил состояние. А кто сам нажил, те ценят его вдвойне. Как поэты любят свои творения, а отцы – своих детей, так и разбогатевшие люди заботливо относятся к деньгам – не только в меру потребности, как другие люди, а так, словно это их произведение. Общаться с такими людьми трудно: ничто не вызывает их одобрения, кроме богатства.
– Ты прав.
– Конечно, а скажи мне еще следующее: в чем состоит наибольшее благо от обладания значительным состоянием?
– Пожалуй, – сказал Кефал, – большинство не поверит моим словам о справедливости9. Знаешь, Сократ, когда кому-нибудь приходит мысль о смерти, на человека находит страх, и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказания, передаваемые об Аиде, – а именно, что там придется подвергнуться наказанию тому, кто здесь поступал несправедливо, – он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу: что, если это правда? Да и сам он – от старческой ли немощи или оттого, что уже ближе стоит к тому миру, – как-то больше прозревает.
И вот его уже одолевают сомнения и опасения, он прикидывает и рассматривает, уж не обидел ли он кого чем. Кто находит в своей жизни много несправедливых поступков, тот, подобно детям, внезапно разбуженным от сна, пугается и в дальнейшем ожидает лишь плохого. А кто не знает за собой никаких несправедливых поступков, тому всегда сопутствует отрадная надежда, добрая «кормилица старости», как говорится и у Пиндара. Превосходно он это сказал, Сократ, что, кто проводит жизнь праведно и благочестиво, тому
Сладостная, сердце лелеющая сопутствует надежда,
Кормилица старости,
Переменчивыми помыслами смертных
Она всего более правит10.
Хорошо он это говорит, удивительно сильно. К этому я добавлю, что обладать состоянием – это, конечно, очень хорошо, но не для всякого, а лишь для порядочного человека. Отойти отсюда в тот мир, не опасаясь, что ты, пусть невольно, обманул кого-нибудь, соврал кому-нибудь или же что ты остался должен богу какое-либо жертвоприношение либо человеку – деньги, – во всем этом большое значение имеет обладание состоянием. И для многого другого нужно богатство, но, сравнивая одно с другим, я бы лично полагал, Сократ, что во всем этом для человека с умом богатство не последнее дело и очень ему пригодится.
– Прекрасно сказано, Кефал, но вот что касается этой самой справедливости: считать ли нам ее попросту честностью и отдачей взятого в долг, или же одно и то же действие бывает подчас справедливым, а подчас и несправедливым? Я приведу такой пример: если кто получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует и несправедлив тот, кто отдал бы оружие такому человеку или вознамерился бы сказать ему всю правду.
– Это верно.
– Стало быть, не это определяет справедливость: говорить правду и отдавать то, что взял.
– Нет, именно это, Сократ, – возразил Полемарх, – если хоть сколько-нибудь верить Симониду11.
– Однако, – сказал Кефал, – я препоручаю вам беседу, а мне уже пора заняться священнодействиями.
– Значит, – сказал я, – Полемарх будет твоим наследником?12
– Разумеется, – отвечал Кефал, улыбнувшись, и тотчас ушел совершать обряды13.
– Так скажи же ты, наследник Кефала в нашей беседе, какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?14
– Да то, что справедливо отдавать каждому должное. Мне, по крайней мере, кажется, что это он прекрасно сказал.
– Конечно, нелегкое дело не верить Симониду – это такой мудрый и божественный человек! Смысл его слов тебе, Полемарх, вероятно, понятен, а я вот не могу его постичь. Ясно, что у Симонида говорится не о том, о чем мы только что вспомнили, а именно будто все, что бы нам ни дали во временное пользование, надо отдавать по требованию владельца, даже когда тот и не в здравом уме, хотя, конечно, он-то и одолжил нам то, чем мы пользовались. Не так ли?
– Да.
– Но ведь ни в коем случае не надо давать, когда этого требует человек не в здравом уме?
– Правда.
– Значит, у Симонида, по-видимому, какой-то другой смысл в утверждении, что справедливо отдавать каждому должное.
– Конечно другой, клянусь Зевсом. Он считает, что долг друзей делать только хорошее своим друзьям и не причинять им никакого зла.
– Понимаю, – сказал я. – Когда кто возвращает деньги, он отдает не то, что должно, если и отдача и прием наносят вред, а между тем дело происходит между друзьями. Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?
– Конечно об этом.
– Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?
– Непременно, как они того заслуживают. Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом15.
– Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того, что такое справедливость, вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее, и это он назвал должным.
– А по-твоему как?
– Клянусь Зевсом, если бы кто спросил его: «Симонид, что (разумеется, из надлежащего и подходящего) чему должно назначать врачебное искусство, чтобы считаться истинным?» Как бы он, по-твоему, нам ответил?
– Ясно, что лекарства, пищу, питье – телу.
– А что чему надо придать (надлежащее и подходящее), чтобы выказать поварское искусство?
– Приятный вкус – блюдам.
– Прекрасно. А что кому надо воздать, чтобы такое искусство заслужило название справедливости?
– Если следовать тому, Сократ, что было сказано ранее, то это будет искусство приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред.
– Значит, творить добро друзьям и зло врагам – это Симонид считает справедливостью?
– По-моему, да.
– А что касается болезней и здорового состояния, кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболеют, и зло – своим врагам?
– Врач.
– А мореплавателям среди опасностей мореходства?
– Кормчий.
– Как же обстоит дело с тем, кто справедлив? Какими действиями и в какой области он более всего способен принести пользу друзьям и повредить врагам?
– На войне, помогая сражаться, мне кажется.
– Прекрасно. Но, дорогой мой Полемарх, тем, кто не болен, врач не нужен.
– Правда.
– А кто не находится в плавании на корабле, тому не нужен и кормчий.
– Да.
– Значит, кто не воюет, тем не нужен и справедливый человек?
– Это, по-моему, сомнительно.
– Так справедливость нужна и в мирное время?
– Нужна.
– А земледелие тоже? Или нет?
– Да, тоже.
– Чтобы собрать урожай?
– Да.
– И разумеется, нужно также сапожное дело?
– Да.
– Чтобы снабжать нас обувью, полагаю, скажешь ты.
– Конечно.
– Так что же? Для какой надобности и для приобретения чего, по-твоему, нужна в мирное время справедливость?
– Она нужна в делах, Сократ.
– Под делами ты понимаешь совместное участие в чем-нибудь или нет?
– Именно совместное участие.
– Будет ли хорошим и полезным участником в игре в шашки тот, кто справедлив, или же тот, кто умеет играть?
– Тот, кто умеет играть.
– А при кладке кирпича или камня справедливый человек как участник полезнее и лучше, чем строитель?
– Никоим образом.
– Но в каких делах участие справедливого человека предпочтительнее участия строителя или, скажем, кифариста, ведь ясно, что в игре на кифаре кифарист предпочтительнее?
– В денежных делах, как мне кажется.
– За исключением, может быть, расходования денег, Полемарх. Ведь когда понадобится сообща купить или продать коня, тогда, думается мне, полезнее будет искусный наездник.
– Видимо.
– А при приобретении судна – кораблестроитель или кормчий.
– Естественно.
– Когда надо сообща распорядиться серебром или золотом, бывают ли случаи, чтобы справедливый человек был полезнее других?
– Бывают, Сократ. Это когда надо отдать их на хранение или сбережение.
– То есть, по твоим словам, когда они лежат без употребления?
– Конечно.
– Значит, когда деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость?
– Похоже, что это так.
– И чтобы хранить садовый нож, полезна справедливость общественная и частная, для пользования же им требуется умение виноградаря?
– Видимо, так.
– Пожалуй, ты скажешь, что, когда нужно хранить щит и лиру и в то же время ими не пользоваться, справедливость полезна, а когда нужно пользоваться, тогда полезно умение воина и музыканта.
– Непременно скажу.
– И во всем остальном так: справедливость при пользовании чем-нибудь не полезна, а при использовании полезна?
– Видимо, так.
– Стало быть, друг мой, справедливость – это не слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности. Давай рассмотрим вот что: кто мастер наносить удары в кулачном бою или в каком другом, тот, не правда ли, умеет и уберечься от них?
– Конечно.
– А кто способен уберечься от болезни, тот еще гораздо более способен незаметно довести до болезненного состояния другого?
– Мне кажется, так.
– И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен также проникнуть в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?
– Конечно.
– Значит, тот горазд беречь, кто способен и воровать.
– По-видимому.
– Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их.
– По крайней мере, к этому приводит наше рассуждение.
– Значит, справедливый человек оказывается каким-то вором. Это ты, должно быть, усвоил из Гомера: он высоко ставит Автолика, деда Одиссея по матери, и говорит, что Автолик превосходил всех людей вороватостью и заклинаниями16. Так что, и по-твоему, и по Гомеру, и по Симониду, справедливость – это нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Разве ты не так говорил?
– Нет, клянусь Зевсом. Впрочем, я уж и не знаю, что говорил. Однако вот на чем я все еще настаиваю: приносить пользу друзьям и вредить врагам – это и будет справедливость.
– А кто, по-твоему, друзья: те ли, что кажутся хорошими людьми, или же только те, кто на самом деле таков, хотя бы таким и не казался? То же и насчет врагов.
– Естественно дружить с тем, кого считаешь хорошим, и ненавидеть плохих людей.
– Но разве люди не ошибаются в этом? Многие кажутся им хорошими, хотя на деле не таковы, и наоборот.
– Да, ошибаются.
– Значит, хорошие люди им враги, а негодные – друзья?
– Это бывает.
– Но тогда будет справедливым приносить пользу плохим людям, а хорошим вредить?
– Оказывается, что так.
– А между тем хорошие люди справедливы, они не способны на несправедливые поступки.
– Это правда.
– По твоим же словам, было бы справедливо причинять зло тем, кто не творит несправедливости.
– Ничего подобного, Сократ! Такой вывод, конечно, никуда не годится.
– Значит, справедливо было бы вредить несправедливым и приносить пользу справедливым людям.
– Этот вывод явно лучше.
– Значит, Полемарх, с теми из людей, кто ошибается, часто бывает, что они считают справедливым вредить своим друзьям – они их принимают за плохих людей – и приносить пользу своим врагам как хорошим людям. Таким образом, мы выскажем нечто прямо противоположное тому, что мы привели из Симонида.
– Да, это часто бывает. Но давай внесем поправку: ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг.
– А как именно мы установили, Полемарх?
– Будто кто кажется хорошим, тот нам и друг.
– А теперь какую же мы внесем поправку?
– Тот нам друг, кто и кажется хорошим, и на самом деле хороший человек. А кто только кажется, а на деле не таков, это кажущийся, но не подлинный друг. То же самое нужно установить и насчет наших врагов.
– Согласно этому рассуждению, хороший человек будет нам другом, а плохой – врагом.
– Да.
– А как, по-твоему, прежнее определение справедливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо делать добро другу, если он хороший человек, и зло – врагу, если он человек негодный?
– Конечно. Это, по-моему, прекрасное определение.
– Значит, справедливому человеку свойственно наносить вред некоторым людям?
– Да, конечно, надо вредить плохим людям и нашим врагам.
– А кони, если им нанести вред, становятся лучше или хуже?
– Хуже.
– В смысле достоинств собак или коней?
– Коней.
– И собаки, если им нанести вред, теряют достоинства собак, но не коней?
– Обязательно.
– А про людей, друг мой, не скажем ли мы, что и они, если им нанесен вред, теряют свои человеческие достоинства?
– Конечно.
– Но справедливость разве не достоинство человека?
– Это уж непременно.
– И те из людей, друг мой, кому нанесен вред, обязательно становятся несправедливыми?
– По-видимому.
– А разве могут музыканты посредством музыки сделать кого-либо немузыкальным?
– Это невозможно.
– А наездники посредством езды отучить ездить?
– Так не бывает.
– А справедливые люди посредством справедливости сделать кого-либо несправедливым? Или вообще: могут ли хорошие люди с помощью своих достоинств сделать других негодными?
– Но это невозможно!
– Ведь охлаждать, я думаю, свойство не теплоты, а того, что ей противоположно.
– Да.
– И увлажнять – свойство не сухости, а противоположного.
– Конечно.
– И вредить – свойство не хорошего человека, а наоборот.
– Очевидно.
– А справедливый – это хороший человек?
– Конечно.
– Значит, Полемарх, не дело справедливого человека вредить – ни другу, ни кому-либо иному; это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого.
– По-моему, Сократ, ты совершенно прав.
– Значит, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное – справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду, ведь мы выяснили, что справедливо никому ни в чем не вредить.
– Я согласен с этим, – отвечал Полемарх.
– Стало быть, – сказал я, – мы с тобой сообща пойдем войной на тех, кто станет утверждать, что это было сказано Симонидом, или Биантом, или Питтаком, или кем-нибудь другим из мудрых17 и славных людей.
– Я готов, – сказал Полемарх, – принять участие в такой битве.
– А знаешь, – сказал я, – чье это, по-моему, изречение, утверждающее, что справедливость состоит в том, чтобы приносить пользу друзьям и причинять вред врагам?
– Чье? – спросил Полемарх.
– Я думаю, оно принадлежит Периандру или Пердикке, а может быть, Ксерксу, или фиванцу Исмению18, или кому другому из богачей, воображающих себя могущественными людьми.
– Ты совершенно прав.
– Прекрасно. Но раз выяснилось, что справедливость, то есть [самое понятие] справедливого, состоит не в этом, то какое же другое определение можно было бы предложить?
Фрасимах во время нашей беседы неоднократно порывался вмешаться в разговор, но его удерживали сидевшие с ним рядом – так им хотелось выслушать нас до конца. Однако чуть только мы приостановились, когда я задал свой вопрос, Фрасимах уже не мог более стерпеть: весь напрягшись, как дикий зверь, он ринулся на нас, словно готов был нас растерзать.
Мы с Полемархом шарахнулись в испуге, а он прямо-таки закричал:
– Что за чепуху вы несете, Сократ, уже с которых пор! Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки? Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись тем, что можешь опровергнуть любой ответ. Тебе ведь известно, что легче спрашивать, чем отвечать, нет, ты сам отвечай и скажи, что ты считаешь справедливым. Да не вздумай мне говорить, что это – должное или что это – полезное, или целесообразное, или прибыльное, или пригодное; что бы ты ни говорил, ты мне говори ясно и точно, потому что я и слушать не стану, если ты будешь болтать такой вздор.
О двух путях – к пороку и добродетели см. у Гесиода (Труды и дни 288–290):
Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко.Но добродетель от нас отделили бессмертные богиТягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога…Пер. В. В. Вересаева.
[Закрыть]
См.: Од. XIX 395–398:
…и был он великийКлятвопреступник и вор. Гермес даровал ему это.Бедра ягнят и козлят, приятные богу, сжигал он;И Автолику Гермес был и спутник в делах, и помощник.Пер. В. В. Вересаева.
[Закрыть]