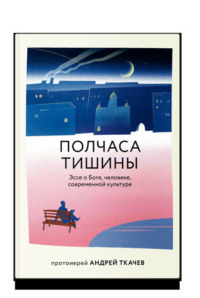Kitabı oxu: «Полчаса тишины. Эссе о Боге, человеке, современной культуре»
© Ткачев Андрей, прот., 2025
© ООО ТД «Никея», 2025
Сумерки сознания
Человек, поверивший в Бога, однажды неизбежно становится перед выбором: идти узким путем настоящей веры, ведущим в жизнь, – или пространным, легким, накатанным путем суеверия.
Совсем не верить нельзя. Это против природы, поскольку человек очень мало видит, но очень много чувствует. И чувства, интуиции вторгаются туда, где обычный глаз слеп.
Оттого вера необходима. Она раздвигает границы жизни, пытается осмыслить прошлое и предощутить будущее. Вера – такой же внутренний определяющий антропологический признак, как прямохождение – признак видимый. Но вера истинная тяжела, как жизнь Авраама. Поэтому человеку свойственно бежать от ослепительного света веры подлинной, веры крестной – в теплый сумрак магизма и суеверий. Магизм и суеверие работают с «хорошим материалом». Например – с чувством взаимосвязи всего сущего. Ты здесь зажег ароматическую палочку и пошептал нечто, а там он с ней расстался или, наоборот, они друг друга встретили. Это же поразительное бытовое подтверждение веры в сущностное единство мира и взаимозависимость всех нравственных процессов.
Или вам предсказывают будущее человека по его фотографии. Это же связь образа с первообразом.
Карикатурное применение догмата Седьмого Вселенского собора, ни больше, ни меньше.
Или для магических ритуалов требуют прядь волос, каплю слюны или крови. Это тоже попытка влиять через часть на целое и, соответственно, вера в то, что часть и целое связаны и взаимозависимы.
Все это – прекрасная тема и обширное поле для самых разных исследований, популярных брошюр или даже диссертаций. Любителей подобного рода деятельности хватает. Мы же лишь приводим примеры для подтверждения уже сказанных слов: магизм и суеверие работают с «хорошим материалом», то есть с врожденной религиозностью и зачастую верными мистическими интуициями.
Магизм нельзя осуждать только на том основании, что он «не работает», что он весь – область действия шарлатанов. Это и так, и не так. Шарлатану действительно легко найти себя и свою выгоду в этих сумерках сознания. Но магизм едва ли не страшнее именно тогда, когда он работает, нежели тогда, когда он надувает простаков и выуживает деньги.
Суеверие страшно тем, что это отказ от светлой и подлинной религиозности ради религиозности сомнительной и сумеречной. Оно страшно лишь «на фоне» большего и лучшего. Без «фона» же суеверие естественно и необходимо. Необходимо беречь скотину от сглаза и жилище – от злых духов. Необходимо вшить в одежду нитку оберега и на шею водворить амулет. Необходимо связать с неким обрядом проведение первой борозды, и, поскольку связь между «плодородием вообще» и плодородием земли в частности слишком очевидна, обряд обещает быть ритуально-блудным.
Мы по необходимости попадаем в маскарад, в ритуально-мистическое царство, в котором живут почти все без исключения люди. С ним вообще сложно бороться, поскольку для этого нужно преображать человеческую природу, а сегодня бороться и того сложнее.
Советская эпоха, стремившаяся изменить человека, ставку делала не на преображение, а на отмену и запрет. Что из этого вышло – известно. Естественная религиозность осталась неистребимой, а к возрождению язычества добавился пафос «возрождения традиций» и этнического самосознания. Теперь хороводы водят не иначе как с умным видом участников солярной мистерии. Так же и через костер скачут.
Магизм дается относительно легко и подвига никакого не требует. Ничего не требуя, он много обещает. Обещает успех и здоровье, чем весьма льстит современному эгоисту. Обещает обретение чувства полноты и приобщенности к роду и традиции, чем тоже угождает современному эгоисту, уставшему от внутреннего одиночества, страхов и собственной ненужности. В этом смысле магизм и суеверие приходятся очень даже ко двору, и если бы их не было по факту, их стоило бы выдумать. Но мы ранее коснулись имени Авраама. Это не случайно.
Авраам – буквальный отец, то есть предок по плоти арабов и евреев, а также – по духу отец всех верующих в Истинного Бога. Он был язычником и сыном язычника. Но в нем Бог усматривал ту глубину, которая необходима человеку, чтобы вместить в себя нечто большее, чем естественная религия. Больше религии естественной – религия открытая, возвещенная Богом, богооткровенная.
Авраам был избран, и это избранничество принесло ему не бытовой успех и кучу удовольствий, а муку и крест. Он был многажды проведен сквозь огонь невообразимых, с точки зрения простого человека, испытаний. Обетования грезились впереди, как миражи, а повседневность дарила внутреннюю муку и внешнее скитальчество. И все это было сделано не ради него, но ради (пафос неизбежен) всего человечества. Ради появления избранного народа, ради воспитания в среде этого народа лучших представителей человечества, наконец, ради появления Девы, от Которой родился Христос.
Входя в общение со Спасителем, мы входим и в духовное родство с Авраамом, отчего и сказано, что многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, и Исааком, и Иаковом в Царстве Небесном (Мф. 8: 11). И принимая спасительную веру, мы принимаем не только обещание будущих благ, но и крест повседневной ответственности. Мы становимся странниками и скитальцами, взыскующими грядущего непоколебимого Царства. Мы ощущаем в груди горечь противоречия между чудными обещаниями и серостью повседневности. Мы начинаем внутренним чувством понимать Авраама и других людей, отмеченных близким общением с Богом. Это – черты подлинной религиозности. Черты, не исчерпывающие всего, но необходимые.
Светлая религиозность тяжела и не естественна, но сверхъестественна. Она не работает на коротких отрезках типа «сделал – получил», но требует именно веры и ожидания, как труд земледельца. Менее всего она рассчитана на людей нетерпеливых, ожидающих быстрых плодов. Она предъявляет высокие требования к человеку, поскольку исходит от Бога, создавшего человека, а не подстраивается под человеческие похоти и прихоти. Уже того, что мы успели сказать, достаточно, чтобы понять простую вещь: людей суеверных и мыслящих магически всегда больше, чем людей, несущих веру на плечах, как крест.
У нас нет статистики, и она вряд ли возможна. Но будь она возможна, будь она объективна и будь она в виде столбцов с цифрами на нашем письменном столе, эти цифры были бы красноречивы.
С тех пор как народ наш крещен и привит к древу Церкви, вся наша жизнь зависит от людей проповедующих и молящихся. То есть – от духовенства, просветителей, катехизаторов.
На Страшном Суде «все внезапно озарится, что казалося темно; встрепенется, пробудится совесть, спавшая давно». Но гром и молнии проповеди прежде Суда озаряют жизнь и делают явным то, что хочет скрыться, то, что боится прямых лучей. Суд слова и проповеди прежде великого дня Суда – это и есть единственный способ рассеивания мрака и водворения на место теплых бабкиных суеверий веры свежей и здоровой, как морозный воздух.
Христос есть Свет, пришедший в мир. Симеон Богоприимец называет Его «светом во откровение языков», то есть народов. Без этого света народы обречены на пребывание если не в полной тьме, то в привычном полумраке народной религиозности. Грустно сказать, но и через тысячу лет после Крещения мы все еще стоим перед лицом все тех же задач. Правда, и утешает то, что у Господа тысяча лет как один день (Пс. 100).
Не хотите ли и вы уйти?
Две тысячи лет слова Христа будят человечество: греют одних и обжигают других; сегодня утешают – завтра тревожат. И как две тысячи лет назад отходили от Него слушатели, не могущие вместить всей глубины этих слов, так и сегодня многие покидают Его Церковь в смущении.
Никто не может знать, не окажется ли он завтра в числе отошедших.
Люди приходили к Нему и уходили от Него. Сладость слов влекла, а строгость требований отталкивала. То могущественное влечение, то неожиданное отталкивание. Постоянная атмосфера сомнений: «От Назарета может ли быть что доброе?»
Привязывало к Нему что-то невысказанное, нелогичное, как у вопрошающего Андрея: Равви, где живешь? (Ин. 1: 38). А отталкивало что-то холодное, умное, рожденное книжным знанием: Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу. Или: Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк (Ин. 7: 52).
Так или иначе, за Ним шли и вокруг Него толпились, чтобы через малое время те же, что толпились недавно, возмущались, негодовали на Него, вплоть до криков «Распни!».
То к Нему, то от Него. Так и мы живем. Он то убаюкивает простотой и доступностью, той ласковостью друга, которую так любят протестанты. То вдруг Он заставляет оцепенеть и испугаться. И броситься затем на колени, как это было и перед Его арестом.
И когда сказал им: «Это Я» – они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Тогда воины, и тысяченачальник, и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его (Ин. 18: 5–12).
Упали. Поднялись. Спросили. Связали. Повели мучить. И так постоянно.
Он любит, но Он не льстит. Больше никто не умеет так любить, но вместе с тем никто более, чем Он, не презирает притворство и мнимую добродетель. Для Него человек, гноящийся от грехов, но честный в криках боли и раскаяния, лучше мнимого праведника. И Он знает, что земля сердец в основном состоит из мест каменистых и мест, заросших терновником. Однако Он сеет. И там, где семя не находит глубины, оно восходит быстро и быстро увядает.
Люди приходят и люди уходят. Вначале им кажется, что они уверовали полной верой. Учитель! Я пойду за Тобою, куда бы ты ни пошел (Мф. 8: 19). Но Он же знает, что человек ищет славы, а не подвига. Славы и почета, а еще – комфорта и безопасности. Поэтому говорит в ответ о том, что Ему негде главу приклонить и жизнь Его более безбытна, чем жизнь птиц небесных и лисиц. Надо полагать, что после этих слов проситель огорченно удалился.
Состав Его слушателей обречен на непостоянство, на текучесть. Особенно это заметно на высоте Голгофы, то есть почти в конце. Там один разбойник спасается, другой погибает, перед тем апостол становится предателем, и сильный Петр говорит «Не знаю Человека», а безусый Иоанн стоит под Крестом непоколебимо. Все перемешалось до полной неожиданности. В скрытом виде это же происходило и в три года проповеди и путешествий.
К Нему радостно бежали, и от Него понуро уходили, унося разочарования и чувство несоответствия того, что дают, с тем, что ожидали получить. Только самые верные оставались (и остаются), хотя и не без борьбы.
С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни (Ин. 6: 66–68).
И даже они, самые любимые, перед самим входом в Иерусалим спорили о первенстве. Эти же споры (кто старший?) и раньше – до Страстной седмицы – занимали учеников, так что, стоило Ему ненадолго отойти, и Он, вернувшись, уже заставал их за спорами на тему «Кто из нас больший?».
Кто где сядет, кто будет выше, кто с какой стороны? Всю последующую церковную историю те же самые вопросы будут сотрясать почву под ногами христиан. Все-таки человек жутко испорчен, и не знать этого нельзя.
То, что было с Ним, продолжается и с Его Церковью. Люди приходят и уходят. Радостно принимают слово и быстро увядают, потому что не имеют под собою и в себе глубины земли. И птицы не перестают клевать семя Его слов. И терновник растет так буйно, словно в него по ночам подсыпают удобрения.
«Одни говорят, что Он благ, а другие – нет, но обольщает народ».
Он говорит: «Я люблю вас», – и мы тянемся к нему, как коты, чтобы Он почесал нас за ушком. Но потом Он говорит: «Возьми крест и иди за Мной. Будешь креститься Моим крещением? Сможешь? Не оборачивайся назад, коль положил руку на плуг. Не люби никого больше, нежели Меня: ни детей, ни родителей, ни вторую половину твою, с которой Я тебя венчал».
И тогда мы уходим от Него с обидой, с раздражением, с недоумением. Какие странные слова! Кто может это слушать? (Ин. 6: 60).
Неужели мы все еще думаем, что знаем Господа? Если бы мы уже знали Его достаточным знанием, не нужно было бы вопрошать: «Где Господь?» – а между тем такое вопрошание ежедневно необходимо. Оно вменяется во всегдашнюю обязанность. Где Господь? Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его (Ин. 20: 13).
Он не только приближается, но Он же и удаляется: Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне (Песн. П. 5: 6).
Вот откуда слезы. И духовные эгоисты (а духовный эгоизм страшнее бытового) мыслят, что плакать можно только о грехах, то есть о себе самом, о том, что ты не хорош, как надо. А между тем плачут наиболее горько о Нем, а не о себе любимом. О том, что Его распяли (я сам и распял!), о том, что душа зовет Его, кричит, а Он не отзывается.
Действительно, для тех, кто знает, как Иисус сладок, весь мир прогорк.
В наши храмы приходят люди. Одни – чтобы оросить ноги Христа слезами. Другие – чтобы поставить свечку. Третьи – подсмотреть за нашею свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе (Гал. 2: 4).
И, пришедши однажды, люди не сразу остаются навсегда. Те, кто только и делают, что ставят свечи, не любят, чтобы их учили. Те, что пришли плакать, нарыдавшись вдоволь, могут уйти, потому что душа ощутила легкость. А могут и остаться, как Магдалина – из благодарности. А те, что приходят «подсмотреть», могут уйти разочарованными, потому что не так-то легко заметить «нашу свободу», особенно там, где ее нам самим почти не видно.
Но, так или иначе, как ко Христу при земной Его жизни, так и к Церкви Его люди будут приходить и уходить. Текуч будет состав, и лишь избранное ядро на вопрос «Не хотите ли и вы уйти?» будет отвечать: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни».
Споры в темноте
Обряд – лишь одежда богословия и дом для молитвы. Обряд без ума и сердца – одежда, надетая на манекен.
Богословствуя, говорят о Боге «Он». Молясь, говорят Ему «Ты». Нужно, чтобы на всякое «Он» было одно «Ты», то есть чтобы молитва уравновешивала размышление. Иначе не будет святого страха, а богословие выветрится и приведет в темноту.
Спорят ли люди с Богом? Спорят. Говоря о людях как о «них», включай и себя в их число, потому что не знаешь всех слов, живущих в твоем сердце. И ты, и я спорим с Богом в той сердечной темноте, которая глубже Мирового океана.
Эти споры жестоки. Люди говорят: «Нам плохо. И если Ты нас любишь, то почему не помогаешь? Если не хочешь помочь, Ты не благ. Если хочешь, но не можешь, то Ты не всемогущ». Больше мы не знаем, что сказать, и чувствуем, что объемлет нас пламя.
Но Бог имеет что отвечать. Он говорит: «Я хочу спасать и могу, потому что и люблю, и обладаю силой. Но не хочу делать все Сам, потому что вы – не игрушки. Вступите со Мной в союз, в завет, в договор, и на добро употребите свободу. Будем делать все, что нужно, вместе».
Все Евангелие есть возвещение того, что Он говорит и делает. Вот что Он делает, говоря, и говорит, делая.
Я хочу быть для вас Отцом, и посылаю в мир Сына Единородного, рождаемого от Жены, подчинившегося закону (Гал. 4: 4). Склонившись, почтите Его Рождество. Он будет прост и незаметен до времени. И как и вы жили долго, не зная Меня (хотя Я всегда рядом), так и Он будет жить не один год на земле безвестным. Потом Иоанн крестит Того, в Котором Мое благоволение (Мк. 1: 11). Все, что люблю Я, – в Нем. Все, чего хочу Я, – в Нем. Он – возлюбленный. В Нем и вы – возлюбленные, и имеете искупление Кровию Его, прощение грехов по благодати Его (Еф. 1: 7).
Почтите Его явление на Иордане и покайтесь.
Он от воды пойдет, влекомый Духом, в пустыню (Лк. 4: 1). Идите и вы за Ним. Вступите в пост в урочное время, узнайте немощь плоти, смирите ее и распните со страстями и похотями (Гал. 5: 24). Услышьте свой собственный стон и умойтесь слезами. Узнайте, как силен и хитер тот, кто обманом поработил вас и стал князем этого мира. Узнайте же и силу Моих Слов, которыми отгоняется противник (Лк. 4: 1–13).
Затем Возлюбленный в силе духа (Лк. 4: 14) будет обходить Святую Землю, открывая слепым глаза, очищая проказы, посрамляя ложное знание, благовествуя мир, никого от Себя не гоня. Идите и вы за Ним. Слушайте и смотрите! Не пропустите ничего и, как Чистая Мать Слова, все слова Его слагайте в сердце своем (Лк. 2: 19).
Далее будет ужас.
Последней казнью Египта была смерть первородных (Исх. 12: 29). И рожденный прежде всякой твари (Кол. 1: 15) позволит Себя убить.
Свет пришел в мир, но люди, как ночные птицы, любящие тьму, решились погасить Свет болью распятия и позором публичной казни. Когда вы помыслите о распинателях, не спешите отделять себя от них.
Далее Его гроба идти некуда.
Злые тоже не веселятся, потому что дрожит земля и меркнет солнце, и завеса в Храме раздирается надвое. Если бы Он не воскрес, иссякла бы жизнь и слово. Но вечером водворяется плач, а на утро радость (Пс. 29: 6). И вначале – тьма, а потом – свет (Быт. 1: 5).
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1: 5).
Так как же нам говорить, что не любит нас Бог? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? (Рим. 8: 32).
Мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, – все ваше; вы же – Христовы, а Христос – Божий (1 Кор. 3: 22–23).
И если крепка, как смерть, любовь (Песн. 8: 6), то Христова любовь и самой смерти сильней. Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8: 38–39).
Рожденному поклонились.
В Крестившемся узнали Единого от Троицы.
С постящимся будем поститься. Со смиряющимся и трудящимся – смиряться и трудиться. Учившего будем слушать, сидя у Его ног, как Мария (Лк. 10: 39).
За несущим Крест последуем, плача и рыдая (Лк. 23: 27). Если же удостоимся чести, то, как Симон, поможем и нести Крест Его (Лк. 23: 26).
Когда Солнце правды (Мал. 4, 2) сойдет во гроб, станем вдали и будем смотреть на это (Лк. 23, 49), умирая с Ним.
А потом…
Потом будет радость. Будет то, о чем Он сказал заранее: Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16: 22). Слышите? Никто!
Так каких же мне еще нужно доказательств? Что еще нужно больному сердцу моему и ослабевшей воле моей?
Буду ли сомневаться в Воскресшем или в благости Отца Его? Не буду.
Иаков ночью боролся с Богом и перед рассветом получил рану в бедре. Мы, если будем бороться с Богом, одним бедром не отделаемся. Горам и камням скажут в оный день богоборцы: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца (Откр. 6: 16).
Благо тем, кто пропоет песнь иную. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя (Откр. 19: 7). Здесь – подлинное исполнение истории.
Плохо нам, людям. Кто же спорит?
Но не бессилен Бог, чтобы спасти нас. И не зол Бог, чтобы не хотеть нас спасти. Сила Его – Сын и Слово. И благая воля Его – благоволение Его, тоже – в Сыне. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу – Царю и Богу нашему! Так начинается воскресная всенощная.
Здесь прекращаются вопросы. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем (Ин. 16: 23).
Здесь обряд должен наполниться богословием, а сердце человека – таять, как воск, посреди внутренности (Пс. 21: 15).
Pulsuz fraqment bitdi.