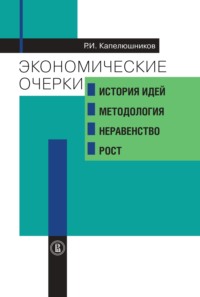Kitabı oxu: «Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост»
© Капелюшников Р. И., 2025
Предисловие
Предлагаемая вниманию читателя монография представляет собой сборник исследований (как общетеоретических, так и более прикладных), выполненных в 2020–2024 гг. Вошедшие в нее работы разнообразны по тематике, но строятся вокруг четырех ключевых сюжетов: история идей; методология; культура и экономика; рынок труда. Объединение этих работ в рамках одной монографии позволит отечественному читателю получить более полное и целостное представление о ряде ведущих направлений современной экономической мысли – таких как институциональная теория, австрийская экономическая школа, экономика культуры, экономика труда, применение в экономических исследованиях экспериментальных методов, эволюционный подход и др. Несмотря на кажущуюся мозаичность, собранные в книге исследования дают комплексное представление о важнейших путях, по которым движется сегодня экономическая наука.
В первой части обсуждаются некоторые «вечные темы», никогда не перестающие интересовать представителей самых разных общественных дисциплин. В частности, здесь прослеживается происхождение и история рецепции центрального концепта экономической науки – метафоры «невидимой руки», введенной два с половиной столетия назад Адамом Смитом. Современные экономисты чаще всего не имеют представления о том, что он использовал ее не только в «Богатстве народов», но также в более ранних сочинениях – «Истории астрономии» и «Теории нравственных чувств». Анализ показывает, что интерпретация метафоры «невидимой руки» сегодняшним экономическим мейнстримом, где она рассматривается как предвосхищение теории общего равновесия, имеет мало общего с тем, какой смысл вкладывал в нее сам Смит. Обращаясь к истории маржиналистской революции, мы прослеживаем творческий путь одного из ведущих маржиналистов второго поколения, британского экономиста Филиппа Уикстида, оставшегося практически полностью незнакомым отечественному читателю, хотя именно ему принадлежит авторство самого термина «предельная полезность» (marginal utility). Уикстид был, наверное, одним из наиболее глубоких философов экономической науки за всю историю ее существования (достаточно сослаться на введенное им понятие «нон-туизма», точнее всего описывающее природу экономических отношений). Кроме того, он был первым из сторонников теории предельной полезности, который подверг сокрушительной критике трудовую теорию ценности К. Маркса. Парадоксально, что никто из марксистов так и не принял его вызова и аргументы Уикстида так и остались неопровергнутыми.
В этой же части подробно анализируются философские, экономические и этические аспекты проекта универсального базового дохода (Universal Basic Income – UBI), завоевавшего в последние десятилетия широкую известность и привлекшего к себе множество адептов. Идею UBI следует рассматривать как глобальный этико-экономический проект, претендующий на радикальную трансформацию институционального фундамента современных обществ. В силу этого он никогда не был реализован в полноформатном виде и крайне маловероятно, что это сможет произойти когда-либо в будущем. Его реализация наталкивается на множество препятствий – финансовых, институциональных, этических, что, по-видимому, делает его очередной кабинетной утопией. В заключительной главе этой части рассматриваются происхождение и эволюция концепта «неолиберализм», составляющего ядро той картины мира, из которой при осмыслении современной эпохи сегодня исходят большинство теоретиков левой ориентации. С его помощью они пытаются объяснять любые негативные явления современного мира, так что в их описании «неолиберализм» принимает облик абсолютного морального зла. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это клише полностью бессодержательно и не может претендовать на то, чтобы считаться аналитическим термином.
Во второй части рассматриваются проблемы методологии экономической науки. Одним из важнейших методологических споров в истории экономической мысли стала дискуссия между Дж. М. Кейнсом и кейнсианцами об эпистемологическом статусе эконометрики, состоявшаяся на рубеже 1930–1940-х годов. Кейнс крайне скептически оценивал возможности ее использования для понимания и объяснения сложных экономических феноменов. В отличие от него кейнсианцы (Я. Тинберген и другие) видели в ней волшебное средство, которое поможет превратить экономику в естественно-научную дисциплину. Ретроспективно хорошо видно, насколько эфемерными были эти ожидания пионеров эконометрики. Еще один важный методологический сюжет, который рассматривается в этой же части, – использование рандомизированных контролируемых экспериментов (Randomizied Controlled Trials – RCT), получивших особенно широкую популярность в экономике развития. Подробный анализ аргументов как за, так и против этого подхода показывает, что, хотя с концептуальной точки зрения позиция критиков RCT выглядит намного убедительнее, это едва ли сможет поколебать позицию их приверженцев, которые сумели навязать как академическому сообществу, так и широкой публике представление о том, что RCT – это единственный строго научный метод, способный превратить экономику в экспериментальную дисциплину. В последние десятилетия на передний край экономических исследований вышла проблема неравенства. На российских данных ей была посвящена известная работа Т. Пикетти и его соавторов, из которой следовало, что Россия является едва ли не мировым лидером по масштабам экономического неравенства. Последняя глава в этой части посвящена критическому анализу представленных ими статистических расчетов, который демонстрирует, что эти сенсационные результаты были получены авторами исключительно за счет активного «массажа» данных. При более корректном подходе оценки неравенства для России оказываются намного ниже.
В третьей части обсуждаются некоторые теоретические и эмпирические аспекты сложного взаимодействия, связывающего культуру и экономику. Теоретическая проблематика рассматривается на примере концепции культурной эволюции Ф. А. Хайека. Говоря о культурной эволюции, Хайек имел в виду спонтанный процесс порождения, отбора и передачи правил, норм, практик и институтов, регулирующих взаимодействия между людьми. Ее он противопоставлял биологической эволюции, хотя и находил немало общего в их механизмах. Первоначально разработанный им подход встретил крайне враждебную реакцию даже со стороны симпатизировавших ему исследователей. Главной мишенью критики стала его идея группового отбора, которая предполагала, что культурная эволюция направляется не столько индивидуальной, сколько межгрупповой конкуренцией, и которая рассматривалась как несостоятельная из-за недоучета проблемы «безбилетника». Однако в свете новейших эволюционных представлений хайековская концепция предстает как предвосхищение многих идей современной эволюционной психологии, в которой понятие группового отбора было реабилитировано. В этой же части впервые в отечественной литературе на основе эмпирических данных представлена обобщенная картина потребления культурных благ в России. Анализ показывает, что в настоящее время в России примерно каждый второй взрослый индивид в течение года оказывается охвачен той или иной формой культурной активности. В фокусе работы – оценка вклада различных факторов в формирование спроса на культурные блага. Выделяются две группы факторов, имеющих с этой точки зрения наибольшее значение: с одной стороны, экономических (таких, как доход), а с другой – культурных (таких, как образование, профессиональный статус, опыт работы в сети Интернет). Обнаруживается четкая эмпирическая закономерность: чем выше доход индивидов и чем больше их «эстетический» капитал, тем активнее они ведут себя в сфере культуры.
В четвертую часть включены две эмпирические работы, посвященные российскому рынку труда. Бум высшего образования в России стал источником популярного представления о том, что в российских условиях предложение работников с высокими уровнями образования намного опережает спрос на них. В качестве подтверждения многие исследователи ссылались на оценки, получаемые на данных РМЭЗ ВШЭ, согласно которым отдача от образования в России непрерывно снижалась почти уже два десятилетия. Однако обращение к альтернативным более репрезентативным микроданным Росстата показывает, что это на так: на самом деле в этот период отдача от образования удерживалась на весьма высоком уровне – порядка 10 % – без явных признаков снижения. Это означает, что спрос на работников с высоким образованием рос примерно теми же темпами, что и их предложение, так что инвестиции в человеческий капитал оставались весьма привлекательной опцией. Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, породил опасения, что его следствием станут обвальное падение занятости и взрывной рост безработицы. Однако эмпирический анализ с использованием данных РМЭЗ ВШЭ показывает, что этого не произошло, а также помогает понять почему. Во-первых, на коронакризис российский рынок труда отреагировал традиционным для себя образом – не столько снижением занятости и ростом безработицы, сколько резким сжатием рабочего времени и падением реальной заработной платы. Во-вторых, широкое распространение получил режим дистанционной занятости, что позволило предприятиям продолжать функционировать несмотря на введенные локдауны. В результате рынок труда сумел пережить коронакризис без существенных потерь в занятости и без серьезных социальных трений.
В заключение остается добавить, что предлагаемая вниманию читателя книга продолжает и развивает линию анализа, представленную в предшествующих монографиях автора: «Экономические очерки: Методология, институты, человеческий капитал» (2016) и «Экономические очерки: История идей, методология, неравенство, рост» (2021).
История идей
I. Многорукий Адам Смит1
К трехсотлетию автора «Богатства народов»
Введение
«Невидимая рука» – центральная метафора экономической теории, ведущая свое происхождение от прославленного труда Адама Смита (1723–1790) «Природа и причины богатства народов» [Смит, 2007]. Хотя сам Смит использовал ее в своей книге почти мимоходом и лишь однажды, последующие поколения экономистов превратили ее, без преувеличения, в смысловое ядро своей науки. Сегодня в том, что специфику экономического способа мышления точнее всего выражает именно она, сходятся исследователи, принадлежащие к самым разным, нередко враждующим теоретическим школам.
В истории идей найдется немного фраз, которые привлекали бы к себе столько внимания и наделялись бы таким значением, как «невидимая рука» Смита [Harrison, 2011]. Посвященная ей литература – как теоретическая, так и историографическая – практически безбрежна. Это тем более поразительно, что в корпусе текстов Смита она встречается лишь трижды: один раз в посмертно опубликованной «Истории астрономии» (1795), один раз в «Теории нравственных чувств» (1757) и один раз в «Богатстве народов» (1776), причем во всех трех случаях он использует ее без каких-либо комментариев или намеков на ее важность для хода его рассуждений. Высказывание американского исследователя П. Миновица хорошо передает парадоксальность сложившейся ситуации: «По прошествии столетий после смерти Смита мы все еще пытаемся понять фразу из двух слов, затерявшуюся где-то в его тысячестраничной книге» [Minowitz, 2004, p. 411].
Ареал распространения смитовской метафоры не ограничивается только академическими публикациями: она уже давно вышла за их границы и прочно обосновалась в публичном пространстве, став популярным мемом. Ее суггестивное воздействие несомненно. Как иронически заметил в свое время П. Самуэльсон, «невидимая рука» – это то единственное, что по прошествии даже нескольких десятилетий большинство выпускников университетов все еще помнят из своего курса по экономике.
В массмедиа (хотя иногда и в работах профессиональных экономистов) фраза Смита чаще всего фигурирует в вульгаризированной версии – как «невидимая рука рынка». На самом деле это позднейшая (некорректная) вставка, искажающая мысль Смита: рассуждая о «невидимой руке», он не приписывал ее ничему конкретному – ни рынку, про который в соответствующем месте даже не упоминается, ни чему-либо еще. У него она действует вполне автономно, сама по себе: и в «Теории нравственных чувств», и в «Богатстве народов» отсутствуют какие-либо уточнения, чья она – кому принадлежит или к чему относится. Внимательное знакомство с текстами Смита убеждает, что он вкладывал в это понятие гораздо более широкий смысл, не привязывая его жестко к какому-либо одному социальному явлению или процессу.
Если говорить о семантике составных частей смитовской метафоры, то она достаточно проста: слово «рука» обозначает нечто, стоящее над людьми и направляющее их поведение к определенным целям; слово «невидимая» означает, что все происходит за их спиной, – они не осознают целей, достижению которых служат, и не имеют представления, какой силой они к этим целям влекутся. Из-за «невидимости» этой силы последствия ее деятельности предстают как не входящие ни в чьи планы или расчеты. В результате «видимое» оказывается синонимом «преднамеренного», а «невидимое» – синонимом «непреднамеренного».
В современной философии науки метафора Смита используется для обозначения особого (децентрализованного) типа координации и, соответственно, особого типа научных объяснений [Nozick, 1994]. В терминах «невидимой руки» принято описывать ситуации, в которых разрозненные действия отдельных людей вызывают непредвиденные последствия, которые не организуются сознательно сверху каким-либо центральным органом, но спонтанно складываются в упорядоченную структуру, благоприятную для всех. Говоря иначе, принцип «невидимой руки» подразумевает, что при определенных условиях благотворный общественный порядок может возникать децентрализованно – как непреднамеренное следствие поступков отдельных индивидов [Вон, 2009]. Общий смысл этой идеи в свое время точно сформулировал другой шотландский мыслитель, друг и коллега Смита Адам Фергюсон (1723–1816), писавший, что частная собственность и вообще любые политические институты являются «результатом человеческой деятельности, но не исполнения какого-либо человеческого замысла» [Ferguson, 1996, p. 122].
В социальных дисциплинах объяснения с позиции «невидимой руки» (invisible hand explanations) широко распространены и используются при изучении множества самых разнородных феноменов – разделения труда, возникновения средств обмена, роста богатства, формирования социальных норм и институтов и т. д.2 В качестве парадигмального примера обычно ссылаются на деятельность конкурентных рынков, способных обеспечивать такое распределение ресурсов общества, от которого будут выигрывать все его члены. Объяснения с позиции «невидимой руки» помогают понять, как много из того, что выглядит на поверхности как результат чьего-то сознательного замысла, в действительности является побочным продуктом бессознательных процессов, сложного переплетения межличностных взаимодействий3. В социальных исследованиях антиподом таких «невидиморучных» объяснений выступают интенциональные объяснения, когда те или иные явления выводятся напрямую из интересов, целей и намерений (явных или скрытых) индивидуальных агентов или их групп.
Нетрудно заметить, что метафора «невидимой руки» сводит вместе три тесно связанные, но все же самостоятельные идеи [Вон, 2009; Blaug, 2008]. Во-первых, что частные действия индивидов могут иметь непредвиденные и непреднамеренные социальные последствия, то есть касаться других людей или даже всего общества в целом. Во-вторых, что последствия действий, направляемых частными интересами, могут складываться в определенный порядок, как если бы они координировались из центра с целью создания какой-то общей, внутренне согласованной структуры. Хотя человеческий разум и способен опознавать присутствие в социальной реальности такого рода порядков, инстинктивно он все равно склонен видеть в них реализацию чьего-то сознательного замысла4. В-третьих, что возникающий таким образом порядок индивиды могут находить post factum полезным и желательным для себя, хотя заранее никто из них не имел его в виду и его создание не входило в их цели.
Некоторые исследователи считают третье условие не обязательным, помещая под рубрику «невидимой руки» и те ситуации, когда частная деятельность оказывается источником не благоприятных, а пагубных непредвиденных социальных последствий [Nozick, 1994]. Однако поскольку у самого Смита все ссылки на «невидимую руку» предполагают совпадение частных и общественных интересов, в последующем изложении мы будем придерживаться более традиционного («узкого») понимания, связывая эту идею только с индивидуальными действиями, непредумышленно способствующими благосостоянию общества.
Возвращаясь к самому Смиту, отметим, что как ни парадоксально, но среди исследователей его творчества до сих пор нет единого мнения о том, что именно он имел в виду, когда использовал метафору «невидимой руки», и насколько важной она для него была. Существующий разброс в оценках огромен – от панегирических до пренебрежительных и разоблачительных.
С одной стороны, есть немало экономистов, которые видят в ней «глубочайшее прозрение Смита» (К. Эрроу); «зримый фундамент всего здания экономической теории» (Г. Мюрдаль); «универсальный объяснительный принцип, приложимый к любым экономическим явлениям» (Дж. Шэкл); «сущность экономической теории со времен Адама Смита» (М. Редер); «краеугольный камень, на котором строится экономическая наука» (И. Кристол); «великую унифицирующую научную концепцию экономики» (Дж. Хиршлейфер); «унифицирующий принцип экономической науки» (Р. Дорфман); «базовую аналитическую парадигму ортодоксальной экономической теории» (С. Гордон); «единственный основополагающий принцип экономической теории» (Дж. О’Дрисколл); «сердцевину экономической теории» (М. Десаи); «самое важное понятие современной социальной мысли» (Э. Халил); «наиболее важный интеллектуальный вклад экономической мысли в общее понимание социальных процессов» (Ф. Хан); «самое важное и существенное положение во всей экономической науке» (Дж. Стиглер); «возможно, главное интеллектуальное открытие во всей истории экономической науки» (Дж. Бьюкенен); «несомненно, самый важный вклад в экономическую мысль» (К. Эрроу и Ф. Хан); «одну из величайших и влиятельнейших идей во всей истории» (Дж. Тобин) (подборка приведенных высказываний цитируется по: [Samuels, 2011]).
С другой стороны, некоторые историки экономической мысли отказывают смитовской «невидимой руке» в праве именоваться «парадигмой», «теорией» или «концепцией», объявляя ее «умеренно иронической шуткой» [Rothschild, 1994] или «риторической фикцией» [Kennedy, 2009a], – не говоря уже о бесчисленном множестве авторов левой ориентации, склонных усматривать в ней только неприкрытую апологию капиталистической системы (см.: [Samuels, 2011]).
У современных смитоведов наибольший интерес вызывают, пожалуй, четыре спорные проблемы, так или иначе связанные с метафорой «невидимой руки»: 1) какая общая идея стоит за ней, какой смысл вкладывал в нее сам Смит; 2) насколько согласуются между собой три случая ее использования в «Истории астрономии», «Теории нравственных чувств» и «Богатстве народов»; 3) какую интерпретацию следует считать более корректной – теологическую (в таком случае «невидимая рука» приписывается направляющему ее Провидению) или секулярную (в таком случае она действует самостоятельно, без внешнего управления со стороны каких-либо высших сил); 4) насколько адекватен взглядам Смита стандартный для экономистов-неоклассиков подход, при котором «невидимая рука» трактуется как предвосхищение теории общего равновесия.
Цель нашего обзора – познакомить российского читателя с наиболее интересными аспектами не прекращающихся дискуссий вокруг смитовской «невидимой руки». В большей или меньшей степени мы попытаемся коснуться всех главных проблем, до сих пор продолжающих, как сказано выше, вызывать оживленные споры: одни будут рассмотрены достаточно подробно, другие лишь пунктирно. Но основной акцент будет сделан на текстологическом разборе тех фрагментов из произведений Смита, где появляется «невидимая рука». Оговоримся, что с учетом неохватных масштабов современной смитианы наш анализ, конечно же, не может претендовать на то, чтобы считаться полным и исчерпывающим тему.