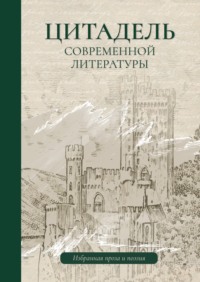Kitabı oxu: «Цитадель современной литературы»
© Издательство «Четыре», 2025
Маленький городок или большая крепость?
Смысл жизни в том, на что она потрачена. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом.
А. де Сент-Экзюпери. «Цитадель»
«Цитадель» по-латыни – «маленький городок». Это наиболее защищённое укрепление внутри крепости, основной и часто последний редут, который должен выстоять, выжить, когда падут все другие укрепления. А ещё – оплот, средоточие и защита чего-то важного. И убежище. Ничего не напоминает? Именно в цитадели можно укрыться, пережить «смутное время». Выжить. Потому что людям не нужно Слово сейчас и нужно ВСЕГДА. Вот такой парадокс.
Когда слышишь «Цитадель», почему-то сразу вспоминается макаренковское «Флаги на башнях». Наверное, потому, что известный «треножник», краеугольный камень любой хорошей книги, никаким новым – «клиповым» – мышлением не отменить. Помните – «Образование – развлечение – ВОСПИТАНИЕ»?
А из таких вот краеугольных камней (слово-твёрдо, не зря эти буквы рядом в русской, Кирилло-Мефодиевской ещё, азбуке), когда наступает время «по кирпичику» собирать их в единое целое, получаются стены – крепкие, основательные, высокие и надёжные. И башни, что взмывают ввысь, поднимаясь и возвышаясь над миром.
Стены – Цитадель крепости (во всех смыслах). Башни – Цитадель духа. И, как венец, Цитадель разума, финал, подводящий черту (но не границу) всей книге.
А ещё на камнях, почему-то и вопреки, часто появляются цветы. И пусть и велик Бодлер, но это другие цветы – цветы добра.
Ещё в советское время, «в самой читающей стране», братья Стругацкие не единожды писали о тяжёлой судьбе всяких книжников, мокрецов и прочих Homo legens. А школы, университеты и прочие подобные «заведения» уже давно зовутся цитаделями. И немало ещё предстоит потрудиться каменщикам-писателям, чтобы книжное слово оставалось услышанным, чтобы убежище-прибежище для людей ещё пишущих и всё ещё читающих не превратилось в резервацию.
На том стоим и сим победим!
Юрий Иванов
Цитадель крепости
Роман Амосов

Родился в 1939 г. в Уфе. Кандидат геол. – мин. наук. Член СПР. Рассказы и повести печатались в журналах «Горизонт», «Золото России», «Ковчег», «Слово Забайкалья», «Невский альманах». Опубликованы книги: «Геологи на войне» (Москва, издательство ЦНИГРИ, 1995); «Золотая энциклопедия» (в трёхтомнике «Российское золото», Москва, АО «Преображение», 1994); «Подъём на холм» (Москва, Союз-Дизайн, 2014); «2Д2П» (Чита, издательство Г. Богданова, 2018); «Провинциальная жизнь по понятиям в Венесуэле» (Москва, Союз-Дизайн, 2020). «Семья Рязановых» (в соавторстве с П. Ю. Трубиновым и Н. П. Рязановой, Москва, Союз-Дизайн, 2024). Премия журнала «Ковчег» за лучший рассказ года (2008), премия «Имперская культура» в номинации «Художественная проза» за книгу «Подъём на холм» (2015).
Три поросёнка
По причинам, никак от меня не зависящим, всю жизнь я то и дело оказывался вовлечённым в истории, связанные с поросятами и свиньями. Начало этих событий было самое невинное и даже приятное. В зиму 1944–1945 годов в детском саду № 9 города Черемхова состоялся музыкальный спектакль «Три поросёнка» – мюзикл по нынешней терминологии. В этом мюзикле мне досталась роль самого умного из братьев – Наф-Нафа. До сих пор помню, с каким блеском, без единой фальшивой ноты, я спел в сопровождении фисгармонии арию «Дом я строю из камней», несмотря на то, что поросячья маска из папье-маше, изготовленная братом, не позволяла широко открывать рот, то есть пасть. При этом я ещё успевал класть на нарисованную братом кирпичную стенку из картона очередные «кирпичи» и приглаживать их мастерком. Заключительное трио «Нам не страшен серый волк!», которое мы, одетые в матроски, исполнили, обнявшись и приплясывая, пришлось повторить на бис. Аккомпанировала нам моя мама.
Следующий эпизод из моей свинианы оказался не таким приятным. Осенью 1946 года мы умирали от голода на курорте Дарасун. Попали мы туда в конце лета и отнюдь не по путёвке, просто отец, вернувшись из армии после войны с Японией, подрядился восстанавливать захиревшие за годы войны минеральные источники, которыми славится Забайкалье. В Дарасун мы приехали в разгар лета, когда сажать картошку было уже поздно. Отец, считавший себя специалистом по части сельхозпроизводства, равно как и во всех остальных областях знания, не без основания рассудил, что, если мы купим козу, двух кур и двух поросят, сытая жизнь зимой нам обеспечена. Несложные расчёты убедительно показывали, что при таком поголовье полезных животных каждому члену семьи из пяти человек можно раз в пять дней приготовить глазунью из двух яиц, а полезного козьего молока он волен выпивать по два стакана ежедневно, при том что в двадцати метрах от крыльца тайга, а в ней земляника, голубица и брусника, подосиновики и грузди, не говоря о шиповнике, рябине и черёмухе. В расчёт почему-то не принималось, что все эти белки́, углеводы и витамины исчезнут через полтора месяца, а картошку мы сможем посадить только следующей весной. Что касается поросят, предполагалось одного зарезать на Новый год, а другого откармливать до весны, а то и до следующей зимы, чтобы он набрал не меньше центнера в живом весе.
Названные животные замечательны своей невзыскательностью в отношении продуктов питания. Коза готова довольствоваться берёзовыми вениками, не требуя сена; для кур самый желанный деликатес – дождевые черви; стоит только чуть-чуть разрыть землю, как куры примутся вытаскивать из неё червей десятками; поросятам можно скармливать кухонные отходы. Практика показала, что в своём бизнес-плане отец не учёл форс-мажорные обстоятельства. Коза, как выяснилось, могла бы давать два литра молока в день, но не раньше, чем принесёт козлёнка. В дни, когда на первое мы ели суп из крапивы, а на второе и третье пили чай, поросята оставались обделёнными и не прибавляли в весе; куры наотрез отказывались нести яйца, может быть, потому, что отец не догадался купить в придачу к ним петуха.
Поросят и кур отец поделил поровну между мной и средним братом в том смысле, что обязал нас ухаживать за этими крылатыми и копытными. Каждому из нас досталось по курице и поросёнку, мне за склонность убегать в лес поручили ещё и пасти козу – привязывать её там, где трава погуще, и время от времени переводить на новое, невыеденное место. У старшего брата, который в тот год пошёл в седьмой класс, обязательства были серьёзнее: колоть дрова, носить воду из колодца, заготавливать в лесу жерди для огораживания будущего картофельного поля. С осени он ещё начал ежедневно бегать до начала уроков на охоту, а вечером успевал играть в лапту ради общения с одноклассницей – одной из многочисленных дочерей нашего соседа, шеф-повара военного санатория Эдуардова. Мне кажется, брат пользовался взаимностью. Во всяком случае, помню, как однажды в сумерки прибежал, запыхавшись, один из многочисленных братьев многочисленных сестёр Эдуардовых и выпалил: «Лёха, дай газологию, Ривке окна рисовать». В переводе с тарабарского это означало, что Ривке надо срисовать скелет окуня из учебника зоологии. Брат правильно расшифровал полученное сообщение, но не рискнул доверить учебник посыльному и отправился вместе с ним.
Свою курицу я не запомнил, а мой поросёнок был очень милым существом с нежным, розовым, немного слюнявым пятачком и острыми копытцами, которыми он выстукивал дробь, пробегая по доскам, постеленным в поросячьем загончике. Когда я гладил его по спине против щетинок, он прижимался к моей ноге, закатывал глаза от удовольствия и нежно-нежно похрюкивал. Это удовольствие могло быть более сильным, если бы я угостил его корочкой хлеба или картофелиной, но эти важнейшие подспорья человека очень редко доставались мне самому.
Наступил момент, когда мама поняла, что мой поросёнок не доживёт до следующего утра. Отец некстати уехал в командировку, старший брат ушёл на охоту, поросёнок уже пошатывался от упадка сил, но в нём ещё оставались какие-то крохи мяса и косточек, которыми мы не смогли бы воспользоваться после естественной смерти моего любимца, если можно назвать естественной смерть от голода. Мама послала меня к соседу по фамилии Семчук. Сосед пришёл к нам, ткнул поросёнка в бок ножом и тут же удалился, вероятно, боясь быть заподозренным в претензии на участие в поедании своей жертвы. Мама опустила поросёнка в эмалированный таз, наполненный горячей водой. Бедный поросёнок вдруг ожил, стал царапать копытцами стенки таза и повизгивать, вода в тазу покраснела от его крови. Мой средний брат упал на кровать и спрятал голову под подушку, мама стояла в растерянности. В такие минуты соображаешь быстро. Я нашёл в ящике кухонного стола большой хирургический скальпель из нержавеющей стали, подаренный отцу курортным хирургом Кириным. Этот скальпель я, зажмурив глаза, просунул туда, где у поросёнка, по моим расчётам, находилось сердце, и мой поросёнок затих навсегда. В тот же вечер мама приготовила жаркое, я не смог его есть. Но я не плакал, потому что собирался стать полярным исследователем. Забыл сказать, что коза и куры ушли к создателю раньше моего поросёнка, и это доказывает, что я ухаживал за ним не так уж плохо и он вполне мог со временем стать крепким кабанчиком, если б не чёртов голод.
После этого случая поросята и взрослые свиньи надолго оставили меня в покое. История возобновилась летом 1961 года, когда я в компании геологов и проектировщиков сидел в городке Тулун Иркутской области, неподалёку от места исполнения мюзикла «Три поросёнка». Мы ждали вертолёта в просторной съёмной избе и коротали время за картами. Это ожидание затянулось на полторы недели. В один из дней в избу вошла хозяйка, временно ютившаяся в какой-то пристройке, и попросила помочь ей поставить укол заболевшей свинье – сделать иньекцию пенициллина, если не ошибаюсь. Нас было человек восемь или десять, и когда никто не вызвался помочь, я понял, что обречён. И точно, эта женщина выбрала меня, а я не посмел отказаться. Мы отправились в сарай, и там, проинструктированный хозяйкой, я вооружился шприцем. Выяснилось, что укол нужно делать в ухо, в этот состоящий из хрящика «лопух», что казалось мне совершенно невозможным. Но хозяйка бодро оседлала несчастную свинью и руками вцепилась в левое свиное ухо, предоставив в моё распоряжение правое. Руки у меня тряслись, из разинутой свиной пасти, кроме рёва, вылетал ещё и малоприятный запах, но, в конце концов, шприц оказался пустым, и, возможно, часть пенициллина попала-таки в злосчастное ухо. Хозяйка любезно засомневалась, что я исполнил описанную процедуру впервые.
Не подумайте, что это и есть конец истории. Всего через год на руднике Дарасун я поселился в доме шахтёра-пенсионера Феоктиста Георгиевича Неронова. Вскоре его жена Анисья Савельевна заметила, что их поросёнок не растёт. Диагноз поставили быстро: у поросёнка стали расти клыки, которые своими острыми концами постоянно ранили дёсны верхней челюсти, отбивая желание жевать. Чтобы вернуть поросёнку аппетит, следовало клыки удалить. Вы уже догадались, что выполнение этой деликатной операции поручили мне. Феоктист Георгиевич выдал мне плоскогубцы, надел верхонки, зажал поросёнка в коленях и стал раздирать ему пасть. Поросёнок бился, как эпилептик, сучил ногами и мотал головой, не давая мне ухватить плоскогубцами клык. Голова моя раскалывалась от истошного, ни на что не похожего поросячьего визга, который прерывался на доли секунды, когда поросёнок ухватывал новую порцию воздуха, и возобновлялся с новой силой. Я чувствовал, что мои ушные перепонки вот-вот лопнут, и ждал, что на эти визги к нам немедленно заявится комиссия, занятая учётом свиного поголовья.
Дело в том, что именно в тот год правительство назначило за каждую негосударственную свинью налог в размере пятидесяти рублей, чувствительный не только для пенсионеров, но и для работающих любителей отбивных и свиного сала с чесноком и куском чёрного хлеба в придачу. Соответственно, описываемого поросёнка в обычное время прятали в глубине двора, в наглухо закрытом сарайчике, больше похожем на собачью будку. Презирая себя за малодушие и жестокость и потеряв надежду извлечь неподатливые клыки, я раз за разом отламывал от них по кусочку, пока они не сравнялись по высоте с нормальными зубами. Феоктист Георгиевич заверил меня, что необходимый результат достигнут, и понёс рыдающего поросёнка к месту проживания.
В это время в калитку постучали. Я решил, что это комиссия по отлавливанию свиней, не охваченных налогом, и приготовился к худшему: меня обвинят в том, что я – комсомолец и столичный житель – участвую в укрывательстве свиней от налогообложения.
К счастью, оказалось, что стучит электромонтёр. Всего за бутылку водки он предложил установить в электрический счётчик какую-то проволочку, от чего в месяц будет нагорать энергии не больше, чем на полтора рубля, надо только постоянно держать включёнными как можно больше потребителей, чтобы набрать эти несчастные сто пятьдесят копеек. Анисья Савельевна засомневалась, не обнаружит ли эту проволочку проверяющий, который иногда приходит снимать показания со счётчика. Электрик заверил, что с этого дня проверяющим назначили именно его, и сделка состоялась. А экзамен на зубного врача я не сдал – не смог клыки удалить.
В следующее лето мой друг, слесарь Семён Семёнович Гаврилов, попросил купить поросёнка, рассчитывая откормить его к Новому году. Исполняя поручение друга, я заехал в деревню Бутиху и нашёл там человека, торгующего поросятами. Тот спросил, кабанчик мне нужен или чушечка. Семён Семёнович на этот счёт ничего не говорил, поэтому я купил и того и другую. Заодно продавец научил меня, как заставить поросёнка замолчать: нужно взять его за задние ножки и приподнять. После этого опускаешь его головой в мешок, и он не пикнет, пока не выйдет на волю.
Семён Семёнович, как выяснилось, мечтал о кабанчике. Договорились, что кабанчика я ему дарю, а чушечку оставляю себе, но не буду разлучать с братом, а сдам Семёну Семёновичу на временное содержание. По общему согласию кабанчика назвали Сёмой, а чушечку Амосьевной. Через некоторое время я заехал к Семёну Семёновичу проведать поросят и обнаружил, что Амосьевна заметно поправилась. Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Вот уж про свиней я бы этого не сказал, к ним это категорически не относится. При мне жена Семёна Семёновича принесла поросятам полведёрка какой-то бурды и вылила в деревянное корыто. Амосьевна немедленно влезла в корыто передними ногами и стала с аппетитом чавкать. Бедный Сёма попытался пристроиться к корыту с края, но Амосьевна поддела его под брюхо своей мокрой харей и подкинула так, что тот дважды перевернулся в воздухе, прежде чем шмякнуться на землю. Поднявшись на ноги, он стоял смирно, дожидаясь, когда сестра приляжет на подстилку отдохнуть.
По утверждению врачей, свинья (porcus femina) имеет много общего с человеком и из всего животного мира именно она является лучшим донором для замены человеку изношенного сердца или там печёнки. В трансплантологии я не силён, но знаю точно, что, в отличие от человека, свинья не станет есть лёжа, поэтому при выращивании крупной свиньи главное не корм, а крепкие ноги. Если тренировать свиней в беге, они смогут подолгу стоять на ногах и съедать много корма. Я поделился своими познаниями с Семёном Семёновичем, он отнёсся к ним уважительно и, когда убрали овощи и выкопали картошку, он стал выпускать Сёму и Амосьевну погулять по огороду. Амосьевна вылетала из загона как ракета, носилась по огороду кругами, то и дело поддевая рылом и подкидывая комья земли и картофельную ботву. И так до тех пор, пока её не загонят обратно.
Сёма выходил из загона неохотно, отходил не более чем на пять шагов и стоял неподвижно, поёживаясь от осеннего холода и часто взмахивая длинными белыми ресницами. Расти он не собирался, «в одну шкуру зашился», как пожаловалась мне жена Семёна Семёновича, но зато оброс длинной мягкой шерстью, которую язык не поворачивался назвать щетиной. Так он и стоял в глубокой задумчивости, и ветер играл свисающими до земли прядями поросячьих волос, пока Амосьевна неутомимо нареза́ла круги. Если бы мы с Семёном Семёновичем засекали время и количество кругов, а также измерили радиус круга, Амосьевна вполне могла бы стать первым представителем Забайкалья в книге рекордов Гиннеса как самая быстрая свинья в мире, хотя, по справедливости, Сёма был первым представителем рода aper antiquitatus (кабанчик шерстистый) и заслуживал занесения в эту энциклопедию чудесного ничуть не меньше. Между прочим, в доисторические времена в окрестностях рудника водился шерстистый носорог, кости которого, наряду с бивнями мамонтов, старатели находят в золотоносных песках до сих пор.
Конец этой части моего повествования оказался печальным. Отчаявшись расшевелить своего тёзку, Семён Семёнович однажды отвёл его в лес, застрелил из малокалиберной винтовки и закопал под приметным деревом. Тут только я сообразил, что причиной всех несчастий Семёна могли быть клыки, которые мы забыли удалить или обломать. Вернее, я забыл, а Семён Семёнович, профессор по всем делам, связанным с железом и механическими устройствами, мог и вовсе не знать об этих клыках. Тем более что, по некоторым не подтверждённым наукой сведениям, клыки вырастают не у всех кабанчиков, а только у тех, матери которых вольно гуляли вблизи маленьких деревень, затерянных в тайге, и любезничали со своими дикими сородичами.
Моё представление о сравнительной роли корма и силы ног в выращивании крупных свиней неожиданно пошатнулось. В тот год один из самых матёрых знатоков сельскохозяйственной науки и марксизма, обитающих в Москве на Старой площади, вступил в заочную полемику со мной, напечатав в газете «Правда» передовую статью под названием «Корма – это главное», заголовок которой до сих пор стоит у меня перед глазами. Сперва я решил, что речь идёт о морском флоте, и стал соображать, не главнее ли форштевень, мачты, всякие там баки, кабестаны и клотики. А разобравшись, решил, что против правды, как говорится, не попрёшь и надо озаботиться добычей кукурузы и других рекомендованных газетой кормов для Амосьевны. Кукурузы в той местности найти не удалось, но, улетая на зиму в Москву, я оставил для Амосьевны два мешка комбикорма, считая себя ответственным за её судьбу. Судьба эта распорядилась так, что Амосьевна до моего приезда не дожила. Семён Семёнович, утешая меня, заверил, что на жарёхе в адрес Амосьевны было сказано много хорошего. Ради справедливости должен признать, что все другие жарёхи у Семёна Семёновича и его родственников не обходились без моего участия, если я оказывался поблизости.
Лет через десять в тех же краях я работал начальником полевой партии. Впрочем, партия – одно название, незаслуженно присвоенное небольшому отряду. В нашем распоряжении был старый разбитый ГАЗ-69 с брезентовым верхом, на котором я с утра развозил сотрудников в кернохранилище, на канавы, в лабораторию, а после сам спускался в разведочную шахту. Через несколько часов, поднявшись на свет божий, собирал всех развезённых утром, и мы возвращались в палаточный лагерь на обед, совмещённый с ужином. Место для лагеря мы выбрали очень удачно: всего в трёх-четырёх километрах от шахты и в стороне от трассы, по которой то и дело с рёвом проносились грузовики, оставляя за собой длинный шлейф медленно оседающей пыли. Впрочем, наряду с грузовиками пролетали на мотоциклах сенокосчики: один сидит за рулём, второй позади, со снаряжённой литовкой через плечо. Однажды пролетел мотоцикл, на заднем сиденье которого вместо моторизованной смерти с косой сидела девушка, крепко обнимающая дружка-рулевого за талию, и ветер так раздувал её платье, что это было бы неприлично, если бы не было так красиво.
Палатки мы расставили в молодом берёзовом лесу, а кухню устроили под высокой старой лиственницей. От трассы нас отделяла широкая зелёная долина, исполосованная прокосами, заставленная копнами и балаганами покосчиков. По дну её вился небольшой ручей, который мы пересекали по деревянному мостику.
Однажды, переехав уже на нашу сторону долины, мы катили после работы по нами же наезженной лесной дороге, как вдруг выскочил из кустов поросёнок месяцев двух от роду. Я затормозил, чтобы его не задавить, и все, кто сидел в машине, повыскакивали из неё, как по команде, и бросились ловить поросёнка, понимая, что, оставшись в лесу на ночь, он может стать добычей диких зверей или умереть от переохлаждения. Минут пятнадцать я наблюдал за погоней. Поросёнок вылетал то с одной стороны дороги, то с другой и тут же нырял в кусты, охотники довольно бестолково носились следом или стерегли беглеца у края дороги, надеясь схватить его, когда он выскочит на открытое место. Всё-таки силы были неравные. Поросёнка, в конце концов, взяли в кольцо, спектроскопист Игорь Ланцев упал на него, сломав при этом очки. До лагеря поросёнка донесли на руках, там наскоро соорудили для него загон «из прутьев и ветвей» (как в названном выше мюзикле) с добавлением досок. После совещания постановили ждать, не объявится ли законный владелец, с тайной надеждой, что не объявится никогда. А пока что я поручил поварихе кормить поросёнка наравне с научными сотрудниками и называть Наф-Нафом.
В Забайкалье на август приходится сезон дождей. В тот год дожди начались сразу после пленения Наф-Нафа и продолжались две недели. Скоро мостик, по которому мы переезжали ручей, исчез под водой, а сам ручей превратился в реку шириной метров пятьдесят. Машину теперь приходилось бросать на трассе и вброд, по пояс в воде, преодолевать поток, образовавшийся на месте ручья, а по утрам проделывать те же манипуляции в обратном направлении. В этом было и кое-что положительное, потому что представительниц лучшей половины человечества из числа сотрудников отряда приходилось утром и вечером переносить через речку на руках.
Покосчики, побросав свои балаганы, разъехались по домам, поставленные ими копны и оставшуюся в рядах кошенину унесло водой. В лагере между палатками приходилось месить грязь, палатки протекали, все вещи отсырели, повариха и её добровольные помощники мучились по утрам с разжиганием огня в кухонной печке, работа не клеилась.
Настал день, когда я решил перевезти лагерь на новое место. Эта идея возникла внезапно, когда я увидел на другой стороне долины бортовой ЗИЛ-131, стоящий у забора одинокого домика. В этом домике жили дедушка и бабушка моего друга Юры Цыренова. Юра Цыренов – личность неординарная. Однажды из металлолома он сделал самоходную фуру, обтянул её брезентом, а на брезенте разными красками вкривь и вкось написал: «ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!» На таких фурах, запряжённых парой лошадей, первые американцы ехали осваивать Дикий Запад. Юрину фуру, спереди похожую на трактор, тащил мотор «лошадей» по меньшей мере в пятьдесят, и, несмотря на это, она передвигалась со скоростью пешехода, так что её всегда сопровождала орава мальчишек, поверивших, что, как только фура остановится, сзади раздвинется брезентовый занавес и начнётся цирковое представление.
Чтобы не потерять машину из виду, я пошёл к ней напрямик через долину и явился наполовину мокрый. Юра сначала сослался на занятость: он специально взял отгул, чтобы искать поросёнка, который потерялся несколько дней назад, но когда я сказал, что поросёнка мы уже нашли и наполовину откормили, Юра, не раздумывая, сел в машину – как был, в домашних тапочках. Мы благополучно переехали ручей по скрытому водой мосту, предварительно сняв ремень вентилятора, чтобы не залить свечи, с передком и демультипликатором доползли до палаток. Там нас ждало неприятное известие: поросёнок проделал дыру в ограде и убежал. Юра расстроился, я пообещал ему, что поросёнка мы найдём, вернее, поросёнок найдёт меня – так всех представителей этого вида (или рода?) неодолимо тянет ко мне.
Мы начали скручивать спальные мешки, снимать под дождём палатки и грузиться в ЗИЛ. Барахла оказалось так много, что, когда вспомнили про электростанцию, места в кузове уже не оставалось. Пришлось откинуть задний борт, подцепить его за углы цепями и взгромоздить электростанцию на борт. Всё это время Юра сидел в кабине, временами вылезая на подножку в домашних тапочках, чтобы поруководить укладкой багажа. Наконец ЗИЛ, рыча, поплыл по грязи, мокрые и перемазанные мы под дождём пошли следом. Со стороны это, вероятно, походило на похороны. Перед мостом я заскочил на задний борт, чтобы придерживать электростанцию и не брести по воде, но это не помогло. Юра, расстроенный очередным исчезновением поросёнка, промахнулся мимо моста, машина завалилась на левый бок, электростанция полетела в воду первой, я за ней. Юра вылез на правую подножку, снял тапочки, придерживаясь рукой за машину, обошёл её кругом, влез обратно в кабину и заглушил мотор. Я побежал к своему «газику», чтобы ехать на старательский полигон за бульдозером…
Только поздно вечером мы расположились на новом месте. Дождь перестал, мы расставили палатки и полночи сушили у костра спальные мешки и одежду.
Через несколько дней после переезда дожди прекратились. Мы освоились с новым местом на берегу Жарчи, на устье пади Сиротинка. Всё тут было хорошо, только ездить на работу приходилось за двадцать один километр. Каждый день мы дважды переезжали речку Жарчу по мосту, известному в народе как Соколанский. Когда вода спа́ла, пониже Соколанского моста вылез из воды галечный островок. На островке без признаков жизни лежал на боку поросёнок. Похоже, он пролежал здесь не один день, потому что брюхо у него подозрительно вздулось. В остальном этот поросёнок ничем не отличался от нашего Наф-Нафа, которого потеряла бабушка Юры Цыренова. Вероятно, убежав от нас, он пытался переплыть разлившийся ручей и добраться до дома, но не справился с течением, поплыл вниз до Жарчи, и там на быстрине силы его покинули. Устроить Наф-Нафу достойные похороны не получилось. Мы только забросали его камнями, чтобы он не был виден проезжающим.
Теперь на моей совести три поросёнка. Одного я зарезал, второго отвёз на смерть к Семёну Семёновичу, а третий утонул по моей вине. Воспоминания об этих поросятах не дают мне покоя. В последнее время я стал плохо спать. Среди ночи меня будят визги охранной сигнализации на машинах, стоящих у подъезда. Проснувшись, я не сразу соображаю, что визжат не загубленные мной поросята, и долго не могу уснуть. И так до шести утра, когда на балконе соседнего дома начинает кукарекать петух, возвращая меня к реальной жизни.
Прочитав эту историю, мой друг Саша К. сказал, что в ней чересчур много физиологических подробностей. Нет, Саша, это не физиологизмы, а повседневная жизнь рассеянных в необозримой нашей провинции людей, которых Бог создал для мучений, как птицу для полёта, но они об этом замысле не догадываются и живут себе, как умеют, да ещё и радуются чуть не каждый день.