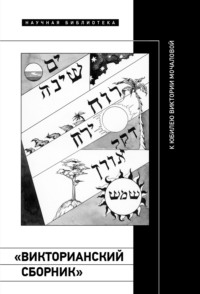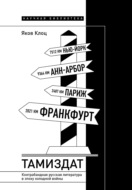Kitabı oxu: ««Викторианский сборник»: к юбилею Виктории Мочаловой»
Издание осуществлено при поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК). Научные рецензенты: С. А. Иванов, д. ист. н., НИУ ВШЭ, член Британской академии; А. Б. Мороз, д. филол. н., НИУ ВШЭРедколлегия: О. В. Белова (д. филол. н., ИСл РАН); В. С. Герасимова (к. ист. н.); Г. С. Зеленина (к. ист. н., МГУ, РАНХиГС); И. В. Копченова (ИСл РАН, Центр «Сэфер»); А. А. Романова (искусствовед, куратор); А. В. Шаевич (директор Центра «Сэфер»)
Рисунки для обложки и шмуцтитулов П. В. Пепперштейна.
© АНО Центр «Сэфер», 2025
© Авторы, 2025
© П. Пепперштейн, рисунки, 2025
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
* * *

Человек и его ипостаси

Ольга Белова
«Венок сюжетов» юбиляру
От Средневековья до авангарда
7 мая 2025 года Виктория Валентиновна Мочалова – славист с мировым именем, яркий исследователь и организатор науки – отмечает юбилей.
Показательна судьба ученого и человека, который на протяжении многих лет занимается любимым делом и счастлив в своей профессии. Неизменная любовь и профессиональная привязанность к славистике, к польской литературе и культуре сформировались на филологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который Виктория Валентиновна окончила в 1968 году.
Этой проблематикой В. В. Мочалова продолжила заниматься в аспирантуре Института славяноведения и балканистики РАН (1969–1972), где в 1975 году защитила кандидатскую диссертацию «Идейно-стилевое своеобразие польской прозы и драматургии второй половины XVI – первой половины XVII в.».
С институтом связаны и дальнейший научный рост, и творческая жизнь Виктории Валентиновны – в 1972 году она была зачислена в сектор славянских литератур и продолжает трудиться в институте сегодня. «Институт стал большой удачей моей жизни, мне очень повезло», – так охарактеризовала Виктория Валентиновна свой путь в науке1. С неизменной благодарностью в публикациях и устных рассказах вспоминает юбиляр своих учителей и наставников – Виктора Александровича Хорева (1932–2012) и Бориса Федоровича Стахеева (1924–1993): с ними Викторию Валентиновну связывала давняя дружба и общая любовь к Польше.
Сферами научных интересов Виктории Валентиновны стали история польской и чешской литературы, литературные связи и межкультурный диалог разных традиций, проблемы поэтики, изучение межславянских и иудео-славянских контактов в восточноевропейском регионе. Итогом полонистических литературоведческих исследований стала монография «Мир наизнанку: Народно-городская литература Польши XVI–XVII вв.» (М., 1985). Эта книга, во многом основанная на идеях М. М. Бахтина, оказалась востребованной отнюдь не только в полонистике: развитие польской литературы предопределило становление светских литератур и традиций в Восточной Европе Нового времени. Принципы исторической поэтики вообще свойственны подходу нашего юбиляра к проблемам литературного развития – недаром ей принадлежат комментарии к популярному изданию «Исторической поэтики» А. Н. Веселовского (М., 1989), которое способствовало возвращению работ классика отечественной филологии к широкому читателю.
Заслуги В. В. Мочаловой в развитии отечественной славистики в широком смысле (прежде всего, в области истории польской и чешской литератур) характеризует ее участие в подготовке коллективных трудов Института славяноведения: «Писатели Народной Польши» (М., 1976), «Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литератур» (М., 1986), «Функции литературных связей. На материале славянских и балканских литератур» (М., 1992), «Studia Polonica. К 60-летию Виктора Александровича Хорева» (М., 1992), «Очерки истории культуры славян» (М., 1996), «История литератур западных и южных славян» (М., 1997. Т. 1–2).
Главные герои славистических штудий юбиляра – Адам Мицкевич, Болеслав Прус, Юлиуш Словацкий, Ян Кохановский, Станислав Игнатий Виткевич, Александр Ват, Витольд Гомбрович, Юлиан Тувим, Бруно Ясенский и др., и эти исследования не сводятся лишь к литературным портретам: в соответствии с междисциплинарными традициями Института славяноведения писатели и поэты понимаются как «культурные герои», определившие смысл исторического развития славянских народов. Особое место в этих исследованиях занимает академическое издание поэмы Юлиуша Словацкого «Бенёвский» (М., 2002), снабженное комментариями В. В. Мочаловой (совместно с Б. Ф. Стахеевым), ее переводами сочинения Ю. Словацкого и лекции о нем К. Ц. Норвида.
С 1990-х годов слависты смогли обратиться к запретной в официозной советской науке теме – истории еврейской диаспоры в славянском мире. Эта история была частью жизни самой Виктории Валентиновны. В 1994 году В. В. Мочалова совместно с Р. М. Каплановым создают Центр «Сэфер»2. В том же году В. В. Мочалова возглавила Центр славяно-иудаики в Институте славяноведения и участвовала в создании целого направления отечественной славистики – славистической иудаики: под ее руководством и при ее постоянном участии проводятся ежегодные международные междисциплинарные конференции по иудаике, издаются их материалы.
Международные конференции по иудаике, которые организуются с 1994 года совместными усилиями Центра «Сэфер» при участии Центра славяно-иудаики Института славяноведения РАН, – это масштабное событие в мире академической науки, на котором встречаются специалисты со всего мира, занимающиеся разными аспектами еврейской цивилизации, истории и культуры. Тематика конференций охватывает широкую сферу: от библейских и талмудических исследований до истории Государства Израиль, от еврейской философии до гендерных штудий; рассматриваются литература, искусство, еврейские языки, история евреев в Российской империи и СССР и др. За время проведения конференций (а их было 27) не только расширялся круг участников, но и постоянно укреплялись международные связи, инициировались совместные проекты, осуществлялся обмен изданиями.
Еще одна сфера деятельности юбиляра – это участие в зимних и летних образовательных школах Центра «Сэфер», где она много лет читает курсы лекций для молодых специалистов, и в полевых школах-экспедициях в самые разные регионы: Смоленщина, Беларусь, Польша, Украина, Австрия и Венгрия… Виктория Валентиновна – один из самых востребованных и любимых аудиторией членов Лекторского бюро Центра «Сэфер». В университетах, еврейских общинах и культурных центрах стран бывшего СССР, а также за рубежом Виктория Валентиновна рассказывала об истории и культуре евреев Восточной Европы, о Польше как центре еврейской учености в XVI–XVII веках.
Как видим, наш юбиляр – неутомимая путешественница. Ее отличают умение привлекать к себе людей, выслушивать их истории – именно поэтому рассказы Виктории Валентиновны о местах и людях могли бы составить интереснейшую книгу. Скажу, что для меня благодаря таланту Виктории Валентиновны как собеседника во многом открылся путь в «полевую иудаику», в обширное поле устной истории восточноевропейского еврейства, которое многие из нас только начинали осваивать.
Зимой 1999 года мы были в Варшаве на научной конференции. Заседания проходили в «сталинской высотке» – во Дворце культуры и науки, с верхних этажей которого открывался вид на город, – само место настраивало на то, чтобы погрузиться в сюжеты «варшавского текста», и польские коллеги с удовольствием делились с нами историями и воспоминаниями. Среди гостей конференции выделялась энергичная миниатюрная пани Туся Штайнер, которая, узнав Викторию Валентиновну (они уже встречались ранее), моментально включила нас в орбиту своего внимания: «Девчата! Видите те крыши? Я вам сейчас расскажу…» И далее последовал неиссякаемый поток сведений о довоенной старой Варшаве, о жизни польских евреев, о трагедии варшавского гетто, которую Туся пережила ребенком, – историю ее чудесного спасения в католическом монастыре, репатриации в Израиль и возвращения в Польшу нам еще предстояло услышать…
Неудивительно поэтому, что с самого начала осуществления международного проекта «Культура славян и культура евреев – диалог, сходства, различия» (1995) Виктория Валентиновна является его неизменным вдохновителем. В области иудаики актуальными оказались и полонистические занятия В. В. Мочаловой: традиционными для культурной истории Польши (и славянского мира) остаются сложные вопросы этноконфессиональных отношений, взаимопонимания связанных одной исторической судьбой народов – этим проблемам посвящены специальные работы юбиляра, в том числе статьи об отражении в литературе исторических событий и стереотипов национального восприятия, о положении иудеев и их отношениях с католиками и протестантами в Польше XVI–XVII веков, об иудео-христианском диалоге в Польско-Литовском государстве XVI века3. Многие из этих исследований Виктории Валентиновны опубликованы на страницах ежегодника «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»4, бессменным членом редколлегии и автором которого она является.
После создания в 1991 году Еврейского университета в Москве Виктория Валентиновна сразу вошла в состав преподавателей, стала активным организатором учебного процесса и одним из ведущих лекторов на протяжении всего существования университета, читала курсы по польской и восточноевропейской литературе, по культуре и истории польского еврейства.
Мы знаем Викторию Валентиновну не только как автора, блистательно владеющего стилем и способного превратить самый серьезный академический сюжет в увлекательное чтение. Еще одна роль юбиляра – это взыскательный и требовательный редактор. В 1973–1994 годах Виктория Валентиновна заведовала отделом литературоведения и культуры журнала «Славяноведение» (до 1992 года – «Советское славяноведение»), затем стала членом редколлегии журнала. Многие сотрудники, начинавшие свою деятельность в Институте в эти годы, осваивали школу редакторского мастерства именно под руководством Виктории Валентиновны (и как ее подопечные авторы, и как коллеги по редактированию). С 2018 года В. В. Мочалова возглавляет новое издание – Judaic-Slavic Journal (совместный проект Института славяноведения РАН и Центра «Сэфер»).
Заслуги В. В. Мочаловой отмечены медалью Amicus Poloniae и Премией РАН и ПАН за вклад в науку (2008). В 2013 году она награждена орденом «Золотой Крест Заслуги» (Республика Польша) и удостоена звания лауреата премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше 5773/2013» в номинации «Просветительская деятельность».
Творческую натуру Виктории Валентиновны трудно ограничить рамками академической науки, – на протяжении долгого времени ее связывали дружеские и личные отношения с кругом московского концептуализма 1970–1980-х годов. Герметичное сообщество отечественного авангарда того времени состояло из художников и литераторов, среди которых были И. Кабаков, Э. Булатов, В. Пивоваров, В. Янкилевский, Э. Гороховский, Г. Брускин, Э. Штейнберг, М. Гробман, Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, В. Сорокин и другие. Виктория Валентиновна принимала участие в интеллектуальной жизни художественного авангарда, помогала в подготовке выставок и домашних научных семинаров. В конце 1980-х годов при участии сына Виктории Валентиновны Антона Носика художник Павел Пепперштейн создал группу «Инспекция „Медицинская герменевтика“», которая стала важным интеллектуальным явлением на арт-сцене 1990-х. Павел Пепперштейн принимает участие в настоящем издании как автор художественного оформления сборника и автор текста, посвященного Виктории Валентиновне.
Книга, которую держит в руках читатель, – это сердечное приношение юбиляру от коллег и единомышленников, которые счастливы дружбой и сотрудничеством с Викторией Валентиновной. Вместе с тем это академическое издание, посвященное вопросам истории, литературы и антропологии, еврейской этнографии и фольклора. Заявленная тематика воплотилась в научных статьях и эссе, в стихах и прозе, в воспоминаниях и путевых заметках. И сложился «венок сюжетов» – яркий и разнообразный, как и личность самого юбиляра.
Друзья и коллеги желают Виктории Валентиновне успехов, новых публикаций, радости научного творчества.
Многая и благая лета!
Sto lat!

DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.83.88.001
Аркадий Ковельман
Оммаж Виктории Валентиновне
Мы прожили две эпохи и сейчас живем третью. Эта третья – самая важная, потому что в ней невозможно оправдаться первыми двумя.
С Викторией Валентиновной мы встретились во вторую эпоху, когда поезд истории, выйдя из туннеля, начал набирать обороты. Встреча произошла на чердаке факультета журналистики МГУ. Замечательный декан журфака Ясен Николаевич Засурский сдал чердак в аренду Еврейскому университету в Москве (сокращенно – ЕУМ). Виктория Валентиновна поднялась по парадной лестнице и вскарабкалась на чердак, чтобы учить студентов ЕУМа истории польских евреев. Мне запомнилась очаровательная улыбка нового преподавателя и гордая демонстрация ювелирного украшения в виде шестиконечной звезды.
То ли Виктория Валентиновна привела в ЕУМ Владимира Яковлевича Петрухина, то ли Петрухин привел ее. Эпоха славилась многочисленными «приводами». Меня сосватал читать лекции по древней еврейской истории мой однокурсник Рашид Капланов, бок о бок с которым Виктория Валентиновна потом рулила «Сэфером». Тогда ЕУМ еще назывался Свободным еврейским университетом. Став проректором (а потом и ректором) этого университета, я сменил название и уничтожил свободу, построив регулярное учебное заведение, дававшее дипломы о высшем образовании. Кажется, я был единственным профессором в штате, зато вне штата там работали те, кого можно было назвать элитой московских гуманитариев. И учились (особенно на первых порах) удивительно талантливые студенты.
Свобода, изгнанная мною из Еврейского университета, нашла прибежище в «Сэфере», ассоциации исследователей и преподавателей еврейской истории и культуры. Здесь никто не требовал посещаемости, никто не сдавал экзамены, никого не отчисляли за неуспеваемость, зато почти все желающие участвовать в конференции, экспедиции или летней (зимней) школе получали деньги на проезд и пищу на пропитание – как материальную, так и духовную. Виктория Валентиновна была для них еврейской мамой (идише маме), а Рашид Мурадович – отцом родным. С кумыкским княжеским достоинством он опекал девушек и юношей вне зависимости от их успехов, талантов и достижений.
Вокруг Рашида и Виктории Валентиновны располагался Академический совет. Имена членов Совета я называть не буду – «иных уж нет, а те далече», одни сохранили дружбу, другие утратили, но Виктория Валентиновна в те времена умудрялась быть спасающим ангелом для всех – поверх случайных и не очень случайных ссор. Она вытащила Рашида из Черновцов, где его настиг инфаркт, привезла в Москву, заботилась о нем до его смерти и после: собрала и издала сборник его статей и лекций по еврейской истории.
Она была хозяйкой салона. Никогда и нигде в моей жизни я не чувствовал себя настолько среди своих, как в этом салоне. Свойство определялось общим делом и общим ощущением счастья – все получалось, все проблемы были решаемы, враги были где-то далеко, в прошлом, почти в подполье. Ни капли национализма не было в этом свойстве – русские, литовцы, украинцы участвовали в еврейском культурном движении вместе с евреями, потому что еврейская культура – от Библии до последних поэтов, писавших на идише, – была важна для понимания и развития русской, украинской, литовской культур. И еще потому, что в девяностые годы прошлого столетия история евреев Восточной Европы начиналась заново.
Она начиналась в распадающемся пространстве, не имевшем собственного названия (в Содружество независимых государств – СНГ – не входили страны Балтии). Приходилось заимствовать удивительный американский термин – The Former Soviet Union, то есть Бывший Советский Союз (сокращенно – FSU). Пресловутый «Джойнт» («Американский еврейский распределительный комитет»), с которого только что сняли клеймо шпионской организации, не щадя грантов, укреплял дружбу некогда братских советских народов. Среди членов Академического совета «Сэфера» был, например, замечательный археолог Гурам Амвросиевич Лордкипанидзе, происходивший из грузинского княжеского рода и заведовавший Центром еврейской культуры в Тбилисском университете. Из разных городов и республик члены Совета приезжали в Москву и приходили в салон к Виктории Валентиновне, щедро угощавшей гостей. Гимном «Сэфера» считалась песня «Ехали казаки», которую Леонид Мацих и Рашид Капланов исполняли на языке оригинала.
В те времена я мечтал (питал иллюзии) о новой общинности, новой духовности, новом «Винограднике Явне», как называлась ешива, основанная с разрешения римлян в городке Явне после разрушения Второго Храма. Видимо, в русле той же мечты Йонатан Порат, куратор академических программ «Джойнта», назвал «Сэфер» академической синагогой, хотя среди членов Академического совета были люди как религиозные, так и светские, иудеи и христиане. В этой синагоге Виктория Валентиновна служила директором, ответственным за все, – архисинагогисса на греческом языке поздней античности.
Она любит повторять латинское изречение ubi concordia, ibi victoria («где согласие, там и победа»), в котором меняет порядок слов. Получалось: ubi victoria, ibi concordia («где победа, там и согласие»). Согласие там, где она. Ведь самое имя «Виктория» переводится как «победа». И поскольку она родилась накануне дня Великой Победы, согласие следует по ее пятам.
Биография Виктории Валентиновны принадлежит только ей, и негоже посторонним вторгаться туда даже с целью похвалы и прославления. И все же я не могу не сказать о ее замечательном сыне – Антоне Носике. Его гражданская, коммерческая, благотворительная деятельность – все это часть публичной истории. Но бегать между машинами, чтобы помочь подслеповатым друзьям Виктории Валентиновны найти в темноте подъехавшее такси, – это не история, это просто человечность, унаследованная от матери.
Многое из тогда построенного не сохранилось. В истории (особенно в еврейской истории) вообще мало что сохраняется. Сохраняется еврейский народ, сохраняется человечество, сохраняются добрые чувства вопреки вражде, обстоятельствам и конфликту идеологий. Сохраняется надежда, которая, как известно, умирает последней.
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.51.77.002
Светлана Амосова
Очерки русско-еврейского именника
О Виктории и других
В статье я продолжу тему выбора имен у евреев в XX веке в ассимилированных семьях, а также в смешанных русско-еврейских семьях. Эта тема неоднократно рассматривалась в ряде работ5. Основной традиционной моделью для выбора имени у новорожденного в ашкеназских семьях являлся выбор имени в честь умершего родственника или какого-либо уважаемого человека. Главным правилом являлось то, что нельзя назвать ребенка в честь еще живого человека. При этом в российской еврейской среде конца XIX – начала XX века, для большей части которой основным языком все еще оставался идиш, были распространены именно идишские варианты еврейских имен.
Ассимиляционные процессы XX века, введение светского бракосочетания в начале 1918 года, отказ от религиозных и иных традиций, советский городской «космополитизм» – все это стало причиной появления и роста смешанных браков у различных этнических групп. Выбор имени для новорожденных в таких семьях не часто становится объектом отдельного изучения, хотя это довольно интересное явление: то, каким образом семья выбирает ту или иную традицию, объясняет появление того или иного имени в семье. На примере выбора имен в семье Кирштейнов – Баршаев – Марголиных, к которой принадлежит юбиляр, мы видим, как менялись тенденции имянаречения у евреев в больших городах, как выбирали имя в смешанных русско-еврейских семьях6. Большая часть семьи переехала из еврейских местечек Белоруссии в Москву в 1920-е и последующее столетие жила в этом городе. История еврейских имен семьи рассказана самой Викторией Валентиновной. Для сравнения мы будем привлекать материалы из экспедиций в бывшие еврейские местечки.
Переезд евреев в большие города и ассимиляционные процессы привели к тому, что стали меняться идишские имена, которые звучали слишком странно или просторечно для городской русскоязычной среды. Обычно имя могло меняться в двух случаях.
Первый – это смена имени уже взрослого человека, который отказывается от своего традиционного имени и выбирает обычно какое-то созвучное имя или же перевод, когда выбирался русский литературный вариант имени из Библии (не идишские варианты Аврум, Ицко или Сурка, а Авраам, Исаак и Сара соответственно). Во второй половине XIX – начале XX века купцы и студенты, проживавшие в Москве и Санкт-Петербурге, регулярно писали прошения об официальном изменении имен с еврейских на христианские, но получали отказы. Большинство ответов на прошения сводились к тому, что менять имена и отчества, записанные в еврейских метрических книгах, нельзя. Считалось, что такая замена имен приведет к путанице в документах. Эти просьбы стали причиной того, что была осуществлена попытка составить нормативный список еврейских имен и их эквивалентов, но она не увенчалась успехом. Государственная комиссия 1888 года постановила, что евреи могут использовать только то имя, которое было указано в метрических списках, и изменять его не могут; в 1893 году Государственный совет принял решение о том, что такая замена будет караться законом7. Однако после 1918 года этот вопрос решался легко – нужно было лишь дать объявление в газете и заплатить государственную пошлину. Однако зачастую евреи не меняли имя официально, но в различных сферах общения использовали его русифицированный вариант.
Второй вариант смены имен – это выбор имени младенца, которого называют в честь умершего родственника уже новым вариантом имени. При выборе часто действовали вполне определенные правила – новое имя могло быть созвучным старому, быть переводом еврейского имени на русский или же просто начинаться на ту же самую букву. Все эти тенденции хорошо видны в истории семьи Виктории Валентиновны.
Особенно мне нравится, что у меня есть тётя Арина, Арина Львовна Марголина, она была названа в честь своего дедушки Арона. Потом, моя тётя, царство небесное, Вера, она жила в Минске. Я когда была в Минске, конечно, её посещала. Она такая замечательная была, с чувством юмора таким. Я говорю: «Откуда у тебя такое русское имя?» – «Ты что, не поняла? Это в честь моей бабушки Двейре». То есть Двойра. Оказывается, все эти Веры еврейские от Двойры.
Мама всегда была Гита Моисеевна, и всегда была, есть грамота от Сталина. Во время войны: вот вы бьёте немецко-фашистских захватчиков, большое вам за это спасибо. Вот вам бумажка за это, грамота. [Почему Гитой назвали?] Ну Гита это вообще «хорошая» – гит, Гитл. <..> [В честь кого её назвали?] Мою маму? Есть такое семейное предание, что была у них какая-то в роду красавица, которую так и звали Шейна-Гитл – красавица Гитл, и когда родились две девочки практически одновременно, одну назвали Шейне – то есть Соня, Шейна – Соня, а другую назвали Гитл. Вот ту какую-то красавицу-праматерь они и разделили. <..>

Илл. 1. Грамота участнику Великой Отечественной войны Кирштейн-Мочаловой Гите Моисеевне, 1942 год (личный архив В. В. Мочаловой)

Илл. 2. Извещение о помолвке Сони Гиршевны Марголиной и Моисея Яковлевича Керштейна 17 августа 1904 года (личный архив В. В. Мочаловой)
Но вообще были очень распространены двойные имена, даже было такое смешное. Вот мой дедушка – это Янкель-Лейб, еще один дед моего двоюродного брата – Гирш-Лейб, то есть он Григорий-Лев, это просто переводится. И вот там двух девочек записали, отчество одну по Гиршу, другую по Лейбу – Григорьевна и Львовна там. Вот. Очень-очень распространены двойные имена, не в моём поколении, а вот в предыдущих. <..> Мою бабушку тоже почему-то… её звали Сара, но при этом она была Соня, может быть, она была Сара-Соня, Соня Марголина, она тоже была такая красивая бабушка. Я не видела её документов, но у меня есть такая карточка, как визитка, где написано, что Соня Гиршевна Марголина и Яков-Лейб Кирштейн помолвлены. Считать ли это документом, не знаю. Она там Соня, а не Софья.
Моего дедушку звали Моисей Яковлевич, очень легко – прадедушка Яков, но так как это Польша – Белоруссия, то его звали Янкель. Даже у Мицкевича есть такое еврейский персонаж, которого зовут Янкель. Это уже русифицировано: Яков – это Янкель, и ещё такая распространенная вещь, например, брать первую букву от имени, когда называют новорожденного. Например, умер дядя Рувим. В семье родились одновременно мальчик и девочка, а до этого незадолго умер старший родственник, его звали Рувим, так ребёнка мужского пола назвали Рудольф, а ребёнка женского пола назвали Рива, то есть эту букву Р они передали. То есть вот в честь Рувима Баршая, и вот Рудольф Баршай – музыкант, царство небесное, он в честь этого Рувима, вот эта Р, только одну букву передали, но она хранит память. Буквы же священные, это не просто так. Так и моя тётя Арина, от Арона.
Довольно важный культурный аспект бытования еврейских имен отмечает в своем рассказе Виктория Валентиновна – это наличие диминутивов и домашних имен. Зачастую в разных интервью люди говорят о том, что могли не знать полного варианта имени, и даже на мацевах на русском языке могли быть указаны диминутивные формы имени.
Почему-то моего дядю Льва Рафаиловича Марголина звали Нёня, другого имени у него не было, в смысле все родственники, друзья… Как Лев превратился в Нёню, я не знаю. И у моей мамы был брат, он умер в детстве, его тоже звали Нёнечка, его тоже звали Лев. Но он рано умер. Вот как-то эти имена. Вот я смотрю даже знаменитый музыкант – Яша Хейфец, его же не называют Яков. Он всегда Яша Хейфец, это его официальное имя, когда детское имя переходит во взрослую жизнь. Мне это кажется странным, но это распространённая традиция.
Только вот совершенно не понятно – моя тётя Люся. Все её дома называли Люся, только когда я занималась похоронными делами, ну документами, она оказалась Ревекка Моисеевна. Как из Ревекки получилась Люся, я не знаю. Это никогда не было темой для обсуждения, она была Люсей всегда. Нет, это, конечно, такое распространённое уменьшение. Моя кузина, которая живёт в Реховоте, её тоже надо называть Люсенька, хотя официально она Елена. Как происходит это превращение, я не знаю, но бывают какие-то домашние имена. Но это очень смешно: Люся – Ревекка Моисеевна.
Все эти тенденции, столь распространенные в еврейской традиции XX века, были и в семье Виктории Валентиновны. Однако уже во втором городском поколении тенденция выбора имен начинает стремительно изменяться. Это связано и с городской средой, в которой происходят ассимиляционные процессы, и с тем, что это была уже русско-еврейская семья. В смешанных русско-еврейских8 семьях правила выбора имен для детей естественно менялись. Можно описать несколько стратегий для выбора имен в таких семьях.
– Идея компромисса, когда выбирается имя, в которое каждая из сторон семьи вкладывает свой смысл.
Я назвала свою дочку Соня, потому что в семье уже были Вера, Надежда и Любовь, но вся еврейская родня считает, что её назвали за их бабушку9.
– Идея компромисса сохраняется и в еще одном случае: когда появляются двое детей, каждая из сторон выбирает имя для одного из детей в соответствии со своей традицией.
Нашу Алку назвали, бабу звали Алта-Доба, и её назвали Алка. Лёша родился на Алексеев праздник, 30 марта. Алексей – божий человек. Назвали Алексеем10.
– Выбирается этнически нейтральное имя, которое не было распространено в русской среде и не воспринималось соответственно носителями разных традиций как очень православное, а следовательно, этнически маркированное. Такими именами могли быть новые имена (например, Светлана) или имена литературных персонажей; такие имена могли выбирать не только родители детей в смешанных браках, но и люди, которые, например, хотели отказаться от этнических традиций, выбрать ребенку новое в честь какого-то советского героя или же просто модное имя.
Приведем пример «нейтрального» имени, которое не связано с еврейской традицией, но и не воспринимается как православное:
Уже я своего ребенка называла ни в честь кого, ни в честь никак. Мне было важно, чтобы было какое-то такое имя… ну, не очень экзотическое. Я не знаю, где и как этот ребенок будет жить, брак у меня смешанный, у меня муж русский, он имеет право ходить в православную церковь, хочет пойти в синагогу – никто не выгонит, поэтому мы не хотели изначально давать ему чисто еврейское имя. В его ситуации это тоже неправильно. Мы долго выбирали что-то такое нейтральное, я не знаю почему – мы выбрали имя Ромка, Роман. Вполне так нейтрально, мы очень ждали девочку, девочке мы выбрали имя Анна. Мы решили: будет жить в Германии – будет Анхен, будет жить во Франции – будет Анни, будет жить в России – будет Анюта. Вот так решили, нам очень нравилось это имя, но девочка у нас не получилась. Но у нас есть Роман Николаевич, который уже знает, что он еврей11.
Именно в соответствии с этими тенденциями были выбраны имена для сестер – Нина и Виктория. Как отмечает Виктория Валентиновна, «мою сестру звали Нина, в честь кого вообще не знаю».
Нина становится модным и популярным именем в 1930-е годы. Как отмечает исследователь русского и советского именника В. А. Никонов, в этот период оно вошло в тройку самых популярных женских имен12. Оно не было характерно для более ранней русской или христианской традиции, несмотря на то что оно есть в христианском именнике. Однако это очень популярное имя для литературных героинь XIX века начиная с «Маскарада» М. Ю. Лермонтова и далее13; постепенно оно начинает входить в круг аристократических имен. Как пишет литературовед А. Б. Пеньковский, сложился определенный «миф о Нине»:
Нина этого мифа – прекрасная женщина, живущая всепоглощающими страстями, которые она не может удовлетворить и во имя которых готова пренебречь принятыми в обществе нравственными законами…14
Однако слишком частое использование этого имени в литературных текстах и отсылка к одному и тому же уже ставшему шаблонным образу, а далее некоторое его «снижение» в литературных текстах приводит к ироничной заметке Виктора Шкловского в «Гамбургском счете» (1910–1930-е годы):
В одной редакции редактор спрашивал, получив толстую рукопись:
– Роман?
– Роман.
– Героиня Нина?
– Нина, – обрадовался подающий.
– Возьмите обратно, – мрачно отвечал редактор15.
Нужно отметить, что имя Нина вообще не распространено в еврейском ономастиконе XX века, оно было характерно для городской русскоязычной среды 1920–1930-х годов.