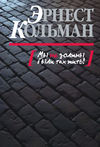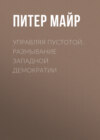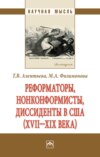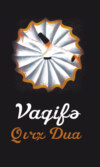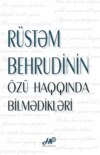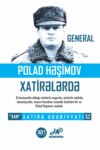Kitabı oxu: ««Викторианский сборник»: к юбилею Виктории Мочаловой», səhifə 2
Имя Виктория имеет совершенно другую культурную историю, оно не было частотным до 1940-х годов. В 1930-е становится популярным мужское имя Виктор, а вот женский вариант появляется лишь после окончания войны. Виктория Валентиновна одной из первых получила имя, которое станет в дальнейшем популярным и заметным в именнике. О выборе своего имени она рассказывает так:
Они [родители] фронтовики оба, тут победа наступила, тут я родилась, как ещё можно назвать?
Со мной ведь всё просто: родители были на фронте, где меня и зачали, а поскольку я родилась в День Победы, то вариантов особенно не было – ПОБЕДА!
То есть здесь выбор имени обусловлен историческими событиями, ребенку дается имя, соответствующее случаю. Надо сказать, что тенденция выбирать имена по случаю и называть в честь какого-то важного праздника, события или революционного деятеля стала весьма популярной после революции, особенно в городской среде, когда выбирались имена, имеющие определенную семантику (например, Октябрина в честь очередной даты Октябрьской революции или Кармий в честь Красной армии), но уже в 1930-е годы такого рода имена и эта традиция почти исчезает. В 1940-е годы такие имена уже не пользовались популярностью, но окончание Великой Отечественной войны ненадолго традицию возродило. Вот тут нужно отметить, что имя Виктория получило распространение не только в русской, но и в еврейской среде, оно стало довольно заметным именно в этот период именно в городской среде16.
Что касается выбора имени для сына, то Виктория Валентиновна отмечает, что никакой связи с еврейской или еще какой-либо традицией здесь нет. Это модное на тот момент имя:
А своему сыну я выбрала имя по звучанию, мне всегда нравилось, кроме того, Антуан де Сент-Экзюпери, ну мне нравились и носители этого имени, я думала, что если будет мальчик, то будет Антон, если девочка, то Анна. Чисто фонетически, никаких заморочек у меня на эту тему не было. Да и у всего моего окружения… Может быть, только религиозные. Если я вижу, что кого-то зовут Антон, то я понимаю, какого он поколения, он примерно как мой сын, вот в таком диапазоне. <..> Когда идёт мода – это сплошняком.
Борис Винер, анализируя имена в различных этнических и смешанных семьях Ленинграда, пишет о том, что имя Антон была весьма популярно у русских и в смешанных украинско-русских и белорусско-русских семьях, но не пользовалось популярностью у евреев и в смешанных русско-еврейских семьях17. Здесь перед нами новая городская традиция выбора имен, основанная на русском языке и модных тенденциях времени.
Семейная история показывает не только то, как меняются имена в одной семье, но и различные стратегии выбора той или иной идентичности, важности того или иного события в жизни семьи, культурные ориентиры. Выбор имени для ребенка строится не только на личных предпочтениях, он обоснован рядом других факторов: языка, идентичности, следования модным тенденциям и пр.
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.30.66.003
Галина Зеленина
«Скрытые звезды» сефардистики
Подобное приличествует присовокуплять к подобному, например, преподнося даме ученой и прекрасной во всех отношениях очерк о других ученых и прекрасных дамах. Вместе с тем следует не утомлять глаз единообразием, но развлекать его контрастом, например, заменяя любезную сердцу юбиляра Восточную Европу иными, более восточными ландшафтами. Сими нехитрыми соображениями и обусловлен мой выбор.
За последние несколько десятилетий в сефардистике (так мы, выбирая краткость и пренебрегая некоторой неточностью, назовем исследования испанского и постиспанского (сефардского) еврейства позднего Средневековья и Нового времени, включая историю конверсо, крещеных евреев на Пиренейском полуострове и в Новом Свете), пережившей всплеск в конце прошлого века в связи с резонансным 500-летием изгнания евреев из Испании и другими факторами, появилась плеяда замечательных исследовательниц, пришедших в науку в 1970–1980-х годах, которые тем не менее, как правило, известны узкоспециально, внутри той или иной проблематики, или локально, внутри той или иной региональной историографии, в то время как академический ландшафт определяют мужчины и поставленные ими «большие» вопросы: о подлинном значении евреев в истории Испании, о подлинной религиозной идентичности конверсо и о подлинных мотивах инквизиции.
Задача этого очерка, чью эвристическую ценность не стоит преувеличивать, – проследить академические и научные траектории этих исследовательниц в сравнении с профессиональными судьбами и интересами двух-трех поколений мужчин – столпов сефардских исследований ХX века; иными словами – написать портрет меньшей младшей группы второго гендера на фоне большей старшей группы первого.
В контрольную фоновую группу следует включить, прежде всего, Америко Кастро (1885–1972) и Клаудио Санчеса-Альборноса (1893–1985), крупных испанских (долгое время – в изгнании) ученых – историка культуры и медиевиста, участников многолетней полемики: Кастро ввел понятие «гармоничного сосуществования» (convivencia) трех «рас», культур и религий на Пиренейском полуострове в Средние века и высоко оценивал вклад иудеев и конверсо в становление испанской культуры и национального характера, называя евреев «плющом и одновременно стволом испанской истории» и обнаруживая еврейские корни у самых разных феноменов испанской жизни раннего Нового времени, включая административную и финансовую системы, медицину, поэзию и драму, «симфонию» государства и церкви и доктрину «чистоты крови», в то время как Санчес-Альборнос сокрушался о том, что изгнание этих «богоубийц и эксплуататоров» произошло так поздно и они слишком долго притесняли приютивший их испанский народ, выколачивая налоги и промышляя ростовщичеством. Другая подгруппа – еврейские историки, прежде всего Ицхак Бэр (1888–1980), автор двухтомной «Истории евреев в христианской Испании» и сооснователь иерусалимской историографической школы, видный представитель лакримозного, по выражению С. У. Барона, взгляда на еврейскую жизнь в диаспоре, представляющий долгую историю испанских евреев как многогранную и славную, полную разнообразных достижений, но трагическую из-за притеснений христиан. С ним солидарен его ученик Хаим Бейнарт (1917–2010), отстаивавший подлинную еврейскую идентичность конверсо, восходивших на «мученический костер» за верность иудаизму; с ними не согласен ревизионист Бенцион Нетаньягу (1910–2012), утверждавший, что крещеные евреи за пару поколений отошли от веры предков и ассимилировались, и инквизиция это понимала и руководствовалась отнюдь не религиозным рвением, а политическим расчетом и «расовой ненавистью». Так или иначе, перед нами большие нарративы, оперирующие судьбами целой субэтнической группы, приписывающие ей единую идентичность и общую страдательность и не склонные к дифференцированию и нюансировке, в частности, по гендерному признаку.
Первую из героинь нашей «экспериментальной» группы, Аниту Вайнгорт-Новински (1922, Стахув – 2021, Сан-Паулу), с мэтрами испано-еврейских исследований роднит долгожительство, хотя и не только оно. Анита родилась в межвоенной Польше и вскоре была увезена родителями в Латинскую Америку. Из-за эмиграции и других обстоятельств ее академическая карьера была какой угодно – многогранной, мультидисциплинарной, в итоге блестящей, только не прямой и быстрой. В 1956 году, в 34 года, она получила степень бакалавра в Университете Сан-Паулу, потом два года изучала психологию и только в 1970-м, в 48 лет, защитила диссертацию по социальной истории. Важным поворотом в ее исследовательской деятельности стало получение доступа к фондам Torre do Tombo, государственного архива Португалии в Лиссабоне, где отложились десятки тысяч инквизиционных дел, в том числе из Бразилии. На этих материалах Вайнгорт-Новински написала целый ряд книг по истории инквизиции и «новых христиан» в Бразилии. Следующий важный этап в ее карьере – постдок в EHESS, Высшей школе социальных наук в Париже, где она посещала курс Робера Мандру, ученика Люсьена Февра и представителя второго поколения школы «Анналов», по истории ментальностей и написала под его руководством вторую диссертацию. Кроме того, она слушала лекции Мишеля Фуко, Ролана Барта, Юлии Кристевой, участвовала в семинарах Леона Полякова по антисемитизму и расизму. Примечательно, что ее ученица в некрологе «Школа Новински: наследие Аниты» пишет про учебу в Париже как «один из самых важных моментов в формировании молодой Аниты». Вайнгорт-Новински в тот момент было уже за 60, она всего на год моложе своего учителя Мандру, но возраст не помешал ей усвоить новую для себя историографию и методологию и ввести обсуждение французских авторов в курсы для аспирантов в Университете Сан-Паулу, где она преподавала (с 2015 года – emerita). В 2000-е годы она была увлечена созданием Лаборатории исследований нетерпимости и проектом Музея толерантности: теперь ее интересовали не только марраны, но и другие категории жертв инквизиции, рабство, геноцид, права человека и даже права животных. За долгие годы она воспитала множество учеников, и перечень школы Новински включает три десятка фамилий – как еврейских, так и португальских. Как историк и защитница прав человека она была публичной фигурой и много выступала с интервью и открытыми лекциями: с сияющей улыбкой, в нарядах разных оттенков розового, на фоне подноса с графинчиками с разноцветными жидкостями (занятия геноцидом не повредили латиноамериканской жовиальности). В частности, в 2005 году она снималась в документальном фильме «Скрытая звезда Сертана» о криптоиудейских семьях в Сертане («внутренней» Бразилии), у которого было позаимствовано название этого очерка.
Вайнгорт-Новински написала более десятка книг о бразильской инквизиции и марранах, в том числе: «Новые христиане в Баии, 1624–1654» (1972), «Описи имущества, конфискованного у новых христиан в Бразилии» (1978), «Кабинет расследований: беспрецедентная „охота на евреев“» (2007), «Евреи, которые построили Бразилию» (2016). В ее собственных работах и в продуктах ее чрезвычайно активной организационной и издательской деятельности (коллоквиумы, исследовательские группы, коллективные монографии и проч.) наблюдается приверженность к тем же метанарративам: как и Бенцион Нетаньягу, она видела в инквизиции насилие не ради чистоты веры, а ради чистоты крови, иными словами – «геноцид» и «расистскую ментальность», прецеденты «варварства», которое со временем породит Холокост. С немалой вероятностью она потеряла в Польше родственников и, как и Нетаньягу, писала об инквизиции отнюдь не отстраненно, а «в тени Холокоста». Как и Америко Кастро, она приписывала «новым христианам» значительную роль в становлении бразильской нации и идентичности. Однако большие темы ограничивались барьерами географическими – Атлантическим океаном, отделяющим Новый Свет от Старого, – и лингвистическими – португальским языком, делающим работы Новински доступными лишь португалоязычному академическому сообществу, и в итоге, при всей неординарной продуктивности и общественном темпераменте, в мировой науке она оставалась фигурой достаточно маргинальной, «скрытой звездой Сертана».
Следующая по старшинству – Алиса Меюхас Гинио (р. 1937), уроженка Иерусалима, вся академическая карьера которой разворачивалась в Израиле: первые две степени она получила в Еврейском университете в Иерусалиме, третью – в Тель-Авивском университете, где затем и состояла доцентом, профессором и, наконец, заслуженным профессором. Докторат и первые ее работы были посвящены иудео-христианской полемике в позднесредневековой Испании, прежде всего трактату «Крепость веры» (Fortalitium fidei) Алонсо де Эспины: в конце 1990-х она издала в серии «Еврейские источники Кастильского королевства» (Fontes Iudaeorum Regni Castellae) аналитический обзор самой антииудейской части этого трактата – «О войне иудеев» (De bello Iudaeorum), а затем монографию «Крепость веры: мировоззрение Алонсо де Эспины, испанского монаха». Но со временем Алиса Меюхас сосредоточилась на истории сефардской диаспоры и литературе на ладино. В 2014 году она издала книгу «Между Сефарадом и Иерусалимом: история, идентичность и память сефардов». Ее обложку украшает фотография из семейного архива: 1924 год, Морено Меюхас, в костюме-тройке, отправляется в Париж учиться на инженера, порвав с традицией предков-раввинов; его провожает бабушка в традиционном сефардском платье. Начиная с изгнания из Испании и заканчивая обзором сефардской темы (или ее отсутствия) в двухвековой еврейской историографии, рассматривая повседневную жизнь восточных сефардов и «духовный мир сефардских женщин» на материале литературы ладино, Меюхас Гинио обсуждает процессы модернизации в османской еврейской общине на примере иерусалимского семейства Меюхас, представители которого из поколения в поколение становились раввинами и шадарим – посланцами иерусалимской общины и ее раввинских институций в разные города восточной диаспоры. Со смертью деда автора в 1941 году раввинский и сефардский период в истории семьи закончился: Меюхасы больше не говорили на ладино, сменили традиционную одежду на европейское платье и учились не в колелях, а в светских учебных заведениях.
Одна из одиннадцати внуков последнего раввина в роду Меюхасов, получив светское образование и ученую степень, Алиса внесла свой вклад в прорыв заговора молчания, сложившегося вокруг восточных сефардов, которых мэтры еврейской истории, равно как и сионистские политики со своим ашкеназским бэкграундом и культурным европоцентризмом, считали отсталыми и не заслуживающими внимания. Большинство «Историй еврейского народа» и учебников заканчивали историю испанских евреев изгнанием, а из дальнейших явлений сефардской истории удостаивали вниманием лишь лурианскую каббалу, саббатианство и Дамасское дело 1840 года, Меюхас же рассматривает изгнание из Испании не как конец истории испанских евреев, но как начало истории сефардов. Помимо этого географического и хронологического смещения – от мейнстримного испанского Средневековья к неизученному и обесцениваемому восточносефардскому Новому времени, Меюхас сдвигает и социально-тематический фокус в сторону микроистории и гендерной истории, делая объектом рассмотрения не ученую, придворную или финансовую элиту, а женщин и отдельно взятую семью в нескольких поколениях.
Американская исследовательница сефардской истории раннего Нового времени Мириам Бодиан (р. 1948) начала свое образование в Гарварде, а вторую и третью степень получила в Еврейском университете в Иерусалиме, преподавала в Пенсильванском университете, в Туро-колледже и в Техасском университете, где она сейчас professor emerita. В Гарварде она специализировалась на американской истории и литературе, а выбор еврейской истории и Иерусалимского университета концептуализирует как ответ на identity politics в США начала 1970-х годов, в частности, на умалчивание о еврейском происхождении в семье. Свой выбор сефардских исследований она объясняет реакцией на identity politics в Израиле конца 1970-х, подразумевая, вероятно, маргинализацию восточных сефардов и мизрахим. Метазадачей своей научной деятельности она считает «высветить многообразие (diversity) личных ответов на общие интеллектуальные, культурные и политические тенденции». Ее первая книга – «Евреи португальской нации: конверсо и община в Амстердаме раннего Нового времени» (1997) – и вторая – «Умирая в законе Моисея: криптоиудейское мученичество в иберийском мире» (2007) – посвящены во многом истории идей, «богатому и сложному идеологическому климату» в раннемодерной западносефардской общине, вольнодумцам и криптоиудеям by choice, самим выбравшим изобретать традицию предков и погибать за нее, «дискурсам религиозного несогласия», риторике республиканизма у «португальских» евреев и т. п. Выразители этих явлений – отдельные люди или немногочисленные группы, то есть предмет ее изучения, – личность и пусть значимые, но частные случаи, не сефарды en masse. Задачей автора видится выявление вторых планов, неочевидных связей и источников, ревизионизм нормативного еврейского нарратива; к примеру, она показывает, что реиудаизация сефардов Амстердама завершилась гораздо позже и происходила гораздо труднее, чем они сами утверждали; что религия была для них важна, но иберийская «нация» важнее; что криптоиудеи подпитывались не только еврейским духом, но и протестантской антикатолической полемикой, и алумбрадисмо, так что «новые христиане» на кострах инквизиции – это эпизод в истории не только еврейского мученичества, но и религиозных гонений и сопротивления раннего Нового времени. Не то чтобы она дезавуирует еврейский компонент – верность вере отцов, излюбленный традиционной еврейской историографией, но стремится показать, что картина была сложнее и полихромнее, и избежать больших нарративов.
Рене Левин Меламед (урожденная Рене-Клэр Левин) родилась в 1952 году в Нью-Йорке, по-видимому, во франкофонной сефардской семье. Училась в Университете Брандайза, иммигрировала в Израиль и диссертацию о женщинах в испанском криптоиудаизме писала уже в Еврейском университете в Иерусалиме под руководством Хаима Бейнарта. Работала в разных местах, в том числе в Институте Шехтера в Иерусалиме, где сейчас является заслуженным профессором. Первые ее монографии: основанная на диссертации «Еретички или дочери Израиля? Криптоиудейки в Кастилии» (1999) и «Вопрос идентичности: иберийские конверсо в исторической перспективе» (2004) – находятся в русле исследований марранов иерусалимской школой. Первую книгу, утверждающую, что дом конверсо был «бастионом культурного сопротивления, в котором женщины играли ведущие роли», «постились и соблюдали субботу и праздники», демонстрируя «выдающийся уровень соблюдения» и «нерушимую связь с еврейским народом», «идентифицировали себя с народом Израиля и надеялись достичь спасения через Закон Моисея», можно назвать женским вариантом работ Бейнарта, доказывавшего повсеместную преданность марранов иудаизму.
Сохраняя фокус на женщинах и неашкеназских общинах, Левин Меламед дрейфовала хронологически, касаясь сюжетов как более ранних, чем испанский криптоиудаизм, так и более поздних. Так, с 1997 по 2019 год она опубликовала целый ряд статей о женщинах в источниках из Каирской генизы, в том числе «Он сказал, она сказала: учительница в Каире XII века», реконструирующую историю неудачного брака, упорного труда и обретения молодой женщиной экономической независимости. Другая ее героиня – «рабби Аснат», Аснат Баразани, которая де-факто была рош-ешива в Курдистане в XVII веке. Наконец, в 2013 году Левин Меламед добралась и до ХХ столетия, издав книгу «Ода Салоникам: стихи на ладино Буэны Сарфати». Салоникийская сефардка, Буэна после начала нацистской оккупации пошла работать в Красный Крест; она конфликтовала с местными евреями-коллаборантами, которые в отместку убили ее жениха в день свадьбы, была арестована, бежала из тюрьмы и ушла к партизанам, спасала еврейских детей, перевозя их в Турцию или Палестину. Свой опыт она запечатлела в стихах на ладино, а после войны, уехав в Монреаль, написала мемуары; ее литературное наследие стало основным источником в монографии Левин Меламед.
Последовательно разыскивая в источниках разного времени деятельных женщин, расширяющих гендерные границы, исследуя тему женской агентности, Левин Меламед сделалась одной из ведущих фигур в области еврейской женской истории; в 2001 году она выступила редактором сборника «„Возвысь с силою голос твой“: о женских голосах и феминистской интерпретации в иудаике», а впоследствии стала главным редактором «Нашим: журнала еврейских женских исследований и гендерной проблематики». В Институте Шехтера она возглавляет программу женских исследований. Кстати, сам институт, основанный в 1984 году совместно Еврейской теологической семинарией в Нью-Йорке и израильским движением традиционного (масорти) иудаизма как раввинская семинария, назван в честь Соломона Шехтера (1847–1915). Это ключевая фигура в истории американского консервативного иудаизма, а также в открытии Каирской генизы, откуда он привез в Кембридж около 150 тысяч фрагментов – последнюю порцию рукописных документов, оставив там уже только менее ценные печатные материалы, и чье значение для науки впервые внятно сформулировал. Эта аффилиация как нельзя более соответствует научным интересам Рене Левин Меламед: и ее изысканиям в материалах генизы – в области, начало которой положил Шехтер, и исследованию ученых женщин, занимавших традиционно мужские позиции, что обогащает пригодное прошлое (usable past) консервативного иудаизма – движения, в котором в последнее время заметную роль играют женщины-раввины и профессора.
Для сравнения, профессор испанского Университета Хаэна Мария Антония Бель-Браво (р. 1949), по образованию гебраист и историк-новист (лиценциат семитологии и доктор истории Нового времени), не совмещала еврейскую историю с женской проблематикой, а занималась ими последовательно: ее книги 1980–1990-х годов посвящены испанским евреям и конверсо («Аутодафе 1593 года: гранадские конверсо иудейского происхождения», «Католические короли и андалусийские евреи (1474–1492)», «Сефарад: евреи Испании»), а начиная с 2000-х годов выходят ее монографии по гендерной тематике – от истории семьи и испанских женщин в Новое время до экофеминизма. Этих монографий много, рецензии на некоторые весьма критичны и упрекают автора в отсутствии аргументации, ненаучности, бесконечном автоцитировании и публицистичности; на последнее указывает и название новейшей из этих книг: «Женщина в истории. Идеология и реальность, или Как превратить судьбу в возможность». По-видимому, занявшись после истории испанских евреев, оставшейся в прошлом, женскими исследованиями, Бель-Браво увлеклась их актуальностью, связью с социальной реальностью и позволила себе выйти за академические рамки.
* * *
Рассмотренные здесь пять научных траекторий не дают материала для каких-либо значительных выводов, но несколько тезисов все же стоит сформулировать.
Эти ученые позже, чем старшее поколение испанистов-гебраистов, пришли в науку, а потому неизбежно либо занимаются ограниченным ревизионизмом, как Бодиан, либо открывают новые регионы, как Новински, либо новых героев, как Левин-Меламед, обогатившая историю конверсо и восточных сефардов описанием женских судеб.
В отличие от ученых мужей из предыдущего поколения, приверженцев метанарративов и общенационального масштаба, эти исследовательницы отдают предпочтение частным и групповым сюжетам: индивидуальным кейсам, семейной истории – и избегают категоричных ответов на «большие» вопросы либо, по крайней мере, несколько сужают вопросы и снабжают ответы оговорками (как Левин Меламед). Даже быстрый взгляд на их творчество показывает, что «большие» и однозначные идеи (инквизиция – это геноцид и предтеча Холокоста; конверсы были верны своему народу; женщины сыграли и играют ключевую роль в изменениях в современном обществе) продвигать проще, чем открытия частного порядка, усложняющие уже известную картину.
Субэтническая приписка оказывается значимее и устойчивее хронологической: несколько исследовательниц переместились из Средних веков в Новое и даже Новейшее время, но не изменили сефардской тематике. Наконец, следует заметить, что проведенное сравнение было сравнением двух выборок не только разных гендеров, но и разных поколений. Если сопоставить работы этих исследовательниц с мужчинами-сефардистами тех же поколений: Йосефом-Хаимом Йерушалми (1932–2009), Дэвидом Гитлицем (1942–2020), Хайме Контрерасом (р. 1947) и др., – различия минимизируются, разве что интерес к женщинам останется стойким признаком женской историографии.
DOI: 10.53953/NLO.SEFER.2025.87.25.004
Pulsuz fraqment bitdi.